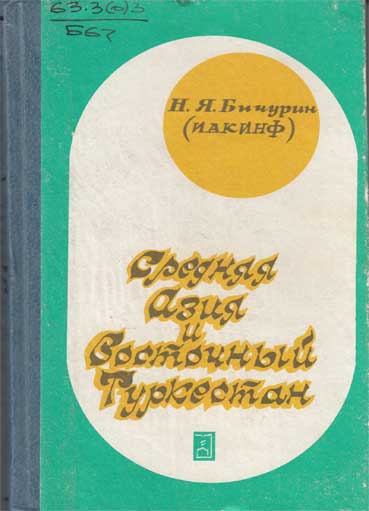Средняя Азия и Восточный Туркестан — Н. Я. Бичурин
| Название: | Средняя Азия и Восточный Туркестан |
| Автор: | Н. Я. Бичурин |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1997 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Книга выдающегося русского ученого Н. Я. Бичурина (1777-1853) „Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена" написана в 1846-48 г. г. Впервые издана в трех томах в 1851 году в Санкт-Петербурге, затем переиздана в 1953 году в Москве — Ленинграде. Этот труд давно стал библиографической редкостью, а между тем он является и поныне незаменимым пособием для историков. В нем автор приводит ценнейшие сведения о народах, в том числе и о казахах, обитавших в Средней Азии в древнейшие времена, об их письменности, культуре, хозяйстве, взаимоотношениях между собой и с государством Хань и др. Книга „Средняя Азия и Восточный Туркестан" открывается статьей видного русского востоковеда А. Н. Бернштама (1910-1956) о жизни и творчестве Н. Я. Бичурина. В конце книги даны приложения — три географические карты, список географических и иных терминов.
Пособие предназначено студентам, историкам, филологам, тюркологам, этнографам, географам, синологам и др.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Трехтомный труд великого сына чувашского народа, выдающегося синолога и тюрколога Н. Я. Бичурина (Иакинфа) „Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена" впервые был издан около 150 лет тому назад и до сих пор не потерял своей исторической ценности, значения и актуальности. В нем приведены редчайшие сведения об истории народов, проживающих в Средней Азии с III в. до н. э. по IX в. н. э.
Во второй раз произведение было издано в Санкт-Петербурге в 1951 г. Нами было использовано именно это издание. В предисловии предлагается объемная статья видного ученого А. Н. Бернштама с небольшими изменениями. В книге „Средняя Азия и Восточный Туркестан" собраны избранные сведения из II тома, относящиеся к истории только тюркоязычных народов. Текст передан с сохранением особенностей языка автора, но в орфографии и пунктуации приближен к нормам современного русского языка. А также прилагаются географические указатели и карты Старшей династии Хань (III в. до н. э. — I в. н. э.), Младшей династии Хань и Тоба Вэй (I — VI вв. н. э.) и династии Тан (VII—IX вв. н. э.). Цифры на полях указывают страницы из китайских источников, используемых автором. Ссылки Н. Я. Бичурина на источники и литературу и использованная им латинская терминология редактированию не подвергались.
Н. Я. БИЧУРИН (ИАКИНФ) И ЕГО ТРУД „СОБРАНИЕ СВЕДЕНИЙ О НАРОДАХ, ОБИТАВШИХ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА"
1. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИКИТЫ ЯКОВЛЕВИЧА БИЧУРИНА (1777—1853)
Выдающийся человек своего времени, Никита Яковлевич Бичурин, известный и под своим монашеским именем отца Иакинфа, представлял весьма колоритную фигуру.
Крупнейший ученый, намного опередивший свое время, „вольнодумец в рясе", Бичурин был связан с А. С. Пушкиным, декабристом Н. А. Бестужевым, такими передовыми людьми, как А. А. Краевский, В. Ф. Одоевский, К. М. Шегрен, И. А. Крылов, И. И. Панаев, А. В. Никитенко и др., с общественностью литературной Москвы,группировавшейся вокруг журнала „Московский телеграф".
Нетерпимый к проходимцам в науке и подлецам в политике, неутомимый в работе и остро реагировавший на события внутренней и международной жизни, Бичурин и при жизни, и много лет спустя после своей смерти вызывал самые разноречивые отзывы. Его нелицеприятие и резкость, активная защита своих убеждений, любовь к отечественной науке и высмеивание пресмыкавшихся перед иностранщиной, фактический атеизм, несмотря на клобук и монашескую рясу — все это вызывало к нему любовь и уважение, с одной стороны, ненависть и злобствующие выпады, с другой,
Биограф Бичурина Н. Щукин, лично знавший его, писал: „О. Иакинф был роста выше среднего, сухощав, в лице у него что-то азиатское: борода редкая, клином, волосы темнорусые, глаза карие, щеки впалые и скулы немного выдававшиеся. Говорил казанским наречием на о; характер имел немного вспыльчивый и скрытный. Неприступен был во время занятий: беда тому, кто приходил к нему в то время, когда он располагал чем-нибудь заняться. Трудолюбие доходило в нем до такой степени, что беседу считал убитым временем. Лет 60-ти принялся за турецкий язык, но оставил потому, что сперва должно знать разговорный язык, а потом приниматься за письменный. Так, по крайней мере, он говорил. Любил общество и нередко ночи просиживал за картами, единственно потому, что игра занимала его. Долговременное пребывание за границей отучило его от соблюдений монастырских правил, да и монахом сделался он из видов, а не по призванию".
Дополняют эту характеристику воспоминания известного болгарского ученого и общественного деятеля Ю. Венелина, который, посетив в 1839 г. ученого монаха в его келье в Александро-Невской лавре, писал, что Бичурин „вежлив, приветлив и приятен до чрезвычайности. Единственный в своем роде из всех петропольских ученых".
Монахом Бичурин сделался не по призванию.
Николай Малиновский, живший вместе с Бичуриным в ссылке в Валаамском монастыре, отмечал атеизм Бичурина. „Он (Бичурин.—А. Б.),— говорил Малиновский, — сомневался в бессмертии души". Атеистические убеждения Бичурина отмечают многие биографы, и не случайно один из них в списке литературы о Бичурине, наряду с трудом П. В. Знаменского „История Каханской Духовной Академии" (т. II, стр. 496 и 513) назвал и ... „Мелочи архиерейской жизни Н. С. Лескова.
Родился Никита Яковлевич 29 августа 1777 г. в селе Бичурине (по-чувашски Шинях) Чебоксарского уезда Казанской губернии, в семье дьячка, именовавшегося „дьячек Иаков" и даже не имевшего, якобы, фамилии, поскольку он был крестьянского происхождения. На восьмом году жизни Никита поступил в училище нотного пения в г. Свияжске, а в 1785 г. перешел в Казанскую семинарию, где и получил фамилию Бичурин, по селу, в котором родился. Блестяще окончив ее в 1799 г., он обратил на себя внимание главы казанской епархии Амвросия Подобедова. Бичурина убедили принять сан священника, и в 1800 г. он получил место учителя высшего красноречия в преобразованной в Академию той же Казанской семинарии, где учился сам.
В 1802 г. Бичурин, приняв монашество, был назначен архимандритом в Иркутский Вознесенский монастырь и там же определен редактором семинарии. Однако „блестящая" карьера его кончилась через год. Биографы перечисляют много причин окончания деятельности Бичурина в Иркутске и последовавшей затем ссылки в Тобольский монастырь преподавателем риторики в семинарии. Основными поводами к этому послужили нарушение Бичуриным монастырского устава и конфликт с семинаристами.
При отправлении очередной (девятой) духовной миссии в Китай синод назначил Бичурина начальником ее и архимадритом Сретенского монастыря в Пекине. История назначения и выезда Бичурина в Кяхту продолжалась с 1805 по 1807 г.г. Только 17 сентября 1807 г. Бичурин отправился из Кяхты в Пекин, куда прибыл 17 января 1808 г.; с этого года и следует начинать его научную биографию.
В Китае Бичурин с поразительной энергией принялся за изучение китайского разговорного, а затем письменного языка. Для этого он сам составил словарь, который за 14 лет его упорного труда достиг объема современных больших словарей. Трудоспособность Бичурина характеризуется такой частностью: этот словарь он лично переписал четыре раза. Но составление словаря было не единственной работой Бичурина. Биографы Бичурина уже неоднократно отмечали объем проделанной им за те же 14 лет работы. За это время им были написаны все основные труды, впоследствии изданные в России, или подготовлены для их исчерпывающие материалы.
Миссия и монастырь мало привлекали внимание Бичурина, хотя в архиве Синода и хранятся его донесения и рапорты по делам службы. Хозяйство миссии, не получившей помощи от русского правительства, отвлеченного событиями 1812г., пришло в упадок. Сменивший Бичурина Каменский столь образно охарактеризовал в своем донесении запустение в деятельности духовной миссии, что по возвращении в Россию в 1821 г. Бичурин был сослан в Валаамский монастырь со снятием сана, где и провел четыре года.
Помимо огромного количества личных научных материалов, Бичурин привез в Россию целый караван из 15 верблюдов (около 400 пудов) ценнейших китайских книг и в монастыре занимался переводами и обработкой накопленных в Китае материалов.
На этот раз Бичурина выручило блестящее знание китайского языка. В человеке с такими знаниями нуждалось Министерство иностранных дел. Вызволили его из ссылки известный китаевед Е. Ф. Тимковский. В 1826 г. Николай I „начертал" резолюцию: „Причислить монаха Иакинфа Бичурина к Азиатскому департаменту". Бичурин почти не посещал Азиатский департамент; он заперся в келье Алек-сандро-Невской лавры и принялся за реализацию своих трудов.
С выходом в свет в 1828 г. „Записок о Монголии" началась кипучая деятельность Бичурина как по завершению научных трудов, в значительной степени подготовленных в Китае, так и по публикации законченных работ. Фактически он развернул эту работу после возвращения из ссылки, т. е. с 1826 г.
Известный археолог и историограф Н. И. Веселовский писал об этом периоде жизни Бичурина: „С этого времени (1826 г.) начинается его неутомимая литературная деятельность, изумлявшая не только русский, но даже и иностранный ученый мир. Клапрот прямо высказал, что отец Иакинф один сделал столько, сколько может сделать только целое ученое общество".
В 1828—1830 гг. Бичурин опубликовал 6 книг и многочисленные статьи, которые он помещал в „Северном архиве", „Московском телеграфе", позднее в „Москвитянине", „Сыне отечества", „Отечественных записках" и других журналах. Командировка Бичурина в Забайкалье в 1830 г. обогатила русские фонды собранием тибетских и монгольских книг, а также коллекцией бурханов и других принадлежностей ламаистского культа, ныне хранящихся в Институте востоковедения и в Музее антропологии и этнографии при Институте этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР.
Вторично Бичурин оторвался от своих занятий в 1835—1837 гг., когда он ездил в Кяхту для организации там училища китайского языка. Для этого училища он написал и издал в 1935 г. грамматику китайского языка, которая была удостоена полной демидовской премии и переиздавалась четыре раза. Кстати отмечу, что Бичурин получил четыре демидовских премии: в 1834 г. — за „Историческое образование ойратов..." (не переводный, а самостоятельный исторический труд), в 1838 г. — за упомянутую „Китайскую грамматику", в 1842 г. — за „Статистическое описание Китайской империи с географическими картами" и наконец в 1851 г. — за переизданный ныне труд „Собрание сведений..."
После возвращения из Кяхты в 1837 г. Бичурин больше не покидал Петербурга, целиком уйдя в научные занятия. В этот период развивается также его публицистическая, литературная деятельность. Бичурин чутко относился к важнейшим общественно-политическим событиям своего времени, откликаясь на них прежде всего статьями в научных и литературных изданиях.
После выхода из Валаамского монастыря Бичурин устанавливает дружескую связь с А. С. Пушкиным, которому в 1828 г. дарит свою книгу „Описание Тибета" с надписью „Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика в знак истинного уважения. Апреля 26 1828 г. Переводчик Иакинф Бичурин" и в 1829 г. —"Сань-Цзы-Цзин" ("Троесловие" Энциклопедия XII в.) с надписью „Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика".
Погодин, вспоминая об известном литературном салоне князя Одоевского, замечает, что здесь „сходились веселый Пушкин и отец Иакинф (Бичурин) с китайскими, сузившимися глазками".
Вполне справедливо пушкинисты полагают, что интерес Пушкина к Китаю был возбужден Бичуриным. Так, Н. О. Лернер писал; „Интерес Пушкина к Китаю был не случайный. В его библиотеке сохранились книги о Китае, подаренные ему известным Иакинфом Бичуриным, знатоком и поклонником китайской культуры", а известный пушкинист Б. Л. Модзалевский заметил, что в „начале 1830 г. о. Иакинф как раз ехал в Китай (Кяхту.— А. Б.) и мог соблазнить Пушкина на путешествие с собой". Находясь в командировке в Кяхты*в 1831 г., Бичурин не порывает связи с Пушкиным. Из Иркутска он высылает Пушкину очерк „Байкал (письмо к О. М. С(омову))" для альманаха „Северные цветы" (1832 г.).
В этом альманахе Бичурин, пожалуй, единственный раз подписался инициалами своего гражданского, а не монашеского имени — Н(икита) Б(ичурин).
Пушкин знал Бичурина и как ученого. Напомню, что Пушкин читал работы Бичурина и использовал их в своих исторических трудах, прежде всего в „Истории Пугачева". Пушкин писал: „Самым достоверным и беспристрастным известием о набеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношении наши с Востоком. С благодарностью помещаем здесь сообщенный им отрывок из неизданной еще его книги о калмыках".
Речь идет о книге Бичурина „Исторический обзор ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени", которая частично печаталась несколько ранее в журнале Министерства внутренних дел.
Пушкин читал также „Описание Чжунгарии", „Описание Пекина", „Историю Тибета и Хухунора" и другие основные труды Бичурина.
Связь Бичурина с передовой общественно-политической и литературной средой проходит красной нитью через его биографию. Она началась с поднесения им своей книги „Описание Тибета" Пушкину и закреплена была дружбой с поэтом и связью с декабристом Н. А. Бестужевым, с которым он встретился в 1830 г. во время посещения Забайкалья. Н. А. Бестужев подарил ему сделанные из кандалов четки, которые Бичурин с большой любовью хранил всю жизнь и подарил затем своей внучатой племяннице Н. С. Моллер. Бестужевым же был написан маслом портрет Бичурина, хранящийся в Кяхтинском музее.
По-видимому, под влиянием встречи с декабристом Бестужевым Бичурин решил окончательно порвать со своим монашеским званием. В 1831 г. он подал прошение в синод о снятии с него духовного сана, поддержанное обер-прокурором Мещерским и Министерством иностранных дел. Однако, несмотря на согласие синода, Николай I „в 20 день сего мая (1832 года) высочайше повелеть соизволил: оставить на жительство по-прежнему в Александро-Не-вской лавре, не дозволяя оставлять монашество".
Очевидно, по мнению Николая I, Бичурина было уже опасно выпускать из поля зрения, а за одиночной кельей Александро-Невской лавры, где жил монах, симпатизировавший декабристам, было легче следить. Действительно, литературные связи, а главное литературная деятельность Бичурина внушали правительству серьезные опасения. Достаточно сказать, что Бичурин сотрудничал почти в двадцати периодических изданиях: „Сыне отечества",
„Московском телеграфе", „Телескопе", „Современнике", „Отечественных записках", „Журнале Министерства народного просвещения", „Северном архиве", „Русском вестнике", „Финском вестнике" и др. О Бичурине писали регулярно по меньшей мере те же двадцать русских журналов, из которых, пожалуй, только один занимал по отношению к нему враждебную позицию (имею в виду возглавлявшуюся Сенковским — бароном Брамбеусом — "Библиотеку для чтения").
С 1844 г. здоровье Бичурина сильно ухудшается. Он отрывается не только от круга знакомых, ученых и литераторов, но даже от прямых обязанностей по Азиатскому департаменту и, чувствуя большой упадок сил, дарит в 1849 г. почти всю свою богатейшую библиотеку и рукописи библиотеке Казанской духовной Академии.
Последний творческий подъем Бичурина относится к 1846 г., когда он приступил по поручению Академии Наук к созданию „Истории народов Средней Азии", оконченной им в 1848 г. и изданной в 1851 г. После этого Бичурин не возвращался к научной работе. Он скончался 11 мая 1853 г. в 5 ч. утра у себя в келье, одинокий и забытый, и 12 мая был похоронен в ограде лавры. На памятнике по-китайски было совершенно справедливо написано: „Постоянно прилежно трудился над увековечившими (его) славу историческими трудами".
Характерен один штрих. Накануне смерти Бичурина к нему пришел один из миссионеров, чиновник Азиатского департамента. Сначала Бичурин молчал, но „посетитель заговорил с ним по-китайски. Вдруг старец как бы выздоровел,— заблистали глаза, на лице появилась улыбка, ожил язык,— и, безмолвный прежде, говорил беспрерывно на любимом языке своем".
Такова в общих чертах биография этого замечательного русского ученого.
Известен Бичурин стал в 1828 г. после выхода в свет его первой же большой книги „Записки о Монголии". Расцвет публицистической и научной деятельности падает на 1839—1844 годы.
Труды Бичурина не могли не привлечь к нему внимания русской научной общественности и получили высокую оценку. В 1828 г. (17 декабря) он был избран членом-корреспондентом Академии Наук.
Отношение к трудам Бичурина было весьма неоднородно в русской прессе. И до Бичурина Россия выдвинула немало крупных и оригинальных ученых в области китаеведения (например, Леонтьева), но Бичурин был намного выше своих предшественников. Этого не могла не видеть научная и литературная общественность. Большинство рецензентов и редакторов журналов, где он печатался, наделяли его лестными отзывами и эпитетами.
Высоко оценивала труды Бичурина русская передовая литературная общественность. Так, „Телескоп" писал: „Трудолюбивый о. Иакинф не перестает разрабатывать обширные поля, на которых у нас не только соперников, но даже людей, которые б могли ценить его заслуги, любоваться, гордиться ими".
„Отечественные записки" называли Бичурина прямым и единственным теперь источником достоверных сведений о Китае, а „Сын отечества" справедливо писал о нем как о „почтенном синологе, известном, всей ученой Европе, пролившем совершенно новый свет на изучение Китая".
Интересно отметить отношение к трудам Бичурина за границей. Еще в 1831 г. он был избран членом Азиатского общества в Париже; через год вышли во французском переводе его „Записки о Монголии" в Nouveau Jounal Asiatique, переведенные также на немецкий язык. На французском языке сначала в том же журнале за 1829— 1830 гг., в затем в 1831 г. отдельной книгой в переводе Ю. Клапрота вышло его „Описание Тибета". Переведены были также на немецкий язык: „Описание Чжунгарии" и на французский — "Описание Пекина". Еще более значительными по количеству были пересказы работ Бичурина и рецензии на его работы. Здесь кстати будет отметить, ожесточенную полемику Бичурина с Клапротом. Последний широко пользовался его работами и в то же время подвергал их критике, на которую ему достаточно резко отвечал Бичурин. Однако ученые Западной Европы высоко ценили авторитет Бичурина. Чрезвычайно характерно в этом отношении обращение к Бичурину такого выдающегося французского синолога того времени, как Станислав Жюльен. Жюльен раскритиковал один из переводов своего соотечественника Потье. Последний резко ответил. Тогда Жюльен обратился в Бичурину как арбитру. Опубликовав свое критическое выступление против Потье, Жюльен воспроизвел и литографию письма на французском языке Бичурина от 12 ноября 1841 г., который в частности писал: „Знаете ли, почему г. Потье впадает в ошибки, переводя с китайского. От того, что он имеет ложное понятие о строении этого языка и старается недостаток сведений заменить своими догадками". В предисловии к своей книге Жюльен писал: „И кто, даже из не знающих языка, не убедится в ложности переводов г. Потье, когда о. Иакинф Бичурин, один из опытнейших синологов Европы, в письме ко мне вполне порицает систему его переводов".
Этот эпизод подчеркивает авторитет русского ученого, особенно если учесть, что Франция была одним из крупнейших и старейших центров китаеведения.
Любопытно, что когда известный английский писатель, переводчик и лингвист Джордж Барроу (1803—1881) жил в Петербурге в 1833—1835 гг., он брал у Бичурина уроки китайского языка. Британская энциклопедия, отмечая посещение Барроу Петербурга и знание им китайского языка, „скромно" замалчивает это факт.
Достоинства трудов Бичурина несомненны; однако он справедливо подвергался и критике современников. Об этом будет сказано ниже.
Бичурин, будучи человеком гуманным, резко реагировал на всякое проявление крепостнического произвола. Об этом говорят не только данные его биографии, но и такая, например, характеристика, данная его внучкой (упомянутой выше Н. С. Моллер):
„Относясь гуманно и сострадательно вообще ко всем крепостным, о. Иакинф всегда был защитником перед отцом и матерью моею в случае провинности кого-либо из наших людей. Когда же он узнавал, что кто-нибудь из них был отправлен в часть для наказания или в рабочий дом для исправления, то возмущался до глубины души и приходил в большое негодование".
Бичурин высмеивал библейские теории происхождения народов вообще (следовательно, и китайцев), резко выступал в защиту Китая от грабительских вторжений европейских держав, особенно в период опиумной войны. Развернутую точку зрения он изложил в 1848 г. в своем труде „Китай", где заявлял, что „европейцам есть чему поучиться у китайцев".
Это „наступление" на европейскую культуру вызвало ожесточенные нападки на него со стороны реакционной критики, которую возглавлял Сенковский. Достойно внимания, что Сенковский ополчился на Бичурина за то, что последний писал свои труды на русском языке. „Мы часто сожалеем, читая труды почтенного отца Иакинфа, что он не издает сочинений по-французски или английски. Русский язык до сих пор оставался и долго еще останется вне круга ученых европейских прений о предметах восточных, и самая запутанность, в которую повергнуты эти предметы гипотезами известных ориенталистов, еще увеличивается от появления нового диспутанта, изъясняющегося на языке, не получившем права гражданства в ориенталистике". И далее Сенковский писал: „...И все это потеряно для науки, потому что писано на языке, который еще не имеет прав на известность в ученом свете".
Если в начале своей научной деятельности Бичурин имел в качестве основного противника Юлиуса Клапрота, то теперь он нашел ожесточенного врага в Сенковском.
Для группы критиков типа Сенковского Бичурин был прежде всего „врагом европейской цивилизации". Их взгляды были схожи с теми, которые В. И. Ленин иронически называл взглядами „передовой" Европы, которая кричит „о цивилизации", „порядке", „культуре", и „отечестве".
В своем ответе критикам — Клапроту, а в основном Сенковскому — Бичурин отвергал все предъявленные ему обвинения, в частности в пристрастном отношению к Китаю.
Бичурин был патриотом и высоко ценил отечественную науку. Достаточно напомнить несколько его высказываний. Критикуя одну из географических работ о Средней Азии, напечатанную в „Отечественных записках" за 1843 г. (№ 11), Бичурин писал: „Если бы мы, со времен Петра Первого доныне, не увлекались постоянным и безразбор-чивым подражанием иностранным писателям, то давно бы имели свою самостоятельность в разных отраслях просвещения. Очень неправо думают те, которые полагают, что западные европейцы давно и далеко опередили нас в образовании, следовательно нам остается только следовать за ними. Эта мысль ослабляет наши умственные способности и мы почти в обязанность себе ставим чужим, а не своим умом мыслить о чем-либо. Эта же мысль останавливает наши успехи на поприще образования в разных науках. Если слепо повторять, что напишет француз, то с повторением и рассудок наш вечно будет представлять в себе отражение чужих мыслей, часто странных и нередко нелепых". Совершенно аналогичную мысль он высказывает и в другой статье, когда, вмешавшись в спор о мон гольской надписи времен Мункэ хана, защищая русского ученого Аввакума от критики его Шмидтом, он заявлял по поводу некоторых русских историков, державших сторону Шмидта: „Привычка руководствоваться чужими, готовыми мнениями, неумение смотреть на вещь своими глазами, неохота справляться с источниками, особенно изданными на отечественном языке: своему-то как-то не верится; то ли дело сослаться на какой-нибудь европейский авторитет, на какого-нибудь иноземного писателя, хотя тот также имел понятия о деле".
Эти заявления Бичурина были основаны на тщательном изучении трудов его современников, например, того же Клапрота. Напомним, что Бичурин прекрасно владел древними языками, греческим и латинским, хорошо знал немецкий и французский, изучал монгольский и турецкий.