Друг мой, брат мой… (Чокан Валиханов) Ирина Стрелкова
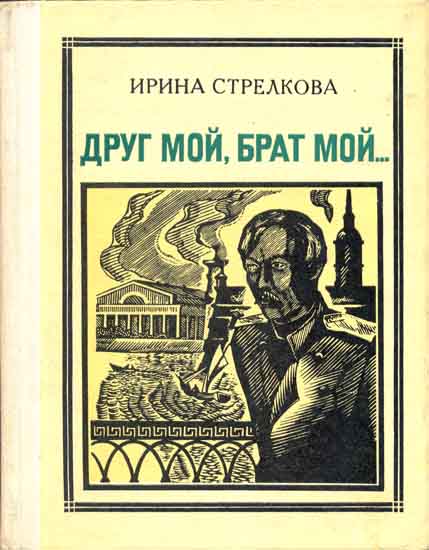
| Аты: | Друг мой, брат мой... (Чокан Валиханов) |
| Автор: | Ирина Стрелкова |
| Жанр: | Тарих |
| Баспагер: | |
| Жылы: | 1975 |
| ISBN: | |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Страница - 15
СТЕПЬ
Покидая Петербург не через год, определенный Достоевским, а через полтора, мог ли Чокан считать себя окончательно решившим, что делать?
Валиханов был политик зоркости чрезвычайной. Недаром его кашгарские наблюдения на многие годы вперед корректировали курс российской дипломатии в Азии - об этом не раз слышали от Егора Петровича Ковалевского ближайшие его сотрудники.
Прожив полтора года в Петербурге разведчиком от Степи, Валиханов многое увидел и многое понял. Для России миновала безвозвратно пора благих ожиданий и наступила всеобщая перепутица: кому куда... В необходимом выборе пути у Валиханова не все зависело от его убеждений. Вмешалась болезнь. К весне он стал вовсе плох, еле собираясь с силами, чтобы подтрунивать над докторами, что они самые эгоистичные индивидуумы на свете, ибо живут жизнью других. А весна 1861 года выпала в столице прескверная. В ночь на шестое мая повалил снег, и не было ему конца. В ту снежную ночь простудился, возвращаясь с тайной сходки,
* Впоследствии он был все же выслан в Иркутск.
Трубников и слег в постель. В отчаянии от слабости своей он не хотел сопротивляться болезни. Делу общему нужны люди здоровые и крепкие, как Потанин, который, готовя себя к трудностям путешествий, не готовил ли и к иным невзгодам, что сыщутся не за тысячи верст, а неподалеку, за стенами Петропавловской крепости?..
Возвращаясь домой, в Степь, Валиханов увозил с собой из Петербурга Трубникова, признанного докторами безнадежным. От Петербурга до Москвы поездом, а дальше в тарантасе по разбитым российским дорогам. Валиханов, сам больной, заботливо ухаживал за своим спутником. Трубников, когда хватало сил, приподнимался на сиденье и глядел жадно, прощально на чистую зелень полей, на деревенские жалкие избы. Господи, как мало знал он еще Россию, ради которой не пощадил бы жизни, если бы жизнь у него оставалась! Давняя мысль мучительная о сгущенности петербургской атмосферы подтверждалась все большими расстояниями от деревни до деревни. Но тракт оставался населенным густо, не убывало на нем тарантасов, кибиток, колясок, мужицких долгих обозов, и перли пешком в Сибирь с тузами на спинах потомки Ермака Тимофеевича. Трубникову представлялось, что нет в России дороги главнее, чем эта, идущая на восток.
По прибытии их в Казань к Валиханову в гостиницу явился солдат. Лицо как блин - Мухаммедзян Сейфулмулюков.
- Прибыл из отпуска по болезни. Имею приказ сопровождать ваше благородие.
- Куда сопровождать? - спросил Валиханов.
- Согласно командировочному предписанию, - твердо ответствовал денщик.
- А если я тебя не возьму?
- Воля ваша, - денщик осклабился, как бы упреждая, что воля его благородия тут уж будет ни при чем.
В раздражении Валиханов поехал объясняться с казанским гарнизонным начальством. Выходя из гостиницы, он увидел Сейфулмулюкова на лавочке у Борот. Крыса уже приступила к своим обязанностям. Интересно, чем Сейфулмулюков промышлял в Казани полгода, что числился уволенным в отпуск по болезни? Приглядывал за соплеменниками своими, добивающимися издания газеты на татарском языке? Или был приставлен следить за студентами-инородцами, что проторили дорогу в здешний университет, славящийся своими востоковедами?
Казанское армейское начальство никак не могло понять, чем обязано чести принимать у себя кашгарского героя. Неужто весь шум и переполох Из-за денщика? Замечен в пьянстве? В воровстве? Если нет, то капризы штабс-ротмистра султана Валиханова более чем неуместны.
- Мы позаботились найти для вас денщика-мусульманина, пригодного служить вам в киргизской степи. Уж не претендуете ли вы, чтобы в диком, простите, ауле за вами ходил денщик из православных? Не видим сие ни удобным, ни приличным. Или, быть может, вам приискать для поездки в Орду денщика из лютеран?.. - Начальственное остроумие показывало, что Казань не Петербург, и Валиханов не гордость русской науки, а всего лишь инородец. Можно ничего не сказать прямо, но все растолковать преотменно.
- Что с вами? - тревожно спросил Трубников, когда Чокан вернулся в гостиницу.
- Я чувствую себя разбитым нравственно и телесно. В Петербурге я не ощущал себя инородцем. Я с детства не знал себя инородцем, человеком низшей расы. Я был всегда равный с русскими однокашниками. И этим, Аркадий Константинович, многое в моей жизни определилось.
С болью выслушал Трубников рассказ Чокана о только что пережитом унижении.
После Казани Валиханова словно не радовали никакие приметы приближения к родным местам. Сменялись на почтовых станциях упряжки, сменялись ямщики.
- Гони! - сквозь зубы цедил Чокан, и в воздухе мелькал серебряный рубль. Весть о щедром ротмистре летела впереди. На станциях Чокану подобострастно кланялись. Он вспоминал, как встретили в Кашгаре богатого Алимбая. Был бы полон кошелек - сразу признают господином.
На облучке рядом с ямщиком покачивался неотвязный денщик.
- Один его вид меня терзает! - говорил Чокан Трубникову. - Я, кажется, начинаю понимать, что мечты мои о преобразованиях в Степи обречены на неудачу. На меня нападут с двух сторон. Ни один полководец не побеждал сразу двух противников. Но отступать я не собираюсь.
Они ехали степью к синеющим вдали горам. Чаще встречались березовые рощи, как островки в степи. Кокчетав оказался типичным уездным городишкой, однако мечеть выглядела богаче, чем церковь. Чокан остановился у чиновника-казаха, жившего на русский лад. Чиновник почтительно докладывал степные новости. Все аулы в положенный срок тронулись с зимовок, и Чингис тоже оставил Сырымбет и кочует, но его уже известили о скором прибытии сына, и Чингис передвинул аул на лучшее пастбище, ждет Чокана.
Отец его ждал, а Чокан не торопился. Ездил с визитами к местным властям, рассказывал о Петербурге и подолгу выспрашивал обо всем, что в Степи.
Меж тем все больше наезжало в Кокчетав посланных от Чингиса, и образовалась пышная свита, готовая сопровождать Чокана в отцовский аул. Наконец прискакал Мукан - веселый джигит, давний помощник Чокана в сборе степных песен и сказок. Чокан распорядился выезжать.
Ехали на трех тарантасах в сопровождении доброй сотни джигитов. Со всей степи навстречу стремились всадники. Мукан сказал, что многие приехали издалека, чтобы приветствовать знаменитого сына Чингиса. Чокан высовывался в оконце тарантаса, вглядывался в лица встречавших. Резкий степной ветер был ему опасен. Ближе к закату Чокана стал бить озноб. Свита уверяла, что можно засветло добраться до аула Валихановых, но Чокан распорядился заночевать в казачьей станице.
- Не стоит пугать родных, - сказал он Трубникову. - Достаточно того, что я появлюсь не в седле, как подобает моему возрасту и чину, а по-стариковски на колесах. Но жар - вот уж совсем некстати. Я должен его согнать до утра. Непременно.
Бородатый станичник в мундире и при медалях провел Валиханова и Трубникова в чистую горницу. Вкусно пахло печеным хлебом. Дородная хозяйка вынимала из печи огромный противень.
- Шаньги! - обрадовался Чокан. - Кабы знали вы, Аркадий Константинович, что за шаньги пекла Филипьевна, у которой в Омске квартировал Потанин. Он после на другую квартиру перебрался, так Пирожков и вся прочая наша братия потребовали, чтобы он Еоротился к Филипьевне: «Она дает шанег до отвала». - Вспоминая о днях юности, Чокан светло улыбнулся.
Польщенная вниманием богатого султанского сына к простой стряпне, казачка выставила на стол и шаньги, и глиняную миску сметаны, и мед в деревянном корытце.
- Водка у тебя есть? - спросил Чокан.
Она и глазом не моргнула - принесла графинчик и рюмки.
- Спасибо! - сказал Чокан. - Только я не стану пить. Простудился я в дороге. Обтереться бы.
Сквозь кружевные занавески можно было разглядеть, что на улице против дома собрались несколько десятков верховых казахов. Вышел к тарантасу денщик, и всадники его окружили.
Через некоторое время верный Мукан вернулся с улицы расстроенным:
- Что за человек ваш денщик? Люди его там расспрашивают про вас: «Что тюря* делает? Что собирается делать?» А он возьми и ляпни, что сейчас уложит вас спать и будет мазать водкой.
- Ну а люди что сказали на это? - напряженно выпрямился Чокан.
- Плохо сказали: «Пить, значит, недостаточно, а надо еще и себя мазать, вот так тюря!» А старик один еще и добавил: «Научился всему хорошему, нечего сказать!»
- Та-ак! - иронически протянул Чокан. - Мой денщик свою службу знает.
Утром его свита умножилась. От станицы дальше не стало накатанной дороги, тарантасы двинулись по степной целине на упряжках из казахских невыезженных лошадей. Гонцы летали туда и сюда, давая старому Чингису подробные вести о приближении сына.
Тарантасы, нещадно скрипя, въехали на пригорок, и внизу открылся многолюдный табор. Чуть в отдалении стояли две большие белые юрты. Мукан показал: одна юрта Чингиса, а другая старшего сына Жакупа, который нынче командует кочевками валихановекого аула.
- Вот мы и дома, Аркадий Константинович!
* Так называют султанов.
Трубников приготовился никак не мешать своим присутствием встрече Чокана со старым почтенным отцом, но тарантасы свернули в сторону и остановились в некотором отдалении от аула. Здесь уже были поставлены юрты для Чокана и его русского друга.
Согнувшись, Трубников шагнул в круглое войлочное жилище. Внутри оказалось светло. Свет шел сквозь отверстие наверху и сквозь решетчатые стены - там, где войлоки были откинуты. Полом служил толстый узорчатый ковер. Справа от входа стоял сундук с красивым узором, слева - кровать с резными спинками. Не решаясь разрушить пирамиду подушек на высокой узкой кровати, Трубников с наслаждением растянулся на ковре, трогал рукою узор, знакомый по рисункам Макы. А что, если он и вправду выздоровеет здесь и полный новых сил воротится в Петербург исполнить свою судьбу, для которой и нужно ему железное потанинское здоровье?
Сквозь решетчатые стенки видна была вся жизнь аула, постепенно наполнявшегося народом. Но закрытым оставался вход в юрту Чингиса, и Чокан еще устраивался в юрте по соседству с Трубниковым - оттуда слышался его мучительный кашель. Трубников понял, что приехал не просто в кочевой аул, а ко двору киргизского аристократа, где существует свой этикет.
Меж тем Чокан послал Мукана просить у отца приема. Посланный вернулся с вестью, что отец приглашает сына к себе. Старший брат Чокана Жакуп и с ним несколько двоюродных братьев пришли, чтобы сопровождать Чокана. Жакуп заметно стеснялся Чокана, робел перед братом, младшим годами, но достигшим в жизни больших чинов, почестей и наград. Робость старшего брата породила досадную оплошку. Когда Чокан и Жакуп подошли к отцовской юрте, старший опередил младшего и поднял перед ним дверь. Чингис недовольно нахмурился. По обычаю Чокан должен в знак почтения сам приподнять дверь. Что скажут в Степи?
Среди людей, приехавших поглазеть, как встретится Чингис со своим прославленным сыном, прокатился недовольный говор: «Не хочет и двери сам поднимать... Да уж, испорчен, испорчен, видно по всему».
Что болтали досужие люди, Чингис, конечно, после в точности узнал от тех, кто имел уши и слушал и докладывал повелителю своему. Но в тот миг за недовольством властного отца явилась пронизывающая боль отца любящего, отца, гордящегося самым сильным орленком в своем большом гнезде: «Как ты исхудал, Чокан! Какие тени недобрые легли на твое лицо!»
Чокан подошел к отцу, опустился перед ним на колени. Обеими руками Чингис притянул его к себе и поцеловал в лоб, горячий и влажный. Зейнеп тянулась к Чокану и жалобно причитала: «Мой Чокан, иди, иди ко мне, сын мой, иди, иди...» Чокан поднялся с колен и, сделав несколько шагов, почти упал к материнским ногам. Она плакала и целовала его лицо, и люди, стоявшие за дверью, уже знали, что Чингис рад приезду сына и дал ему отцовское целование, а мать опечалена глубоко болезнью своего любимца. Никто не вышел из юрты, и белый войлок не подняли, и дверь оставалась завешенной, но весь аул, и соседние аулы, и вся Степь уже знали, как ласково встретил старый Чингис вернувшегося из долгой отлучки сына. И откуда-то уже взялся радостный слух, что с приездом молодого султана, к слову которого прислушивается русское начальство в Кокчетаве, Омске и даже в Петербурге, непременно начнутся перемены в Степи, и жизнь станет лучше. Людям всегда хочется верить, что начнутся перемены, и непременно к лучшему. Люди не могут жить без радостных надежд, и они ищут, кто бы сгодился их надежды исполнить, и всегда находят такого человека, иной раз и ошибаясь, но чаще нет.
Этот слух, родившийся сам по себе ясным летним днем, очень скоро докатится до Семипалатинска. Расчетливый Мусабай зачтет его в убыток процветающей фирме, и Чокан никогда не увидит былого спутника в опасном странствии гостем своего степного коша.
Слух дойдет и до Омска и вызовет приступ ненависти у разбогатевшего на поборах с казахов Виктора Карловича Ивашкевича. Он и прежде недолюбливал в Валиханове счастливчика, губернаторского любимчика, делающего блистательную карьеру, заласканного в Омске и Петербурге. Всем опытом предателя он угадывал в Валиханове нравственную чистоту и - помня самого себя таким же чистым когда-то и верящим в идеалы - Валиханову напакостить был воистину счастлив. Теперь же с вестями, что народ ждет от сына Чингиса благодетельных перемен, чиновничье счастье само плыло в руки Ивашкевичу, и он не собирался его упускать, о чем сразу же известил приятеля своего по темным махинациям, губернского секретаря Густава Карловича Кури. Дружная парочка, ловко вертевшая всем в губернии, немедля принялась раскидывать умом, а прав был граф Блудов, когда говорил, что среди мздоимцев встречаются канальи с большим воображением.
Знал ли Чокан, искушенный в азиатской дипломатии, как много узлов завязало его появление в родной Степи? Не мог не знать.
...Он был усажен по правую руку от Чингиса, и перед ним тотчас же постлали скатерть и принесли кумыс в плоской чаше. «Пожалей и спаси», - попросил он, обращаясь не к аллаху, в которого не верил, не к духам предков, не к иным чарующим силам, а к началу собственной жизни своей, здесь, на этой земле, - и со словами этими, сказанными одному себе, он окунул сухие воспаленные губы в белый, густой, пахнущий детством кумыс и выпил чашу до дна, и почувствовал, как от земли, от травы, от кобылиц, которых он видел пасущимися в степи и пьющими воду из заросших камышом степных речек, - от всего побежала к нему живящая сила.
Если отломить ветку от зеленого дерева - ветка никогда не прирастет на прежнее место и не придут к ней соки от ушедших глубоко в землю корней. А человек может долго быть вдалеке от родины, оторваться от нее совсем, но однажды он вернется, и живая жизнь родины даст ему соки свои, и он услышит в себе, как врастает в оставленные когда-то корни.
Об этом думал Чокан, когда отпущенный ^ из отцовской юрты шел зеленым пригорком в свой кош, уже окруженный легкими шалашами для слуг и принявший облик его, Чокана, собственного кочевья. Там поджидал хозяина, окруженный нетерпеливой публикой, первый степной гость Чокана, известный акын Орунбай. Притащилась хитрая лисица!
Чокан прошел в свою юрту и велел слуге пригласить Орунбая да спросить Аркадия Константиновича, не охота ли ему послушать степного импровизатора.
Орунбай слыл в Степи певцом, приближенным к русскому начальству. Его посылали по аулам как пропагандиста, когда требовалось склонить народное мнение в нужную начальству сторону. С чем же явился старый хитрец к только что прибывшему на родину Чокану?
Пришел Трубников. Валиханов усадил его рядом с собой и дал Орунбаю знак начинать. Певец ударил по струнам домбры и запел. Голос его был высок и пронзителен - на слух непривычный, как у Трубникова, старик не пел, а кричал. Любопытные из аула частью проникли в юрту, частью слушали за открытой дверью. Трубников увидел и денщика-коллекционера, присевшего невдалеке от двери, поджавши ноги под себя.
Послушав, Чокан пояснил Трубникову:
- Он воспевает мой приезд в аул, мою персону и, разумеется, моих предков... мое путешествие к белому царю и горячую любовь царя ко мне - разумеется, не как к исследователю Кашгара, а как к потомку великих людей, которые всегда жили по обычаям казахским... - Он помолчал, послушал певца и добавил с раздражением: - На все случаи жизни у нас в Степи много готовых фраз, сочиненных когда-то умными отцами, на все новые веяния есть аргументы из седой старины. Орунбай попал на любимого конька и теперь не скоро с него слезет. Он вымазал меня патокой, как в Америке мажут дегтем, чтобы вывалять потом в перьях и пронести по городу на шесте... - Чокан опять умолк, прислушиваясь. - Кроме того, лесть такого сорта содержит если не угрозу, то настойчивый совет не проявлять собственной воли, а следовать обычаям и советам старших. Уж в этом-то Орунбай поднаторел изрядно. - Чокан усмехнулся. - Как видите, перед вами степной Фаддей Булгарин. Благодаря ему я теперь знаю, каким меня хотело бы видеть начальство. Натуральным киргизом, а никак не образованным и свободомыслящим русским!
Старик еще долго пел, показывая не только дар свой слагать поэтические строки, но и неиссякшие с годами физические силы и крепость глотки. Он закончил на высокой ноте, как бы взлетев над всей степью. Закончил и жадно ждал хвалы.
Чокан сдержанно поблагодарил его и спросил:
- Позволит ли Орунбай сделать ему небольшое замечание?
Певец в ответ залебезил, и Чокан методически перечислил ему татарские слова, которые не стоило вводить без надобности в казахский язык, и объяснил Орунбаю для каждого случая, какое следовало употребить казахское слово.
Трубников не понимал, о чем беседует его друг с льстивым певцом. Он только заметил, что слушатели одобрительно зацокали языками и с восторгом ловили речь Чокана и шумно выражали свое одобрение... Заметил Трубников и злобное выражение на лице денщика.
После Трубников натолкнулся за юртой Валиханова на Сейфулмулюкова и Орунбая, занятых тихой и деловой беседой. Как быстро такие люди находят друг друга!
...Утром Трубников проснулся с чувством совершенной легкости. Он понял, что значит жить в юрте, а не в четырех стенах. После он приедет в город, и ему еще дол/о будет не хватать воздуха в комнатах даже при настежь распахнутых окнах.
На ковре лежал приготовленный ему казахский костюм. Чокан предупредил Трубникова, что все русские друзья отца непременно переодеваются в ауле на казахский образец, потому что европейская одежда здесь неудобна, стесняет, утомляет. Трубников натянул длинную рубашку, штаны и вышел. На горушке Жакуп и еще двое разостлали на земле халаты и ждали первого солнечного луча, чтобы совершить утренний намаз. Чокан еще спал. Денщик молился усердно, всем видом показывая, как тяжко ему переносить неверие хозяина.
Явилась от Зейнеп служанка с большой чашкой кумыса. Трубников через силу стал пить, испытывая отвращение и к вкусу, и к запаху. Чокан спал. Он вышел из юрты только к полудню, объявив, что дал зарок ничего не делать, ничего не читать, ничего не писать, одним словом, не изнурять умственных способностей - в этом и будет заключаться лечение по способу, полученному Чоканом еще в юности от одного сибирского доктора, человека умнейшего в своем роде.
Пришли от Чингиса звать русского гостя к чаю. Трубников сразу полюбился хозяевам большой юрты рассказом подробным о петербургском житье-бытье Макы. Чаевничали сидя на ковре, за разостланной белой скатертью, и чайный прибор был из серебра, и на серебряных же подносах лежали груды фисташек и разного печенья. Кроме знакомого уже ему Жакупа, Трубников увидел других братьев Чокана: чем-то недовольного Кокуша, болезненного Козыке, толстячка Махмуда. По взглядам, по жестам, по репликам угадывались непростые отношения в валихановской семье. В обращении к отцу лишь у Чокана проскальзывали нотки противоречия. Остальные выражали только повиновение и послушание, разве что Кокуш иной раз - как бы уча отца - произносил нечто начетническое.
После чая принесли вареную баранину на плоском деревянном блюде. Чингис своими руками положил русскому гостю лучший кусок, с удовольствием толкуя, что жизнь в степи принесет Трубникову - а тем более Чокану - полное выздоровление.
К вечеру юрты были разобраны, и аул заночевал под открытым небом, готовый на заре двинуться в путь. Козыке привел к Чокану друга своего, молодого певца. Козыке и сам был изрядный музыкант. Всю ночь в таборе Чокана звучали то домбра, то кобыз, то сыбызга, песни пелись старинные и складывались новые - не такие, как у Орунбая, а вольные степные песни.
Назавтра с первым лучом солнца Жакуп сотворил утренний намаз, и аул тронулся в путь. Противу русского обычая одеваться в дорогу поплоше, все принарядились празднично. Молодые женщины в высоких остроконечных шапках, шитых жемчугом, вели связки по семь-восемь верблюдов. Нарядные девушки гарцевали верхом не хуже джигитов, и серебряные шолпы звенели в их косах.
Едучи в одном из тарантасов, Трубников видел, что кочевой аул растянулся на всю степь, сколько хватал глаз. И воображалась картина всеобщего счастья, благоденствия, свободы, равенства, братства - от времен стародавних и на веки веков, - что не могло быть правдой и не было ею. Трубников с тревогой поискал глазами Чокана. Чокан ехал верхом на статном огнехвостом скакуне - не на том ли, которого резал минувшим летом из деревянного чурбачка истосковавшийся по дому Макы?
В конце лета кочевые аулы, завершая предписанный природой степной круговорот, возвращались по своим зимовкам. Трубников чувствовал себя здоровым. Абсолютно здоровым! И следа не осталось от проклятой петербургской болезни! Он знал это без доктора - по своей эгоистической радости. В Сырымбете приглашенный кокчетавский военный лекарь прилежно выстукал Трубникова и развел руками: «Степь совершила чудо!»
Он может вернуться в Петербург - к друзьям, к общему делу. Приедет, взбежит, не задыхаясь, к Потанину на чердак, закричит во все здоровое горло: «Степь совершила свое чудо!»
- А что Чокан? - спросит Григорий Николаевич.
Как он ответит Потанину? Чем объяснит, отчего Степь, такая добрая к заезжему петербуржцу, не поставила на ноги сына своего, плоть свою Чокана Валиханова? Чокану не полегчало здесь настолько, чтобы он мог уехать. Да и полегчало ли ему вообще? Какие соки - кроме добрых и здоровых - текут здесь к нему, не давая покоя?
С чувством какой-то своей вины простился Трубников в Сырымбете с гостеприимным валихановским поместьем.
