Новые ветры — Виктор Бадиков
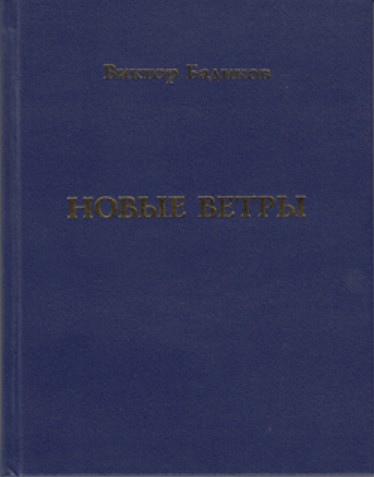
| Аты: | Новые ветры — Виктор Бадиков |
| Автор: | Виктор Бадиков |
| Жанр: | Әдебиет |
| Баспагер: | |
| Жылы: | 2005 |
| ISBN: | |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Страница - 21
ВСПОМИНАЯ ЗАБЫТЫЙ ЯЗЫК
Формула Бахытжана Канапьянова
Бахытжан Канапьянов стал знаковой общественно-литературной фигурой не случайно. В его творчестве и литературной судьбе наиболее отчетливо и полно отразились закономерности казахского художественного билингвизма советского и постсоветского времени, и прежде всего далеко не простой, порою драматичный диалог разных культур, а именно — литератур казахской и русской. Бахытжан слишком открыт, бесхитростен и чуток среди своих литературных сверстников и современников, более подвижен и по-детски любопытен, более других стремится идти в ногу со временем. Это, вероятно, делается для того, чтобы эпоха узнавалась в его поэтическом слове прямо или косвенно, но главное без особых литературных условностей и иносказаний.
За отзывчивым компанейским «кочевником с авиабилетом», так умиляющим многих профессиональных читателей, скрывается, вернее — открывается, наш современник, поэт, работающий упорно и вдохновенно: у нас на глазах он делает свое главное гражданское дело, выполняет свой гражданский долг — пишет стихи, руководит издательским домом «Жибек жолы», ведет обширную культурную работу на благо своей страны.
Как подчеркивает близкий автору источник, знаменитое стихотворение «Позабытый мной в детстве язык...» начиналось иначе, более конкретно: «Позабытый казахский язык..». Оно не случайно вызвало бурные и противоречивые отклики, как у русских, так и у казахских критиков. Слишком много было затронуто в нем глубинно-личной и в то же время общей боли, которую, казалось, никто не замечал. Нет, замечали, но до времени утаивали или не хотели ее драматизировать. Мотив маргинальности, о котором спокойно говорил О. Сулейменов, у «второй смены» поэтов зазвучал внутренним диссонансом уже у Бахыта Каирбекова: «Мир кочевья/ родного уюта/ Где я не жил/ И вроде бы жил!.. Почему на домбре не играю?/ Почему я по-русски пою?»
Однако Канапьянов высказался более определенно, может быть, с обидой зарифмовав, словно отлив формулу, «двуязычие» и «двуличие», к тому же назвав первое — «пресловутым».
Пожалуй, никто из писавших о Бахытжане не обошел вниманием это стихотворение. Теперь, когда страсти улеглись, и стало можно говорить то, что думаешь, понимаешь: наши билингвы (особенно второй смены) прошли суровую проверку самой истории, и прошли ее с честью, потому что, как было сказано, трещина мира должна проходить через сердце поэта...
По мере движения Казахстана к обретению независимости активное течение художественного билингвизма в казахской литературе вошло в полосу некоторой смуты — обострились чувства отчуждения, национальной безродности, порою ошибочности своего выбора и пути. Если Бахытжан Момыш-улы публично признался, что считает себя «чужим для обоих народов», а свое поколение назвал «манкуртами», которые остались без памяти и языка, то Канат Кабдрахманов выдвинул идею некой тотальной «новой расы, безжизненного гибрида». Назревал и стремился к гласности, теперь рке всячески поощряемой, бунт маргиналов, который Н. Ровенский в 1995 году определил как «противоречивую и даже болезненную реакцию» на отношения казахской и русской культур, на «широкое распространение русскоязычна»).
Здесь никто не задавал тона, бунт оказался хотя и заметным, но частным явлением, никак не изменившим и не отменившим «пресловутое двуязычие». Просто нашлись немногие крайние маргиналы, которые высказались очень откровенно и резко в смысле приговора себе и своим единомышленникам — представителям не просто художественного, а, так сказать, культурологического билингвизма, своеобразным духовным вырожденцам. Конечно, это самобичевание стало новым предлогом, чтобы вспомнить «злополучные» стихи Б. Канапьянова о «позабытом», казахском языке.
В одном случае (Б. Момыш-улы) внутренняя ущемленность, душераздирающие раскаяния и покаяния были вызваны глубокой, теперь уже явной обидой маргиналов на свое время и самих себя. «Да, я чужой для обоих народов, — писал Б. Момыш-улы, — и никому не нужен, кроме себе подобных… Нас миллионы, но мне хочется знать, достойны ли мы проклятия или жалости».
В другом случае К. Кабдрахманов еще в своих рассказах (см. сборник «Я сидел у потухшего костра») словами во многом автобиографических героев (в частности, писателя Максата) признавался в том, что «приобретенный» (русский) разрушил народность его души», что он, Максат, стал «человеком без фольклора в душе», писателем, работающим на «переводном языке». На этой основе возникла философско-публицистическая концепция К. Кабдрахманова о центральноазиатском человеке, если хотите, «безродном космополите», в жизни и судьбе которого за десятилетия советской власти была осквернена гармония личного и народного...
В обоих случаях возникало недоумение: но, полноте, если это так, что или кто мешает вернуться заново или впервые припасть к родным началам, к материнскому (ана тілі) языку, особенно в эпоху суверенного Казахстана?
Н.Ровенский еще тогда, в 1995 году, справедливо напомнил пример Пушкина, у которого нигде не встретишь «раскаяния по этому поводу (юношеские стихи, написанные по-французски — В.Б.) или признания, что стихи эти написаны из-за потери своего лика или нахлынувшего двуличия». Н. Ровенский еще раз подчеркнул, что автобунт наших маргиналов «не обошелся без влияния стихов хорошего поэта Бахытжана Канапьянова, в которых двуязычие уподобляется двуличию. Хлестко, но совершенно неадекватно...».
Критик напомнил, что никто из наших билингвов к родному языку все-таки не вернулся, несмотря на внутренний, идейно-психологический дискомфорт. Вероятно, эта вина перед своими и некоторая обида на русских критиков (тоже своих), всегда приветствовавших художественный билингвизм как национально-культурный прирост, как тягу к космичности и космополитизму, — эта вина искупалась активной и плодотворной переводческой работой поэтов «второй смены».
Что же касается «Позабытого языка», то это стихотворение и сейчас сохраняет свою актуальность, о которой стоит сказать несколько слов во избежание кривотолков и взаимных подозрений.
Теперь, конечно, очевидно юношеское преувеличение своей вины, оторванности от родного языка, т.е. истории и культуры. Творчество Б. Канапьянова, известное нам на сегодняшний день по его книгам и публикациям в периодике, решительно опровергает это самобичевание или самоуничижение, впрочем, как и других поэтов «второй смены».
Да, собственно, это не столько самобичевание, сколько ностальгия. Но и в юношеских преувеличениях есть своя очень глубокая и важная правда, которую в данном случае многие критики квалифицируют как боль. Да, это боль маргинальности. Она возникает не просто сама по себе — с возрастом и опытом. Ее усиливает и безмерно обостряет эпоха брежневской стагнации — эпоха повальной унификации и обезличенности. Билингвы, не только казахские, но и многих других бывших советских республик — это творческие личности, которые «выламываются», выходят из ряда, им видней становятся преимущества и недостатки своего — на фоне и в прямом контакте с другой культурой. Поэтому они в большей степени способны, по словам Асели Омар, «увидеть в свете кочевой звезды и величие, и упадок тюркской культуры, творческим порывом восполнить разрыв между лучшими достижениями мировой цивилизации и бедственным положением вещей в собственной стране, или, по выражению Мандельштама, «своею кровью склеить двух столетий позвонки» (см. избранное Б. Канапьянова «Над уровнем жизни». М., 1999).
С ВЕЧНОСТЬЮ — НАЧИСТОТУ
От имени Герольда Бельгера
Книга Герольда Бельгера «Тихие беседы на шумных перекрестках» (Алматы, 2001) «выкликает» дорогих теней, как бы умножая их в воображении читателя. Так честная и самобытная литература никогда не забывала (и не уставала) «спрашивать» наше прошлое. И что же делать, если великие тени сами останавливают нас на перекрестках наших улиц и нашего бытия, невзирая на всякие частные особенности наших эпох!
Если принять на веру метафору «заговоривших» портретов или памятников, тем более таких, как изваяния Джамбула, Чокана, Абая, Ауэзова, «золотого жигита», летящего над центральной площадью Алматы, то придется признать, что не со всеми и не обо всем «говорят» великие со своими потомками. «Выкликать теней» — не просто ответственное, но и порой опасное дело. «О, тяжело пожатье каменной его десницы», — успевает сообщить донне Анне дон Гуан, и они «проваливаются». Даже Маяковский робеет перед бронзовым Пушкиным, заметно умеряя свою фамильярность...
Г. Бельгер соблюдает здесь необходимый такт, хотя порой и паникует, впадая в самоуничижение, например, перед Чоканом («И то, что происходит сейчас, моим хилым умишком не объяснить») или перед Абаем («малость шкрябаю пером»). Не надо! Если действительно «разум ищет правды… взыскует истину», «умишко» не поможет. Выручает только отвага и решимость на прямое, «тяжелое пожатье каменной десницы».
Та самая актуальность, или своевременность, «Тихих бесед» заключается именно в том, что Г. Бельгер берет на себя ответственность собеседовать с вечностью и «вечными» на языке правды. Не случайно, будучи феноменальным трехязычным писателем, не только переводчиком (из этого почетного звания он уже давно вырос!), он выбирает язык межнационального общения, хотя по логике «сюжета» должен был «разговаривать» со всеми по-казахски. Что ж, пока еще русский язык адекватно передает и сплачивает интересы разноязычных народностей Казахстана. Настало уже и время казахского языка — посредничать в нашем государстве, за это «ратовать достойно и благородно, — считает писатель, — но вопрос не решается одним законом.., не решается за один год или до 2000 — 2005 года, как предполагают иные знатоки из Парламента… Реальная жизнь сама все по-разумному расставит по своим местам..»
Сахар ему в уста! Ведь и великие не в претензии на язык его «бесед».
Тревожат их совсем другие проблемы.
«Неужто все казахи торгашами заделались?.. Да, вижу большие перемены происходят… Только не разумею, в какую сторону» (Джамбул). «Меня удручает равнодушие демократии», — признается Чокан Валиханов. И когда его собеседник оправдывается, что «реформы в степи — не прогулка по Невскому проспекту… лишь бы хрке не было», Чокан резонно удивляется, «помилуйте, имея свободу и независимость, разве мыслимо жить плохо?!»
Абай печалится о том, что, вероятно, нынешние писатели измельчали, забыли об «уделе истинного Поэта… Пушкин что говорил? «Ты бог, живи один!»… Для него (поэта — В.Б.) и власть не власть, и толпа, сброд не указ… Верь себе!» Как не узнать здесь мудрого, горько-ироничного Абая, которому «даже тобыктинцы звания народного писателя не присвоили». И по адресу Бельгера — «Я и в казахском ПЕН-клубе не имел честь состоять, и ордена «Пара-сат» не имел...»
Достаточно, наверно, «говорящих» цитат, чтобы стало ясно: великие оказавшись в нашей современности, не только не ахнули от восторга, но стали задумчивее, печальнее и молчаливее. Уже не так охотно «разговаривал» с автором Ауэзов, уставший прежде всего «от «иудиных лобзаний» своих псевдоэккерманов — вспоминателей о себе на фоне гения». Потому и беседа с ним, наверно, как-то быстро, к сожалению, переходит в несколько отвлеченный литературно-критический портрет. «Сдабривают» его только собственные живые воспоминания Бельгера о великом писателе… Будем надеяться, что беседа еще возобновится. Ведь у бессмертных в запасе вечность!
Возможно, и от их лица (почему бы и нет?) автор «тихих бесед» печется и болеет о сегодняшнем и завтрашнем дне Казахстана. «Удастся ли сохранить страну под названием Казахстан в своих исконных границах? И что это будет за страна?.. Или выживание и вхождение в грядущее связано с потерей собственного «Я», с лишением, стиранием родовых черт, основополагающей сути?..
Спрашивает о том, что с нами происходит и отвечает: «Извечный гамлетовский вопрос: «Быть или не быть»? стоит ныне острее, чем в годы Великого бедствия, в пору сокрушительных джунгарских нашествий...»
И «блистательный воин-охотник, золотой жигит», видимо, своим «тягостным молчанием» наводит автора на главный ответ: «Ложь убивает духовность. Когда в обществе есть ложь — оно задыхается».
И не кажется ли вам, внимательный и терпеливый читатель, что наш неугомонный «тихий собеседник» не только спрашивает, но и громко, во весь голос заявляет: «Не могу молчать!»?
