Новые ветры — Виктор Бадиков
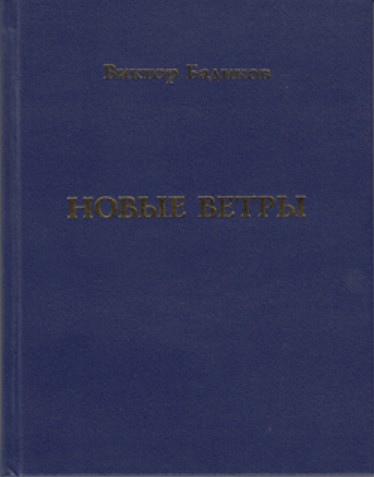
| Аты: | Новые ветры — Виктор Бадиков |
| Автор: | Виктор Бадиков |
| Жанр: | Әдебиет |
| Баспагер: | |
| Жылы: | 2005 |
| ISBN: | |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Страница - 29
ПЛАТОНОВСКИЙ АПОКАЛИПСИС КОММУНИЗМА
Когда читаешь и перечитываешь произведения Платонова (1899— 1951), когда узнаешь новые, всегда саднящие факты его биографии, неизменно охватывает высокое горькое чувство удивления. Да когда же и как сумел этот «писатель-механик» (машинист, мелиоратор, инженер), затравленный критикой с подачи Сталина, изможденный постоянной борьбой с советской бюрократией, человек слабого, замирающего сердца, так много и глубоко, так художественно совершенно и необычно написать о самом страшном ленинско-сталинском периоде русской истории!?
Что из того, что после запоздалых посмертных публикаций «Джан», «Чевенгура», «Котлована», «Ювенильного моря», «Счастливой Москвы» и целого потока статей, пьес, киносценариев, наша критика с облегченным вздохом наконец-то назвала Платонова классиком? Его художественное значение, под которым обычно разумеют неповторимый художественно-философский масштаб писательского творчества, уже ощутили и без оговорок признали его некоторые современники — Горький, Булгаков, Пильняк, Шолохов, А. Воронский.
На его творческое родство с Гоголем неслучайно и не ради комплиментов указывал Горький: Платонов, как и автор «Мертвых душ», в своем романе-поэме, романе антиутопии «Чевенгур», впрочем, как и во многих других вещах, тоже стремился показать и понять всю советскую и народную Россию. Но дантовско-гоголевская традиция в искусстве Платонова устремлялась почти в мистическую перспективу — «найти смысл общего и отдельного существования», по-достоевски усомниться и переосмыслить такие понятия человеческого бытия, как жизнь, любовь, смерть, наконец, вслед за В. Соловьевым, В. Розановым, Н. Федоровым, Н. Бердяевым постигнуть онтологические тайны русского духа и души.
Слава Богу, что нашлись современники, которые не предали Платонова и по мере возможности, как, например, Горький и Шолохов, его первый читатель и редактор Г.З. Литвин-Молотов, помогали писателю словом и делом — спасали от нищеты, духовной изоляции, идеологического остракизма. Они, если и не считали его классиком, то, безусловно, понимали его художественную уникальность, его бесстрашие правдолюбца, добровольно обрекшего себя на крестный путь пророка, побиваемого каменьями лжи и ненависти.
Вот, может быть, одна из ипостасей платоновского величия, которую еще предстоит нам разгадать и которая как бы намеренно скрыта автором при помощи языка и сознания темных, «второстепенных людей». От их лица, собственно, Платонов и писал о своем времени. Это его герои — люди с «пустым сердцем», то есть всегда искренне открытым, «душевные бедняки», тоскующие о духовном братстве всех и вся, о необходимости всеобщей справедливости и «воскрешения мертвых» (Дванов, Копенкин, Вощев, Вермо, Чагатаев и др.), наконец, «натурный», как у Лескова, или «природный», как у Шекспира, дурак, например, Фома Пухов или Макар Ганушкин, умеющие смотреть в самый корень политики и жизни. Все они объединяются евангельской формулой «сокровенного человека». Это не только милосердный человек, «кроткого и молчаливого духа», но и неустанный платоновский искатель истины и взыскательной братской любви.
Сейчас мы усиленно и порою сугубо однозначно расшифровываем литературный интертекст, историческую и онтологическую подоплеку платоновской прозы, и в азарте своем, наверное, слишком далеко уходим от исторической конкретики его времени. А он был прежде всего усомнившимся, сокровенным человеком своей эпохи. Об этом не надо забывать, возводя его в классики. Подобно многим своим современни-кам-писателям, он был вынужден идти на открытые компромиссы: признание ошибок, обещания идеологически перестроиться и т.п. Но при этом его как художника трудно и почти невозможно упрекнуть в отречении от своих идеалов: случай Галилея, несмотря на суд инквизиции, уверенного в том, что она «все-таки вертится».
В 1929 г. была организована первая политическая облава на Платонова. Поводом для нее стали очерк «Че-Че-О», рассказы «Государственный житель», «Усомнившийся Макар», «Впрок», в которых, вопреки официальной пропаганде, умно и едко обнажался крах социально-экономической политики партии, ее антигуманная сущность. Писатель, спасая себя, защищаясь от несправедливых нападок, публикует в центральных газетах покаянные письма, где публично уличает себя в самых непростительных идеологических ошибках. Летом 1931 года обращается с письмами к Сталину и Горькому. Тщетно. Вплоть до 1937 года, почти шесть лет, у него не выходит ни одной книги. Но Платонов компенсирует свое вынужденное молчание и состояние, близкое к отчаянию, не только активной деятельностью в качестве инженера-конст-руктора в Наркомате тяжелой промышленности. Нет, он еще много и увлеченно пишет, конечно, заведомо в стол, свою классику, еще более противостоящую разрешенной литературе соцреализма, свою прозу — «Котлован», «Ювенильное море», «Хлеб и чтение», трагедию о голоде «14 Красных избушек», начинает работу над романом «Счастливая Москва», во второй половине 30-х годов привозит из Туркмении замысел повести «Джан», пишет, перекликаясь с Радищевым и Пушкиным, свое «Путешествие из Ленинграда в Москву».
В мае 1938 года НКВД провокационно арестовало его сына, 15-летнего школьника, правда, через два года при помощи Шолохова его освобождают, но в 1941 году юноша погибает от лагерного туберкулеза. Факт, усугубивший и приблизивший смерть его отца. Вот когда писатель был поставлен на последнюю грань выживания. Но в задушевно-горьких письмах к жене он признается: «Я негармоничен и уродлив, но так и дойду до гроба, без всякой измены себе» (выделено мной. — В.Б.). Так оно и было на самом деле: без всякой измены...
Жестокий, изуверский суд эпохи над своим творчеством Платонов отвергает уже в середине 30-х годов. «На вас не угодишь, — скажет он как-то, получая аванс под будущие, еще не написанные рассказы, парируя вопрос с язвительным упреком. — А что, вы сделаете, как надо?»
Да, Платонов всегда делал свое писательское (и не только) дело, как надо, в соответствии с пушкинским заветом — «ты сам свой высший суд». Платонов, кажется, нигде не подчеркивал, как Гоголь, мессианской, учительской роли писателя. Напротив, стоял на том, что «в книгах действует ищущая тоска читателя, а не умелость сочинителя». Но теперь, в год 100-летия со дня его рождения, уже вряд ли кто усомнится, что Андрей Платонов, как очень немногие русские писатели XIX — XX вв., своей судьбой и творчеством, безусловно, продолжил и подтвердил великую гуманистическую традицию русской литературы — славить свободу мысли и духа и «милость к падшим призывать»...
МАЯТНИК ЖАНРА, ИЛИ ФЕНОМЕН РАССКАЗА
Надо ли с самого начала спрашивать — что такое рассказ? Ведь за ответом ходить недалеко. Любой толковый словарь, тем более специальный, школьный учебник литературы, не говоря рке о вузовском, однозначно вразумят: это «малая эпическая жанровая форма художественной литературы — небольшое по объему изображенных явлений жизни, а отсюда и по объему текста, прозаическое произведение».
Что же тут неясного?
Неясно, как подвести под это определение огромное и до конца не уловимое разнообразие рассказа. Как, впрочем, и многих других литературных жанров, которые всегда текучи, протеистичны, в отличие от стабильных художественных форм фольклора (сказка, загадка, частушка). Главный парадокс здесь в том, что чем определение проще и универсальнее, тем все более туманным становится сам его объект.
В чем дело?
М. Бахтин утверждает, что жанр (вообще) — это «представитель творческой памяти человечества». Роман, например, созревает исторически долго, его «внутренней формой» становится память и опыт социально-психологической карнавализации человеческой судьбы и личности. Эпос героического единства и подвижничества во имя коллектива сменяется романным эпосом противостояния личности и общества. Это закат античности и это восход новой эры, которую Блок впоследствии (предчувствуя вечный разлад и возмездие) определит как «жизнь без начала и конца», в которой «всех подстерегает случай». Рассказ и его разновидности (новелла, очерк, быль, анекдот) принципиально интересуются случаем, и не столько неожиданным происшествием, сколько случайностным, обычно непредсказуемым, поворотным характером нашего бытия (чихнул на лысину генерала и умер, увидел в музее Венеру и стал человеком...).
По Тынянову, «жанр неузнаваем», как вообще неузнаваемы, то есть, неточны все наши литературоведческие определения, и, прежде всего наиболее важные. В 1924 году в статье «Литературный факт» Ю. Тынянов писал: «Теория словесности упорно состязается с математикой в чрезвычайно плотных и уверенных статических определениях, забывая, что математика строится на определениях, а в теории литературы определения не только не основа, но все время видоизменяемое эволюционирующим литературным фактом следствие. А определения делаются все труднее. В речи бытуют термины «словесность», «литература», «поэзия»… разобрать, чем они все друг от друга отличаются, довольно трудно».
Именно так. И сейчас провести границы можно только условно: новелла и рассказ — это явления близкие, но все же не тождественные.
Выход, предлагаемый Тыняновым, неожиданно прост, лежит на поверхности, но все-таки цепляет какой-то важный нерв проблемы: «Отличительной чертой, которая нужна для сохранения жанра, будет в данном случае величина (то есть признак «второстепенный» — В.Б.).Понятие «величины» есть вначале понятие энергетическое: мы склонны называть «большою формою» ту, на конструирование которой затрачиваем больше энергии». Но подчеркнем — по Тынянову, например, «большая форма, поэма может быть дана на малом количестве стихов» («Кавказский пленник» Пушкина). И энергетика проявляется не в самом количественно понимаемом объеме вещи, а в композиционной плотности, смысловой напряженности художественно претворенного материала жизни. Поэтому литературный рынок обычно затоваривается псевдороманами и псевдоэпопеями (А.Ананьев, П.Проскурин, И.Стаднюк, исторической и авантюрноэротической беллетристикой от Дюма до А. и С.Голон), которые всегда на читателя «идут ромбом», то есть в неотвратимо массовом и агрессивном строе. И напротив, ценятся новеллы, «маленькие романы», рассказы и повести, вбирающие в свой малый или средний объем энергетику романного миропонимания («Манон Леско», «Декамерон», «Господин из Сан-Франциско», «Анна на шее», «Судьба человека» и т.п.).
Так что рассказ не просто малая эпическая форма. Форма — это не количество, а качество. Рассказ — это эмбрион романа, не говоря уже о повести. Энергетически это роман в свернутом, зачаточном виде. Среди повествовательных прозаических произведений Б.Томашевский выделяет две «категории»: «малая форма — новелла (в русской терминологии — «рассказ») и большая форма — роман. Граница между малой и большой формами не может быть твердо установлена. Так в русской терминологии для повествований среднего размера часто присваивается наименование — повести» (Теория литературы. Поэтика.
— М.-Л., 1927).
Самое интересное, что, пользуясь в своем учебнике понятием «новелла» (рассказ), Томашевский подчеркивает, что циклизация новелл
— рке путь к роману. Скажем, если приключения Ш.Холмса егце сборник новелл, «Герой нашего времени» — рке роман, в котором новеллы, по нашему —«повести», «объединены общностью героя, но в то же время не теряют своего самостоятельного интереса». Когда же «цельность» новелл разрушается, когда их мотивы «спутываются», то новелла уже превращается в «сюжетный элемент романа». Вывод, быть может, слишком конструктивно упрощен: «Роман как большая повествовательная форма обычно сводится к связыванию новелл воедино».
Новелловое или рассказовое оформление частей (глав) в романе встречается нередко, но здесь энергетика малой формы трансформируется, растворяется в новом сплаве — в единстве авторского нравственного отношения к миру (Л. Толстой).
Таков роман Б. Пильняка «Голый год» (1921), в основе которого его же переработанные рассказы, и не таков его роман «Волга впадает в Каспийское море» (1929), в котором автор растворил «криминальную» свою повесть «Красное дерево». В первом случае — дикая стихия революции, сочувственно изображенная писателем-виталистом, во втором — «сдача и гибель» советского интеллигента, иллюстрация бессилия врагов социализма. А рассказчиком (в литературно-жанровом смысле) Пильняк был замечательным, порою неоправданно-рискованным. И собственно рассказчиком остался, потому что в «кусковости» его повестей и романов чаще всего высоко звенят или жалобно стонут его же рассказы.
Пильняк-экспериментатор попытался проникнуть в тайну творчества — в тайну самого жанра рассказа, берущего свое начало, как водится, в жизни. Он написал «Рассказ о том, как создаются рассказы» (1926). Речь в нем идет о судьбе русской женщины, душа и физиология которой стали предметом тайного, почти клинического исследования — подглядывания и шпионажа со стороны ее мужа, японского писателя Тагаки. В результате мрк написал «знаменитый» роман, а жена, случайно узнавшая его фабулу, сбежала в Россию. Пильняк в своем произведении показал технику создания жанра рассказа, в основе которого не просто человеческое коварство, или предательство, но и жестокость самого искусства («Лиса — писательский бог!»).
Наверно, правильнее было бы назвать эту вещь «Рассказом о том, как создаются романы» (или вообще искусство). Но и без этого понятно, что рассказ Пильняка, на первый взгляд, почти очерковый, газетносенсационный, — это в зародыше своем роман, где целая жизнь героини, ее амбивалентная судьба представлены как молния случая. Может быть, и Провидения.
Чем обычно подкрепляются традиционные определения рассказа?
Должны быть описаны его истоки, или генезис, дана классификация, или видовая модификация и, наконец, определение — перечень формально-содержательных признаков жанра.
Все это мы имеем в полном наборе, согласно которому новелла раньше всего формируется в Италии (ХШ-ХIV вв.), рассказ, как ее разновидность — позже (XVII-XVIII вв.), на русской почве и под влиянием реализма, физиологического очерка, обретает свою классическую форму в XIX веке. Разграничивают новеллу и рассказ, как известно, по бинарным критериям: драматургичность — эпичность, фабульность — психологичность, объективность — субъективность повествовательного начала и т.д. Все это слишком очевидно в своей условности. Качание дефинитивного маятника зависит или от субъективного вкуса исследователя (его художественной интуиции), или от социального заказа эпохи, или от эволюции самого словесного искусства. Гете определял сущность новеллы как «одно необычайное происшествие». Но уже романтики, а затем формалисты начинают «развинчивать» внутреннюю структуру жанра на все большее количество частей. Обнарркивают довольно четкую конструкцию (схему) ее композиции, которая под влиянием рассказа рке обрастает в ХХ-м веке философской и социально-психологической образной плотью (Э.По, А. Чехов, Г. Мопассан, И. Бунин, М. Горький, Ф. Кафка, А. Грин, М. Ауэзов, Г. Мусрепов, Ю. Казаков, В. Шукшин, Д. Исабеков...).
Некая усталость от внушаемою противопоставления этих разновидностей заметна в творчестве самих писателей. Так в традиции русской литературы в ХХ-м веке сам собою закрепляется жанровый указатель — «рассказ», на Западе — преимущественно — «новелла».
Внутривидовая классификация новеллы или рассказа также традиционно условна, что позволяет использовать ее «безразмерность» для типологического описания нового литературного материала (философский, психологический, фантастический и т.п. рассказ). В 30-х годах советская литературная энциклопедия классовый, идеологический признак соединяла с формальным. То есть рассказ «формировался как жанр, выдвинутый ростом в литературе буржуазных течений, буржуазных стилей.., далее завоевывает свое место в самых различных стилях..: углубленно психологический рассказ «Чехова, опрощенный народный рассказ Л.Толстого, мистико-символистский рассказ Ф.Сологуба, социально-заостренный рассказ М. Горького» (Литературная энциклопедия. Т.9.- М., 1935.).
Но кто знает, где здесь предел в обозначении, вернее, в теоретическом и творческом восприятии жанра. А. Платонов, например, писал «Технический роман». Почему бы не выделить научно-технические рассказы, ведь есть же научно-популярные произведения разных жанров? Но долго ли продержится та или иная тематическая или структурная рубрика? Ведь литература сознательно опровергает «твердые» формы и формулы, которые и призваны давать самое общее объяснение или толкование ее явлений. Попросту мы обязаны, если не разучились читать, то есть погружаться в «сотворчество» с писателем, — всякий раз дополнять и корректировать эти общие, приблизительные определения.
Поэтому в классификации новеллы или рассказ должен учитываться и критерий авторского начала. Например, Чехов, Платонов, Хемингуэй… писали рассказы, обращались к малой эпической форме с ее романной энергетикой. Но у каждого из них это была особая разновидность жанра — чеховская, платоновская, хемингуэевская и т.д. Иногда были сближения и переклички, как, например, у Чехова, Бунина и Казакова, но по принципу «несходства сходного». А это значит, что как бы не обольщали нас поиски сходства и простых, «вечных» определений, будем помнить, а также искать прежде всего непохожесть жанра на самого себя. В этом суть творчества — в постоянном самоотрицании и самопреобразовании.
В записях «Ни дня без строчки» Ю. Олеша, обращаясь к начинающим писателям, отдает явное предпочтение рассказу и еще больше упрощает его определение и находит такое авторское качество писателя (не жанра!), которое закрепляет за ним универсальную непохожесть в любом жанре:
«Я не верю, что неинтересно читать вещи без головоломного сюжета.
Рассказ есть все, что рассказано (выделено мной — (В.Б.).
Так называемая интрига не принадлежит к свойствам, возвышающим литературное произведение. Напротив, большинство вещей с интригой чрезвычайно низки по языку, мысли, идее.
Есть другое писательское свойство, перед которым действительно останавливаешься с восхищением:
— Это свойство — выдумка.
Я говорю о той выдумке, которая есть у Джека Лондона, Эдгара По, Амбруаза Бирса, Гоголя («Вий»), Уэллса, Пушкина («Пиковая дама»), Александра Грина...
Я тоже писатель, но вот, думал я, писатель, сидящий передо мной (А. Грин — В.Б.), — писатель совсем особого рода. Он придумывает концепции, которые могли бы быть придуманы народом. Этот человек, придумывающий самое удивительное, нежное и простое, что есть в литературе, — сказки».
Так в сознании художника увеличивается амплитуда размаха — эстетических возможностей этого жанра, захватывающего не только литературу, но и фольклор. Расширяющего, по словам Мандельштама, «выпуклую радость узнавания» мира.
