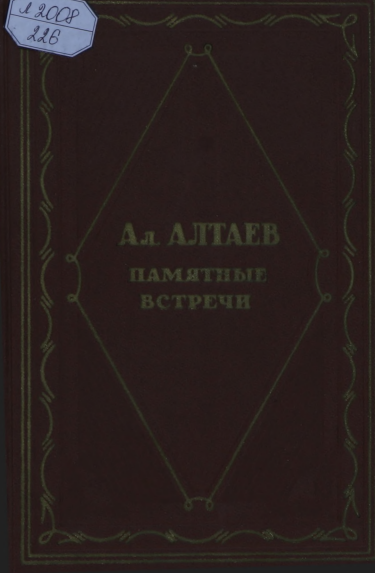Памяти дорогого учителя
и друга Владимира Ивановича
Невского
ОТ АВТОРА
Мне восемьдесят четыре года. Ал. Алтаев — мой псевдоним. Настоящее же имя — Маргарита Владимировна Алтаева-Ямщикова. Литературная моя работа началась шестьдесят семь лет назад: в 1889 году в журнале «Всемирная иллюстрация» была напечатана в декабрьском номере моя сказка «Встреча Нового года».
С тех пор я написала много сказок и рассказов, много повестей и романов для детей и юношества, а позднее — для взрослых, главным образом исторических и биографических.
Биографии выдающихся людей наряду с историческими повестями увлекали меня с ранней юности.
Книга моя «Памятные встречи» создавалась в течение многих лет. Еще в 1910 году мне попала в руки книга К. С. Кузьминского — монография о художнике А. А. Агине. В ней сообщалось, что Агин умер в 1868 году. Между тем Агин — мой крестный отец, а я родилась в 1872 году. Понятно, что я не могла пройти мимо такой ошибки в биографии дорогого мне человека. Я написала автору книги, и он приехал ко мне из Москвы в Петербург узнать о последних годах жизни Агина. Мне пришлось не только рассказывать, но и подробно написать для Кузьминского все, что я знала об Агине. Эта запись и положила начало моей книге воспоминаний.
В 1906 году художник Михаил Петрович Клодт предложил мне разобрать архив его отца, знаменитого скульптора Петра Карловича Клодта, и написать по этим архивным материалам и его сыновним рассказам биографию скульптора. Это предложение пришлось мне по душе. Я с детства чтила имя создателя великолепных скульптурных групп Аничкова моста —украшение Петербурга.
Общение с М. П. Клодтом — этим большим художником и ярким рассказчиком — пробудило во мне все заветное, скопленное годами. Ведь Михаил Петрович был когда-то просто Мишей, любимым учеником Агина; он автор единственного портрета своего учителя той ранней поры, когда Агин иллюстрировал «Мертвые души».
Передо мною были подлинные письма, документы; пожелтевшая от времени бумага хранила наброски и силуэты, сделанные рукою скульптора; я рассматривала маленький альбом — семейную реликвию — с изображением мастерской художника, в которой на свободе разгуливали живые модели для памятника Крылову в Летнем саду в Петербурге.
В течение восьми лет происходили эти чудесные встречи по четвергам, которые дали мне потом материал для «Клодтовских четвергов» — большой главы в «Памятных встречах».
Михаил Петрович Клодт умер в 1914 году. Я сложила в ящик письменного стола нашу работу, не думая тогда о ее практическом использовании.
В 1911 году умер художник Василий Максимович Максимов, семья которого была мне близка всю жизнь. У Максимова остались автобиографические записки, окончить которые помешала ему смерть.
Общество художников-передвижников поручило мне закончить биографию покойного художника. Это поручение было мною выполнено, и в московском журнале «Минувшие годы» в 1913 году появилась автобиография В. М Максимова с предисловием И. Е. Репина.
Много лет спустя, по совету искусствоведа Кузьминского, я отдала свои нигде не использованные записи об Агине и Клодте в архив Третьяковской галереи.
В этом архиве работала с давних пор А. Н. Щекотова. аинтересовавшись моими работами, она убедила меня написать для Третьяковской галереи воспоминания о И. Е Репине, В. М. Максимове и Н. П. Богданове-Бельском, биография которого была в то время мало известна.
Позднее других были написаны воспоминания о встрече с В. М. Нестеровым, о рисовальной школе Общества поощрения художеств.
Но все это были разрозненные очерки, мне и в голову не приходило сделать из них книгу. Мысль об этом родилась в кабинете у художника Н. В. Ильина во время чтения отрывка из моих воспоминаний о судьбе модели для картины К. Сомова «Дама в голубом».
Мои «Памятные встречи» были бы неполны, если бы я не включила в них воспоминаний о людях театра.
Я родилась в семье известного театрального деятеля В. Д. Рокотова. Дворянин и богатый когда-то помещик, он все свое состояние потратил на создгние общедоступного народного театра. Я выросла в театре, в театральной атмосфере. Я знала многих известных актрис и актеров. Среди них были незаурядные таланты и благородные сердца. Я не могла не вспомнить о них.
Так в книгу вошли очерки о детстве, театре, актерах.
В 1946 году вышло первое издание этой книги в издательстве «Искусство».
…Моя молодость прошла в кругу передового русского студенчества, и я не оставалась в стороне от общественной жизни страны. Совсем юной я участвовала в первой рабочей демонстрации на похоронах Н. В. Шелгунова. Я была членом политического Красного Креста и, бывая в петербургских тюрьмах, познакомилась с положением заключенных. Была и на баррикадах Четвертой линии Васильевского острова 9 января 1905 года. Довелось мне и прятать у себя матроса Фесенко с мятежного «Потемкина». У меня на квартире составлялся тот номер большевистской газеты «Молодая Россия», которому суждено было остаться уникальным.
Так подготовлялось мое участие в работе газет военной организации большевиков — в «Солдатской празде» и «Бедноте» в 1917—1918 годах.
Ввел меня в военную организацию мой друг со студенческих лет Глеб Иванович Бокий, тогда секретарь Петроградского комитета большевиков.
Воспоминаниями о Вере Михайловне Величкиной, прекрасном большевике и прекрасном человеке, и о работе своей во дворце Кшесинской и Смольном в 1917—1918 годах я дополнила второе издание «Памятных встреч». Оно вышло в 1955 году в издательстве «Советский писатель».
В настоящее издание вошли новые главы: воспоминания о похоронах М. Е. Салтыкова-Щедрина и Н В. Шелгунова, о большом ученом и редкостной души человеке — В. А. Манассеине. Несколько расширена глава о сотрудничестве моем в большевистских газетах — «Солдатской правде» и «Бедноте», где я работала под руководством Владимира Ивановича Невского, светлой памяти которого я посвящаю настоящее издание своей книги.
Советский читатель хорошо принял «Памятные встречи». Хочется работать над своими воспоминаниями и дальше. Многое из того, что я написала, только слегка затрагивает те или иные исторические события, многие имена упоминаются только мельком, а о многом я еще и совсем не сказала. А ведь за мою долгую жизнь есть что вспомнить и рассказать,— если успею…
5 авг. 1956 г. Ал. Алтаев
close_page
«РИСОВАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ»
КАК ОН ПОЯВИЛСЯ НА НАШЕМ
ГОРИЗОНТЕ
Мне было лет пять, когда мать показала мне квадратную шкатулочку белой лакировки, отделанную затейно никелем.
— Это тебе оставил в наследство твой крестный отец, большой художник, Александр Алексеевич Агин,— сказала она.
В голосе ее звучали теплые ноты.
У красивой шкатулочки был ключик, и это определило для меня тогда ее особенную ценность. Я немедленно начала упражняться в открывании замка.
— Александр Алексеевич был очень беден, и после него немного осталось наследства,— продолжала мать, показывая мне оставшиеся вещи его.— Вот тут снимок со старинной киевской иконы, а здесь ящик с красками; вот тарелка, миниатюра да два альбома. Но я тебе пока не отдам всего: ты слишком мала. А шкатулочку можешь взять.
Я взглянула на «наследство». На меня с тарелки смотрела дивчина в венке, склонившаяся над ручьем, держась за ветки плакучей ивы, «написанная сепией», как объяснила мне мать; на крошечном кусочке бумаги был нарисован карандашом какой-то сказочный замок, окруженный деревьями. В одном альбоме мелькали рисунки: леса, сады, поля, речка, болотца, в другом карандашные рисунки чередовались с яркими картинками, и до чего они мне нравились! Вон дивчина в разноцветном венке с лентами, и какой с нею веселый парубок: снял смушковую шапку и пляшет гопака, а у дивчины — красные чоботы с подковками… Вот и степь; идут волы, медленно переступая ногами, и смотрят лениво большими добрыми глазами. Так и кажется, что колеса скрипят… На возу чумак… смешной чумак: усы длинные, на голове шапка кудрявая, а сам не то спит, не то дремлет… А вот еще голова этого же самого чумака, только большая и смеется… Смотрит, как живой… А вот старуха с повя- занной платком головой; ишь по всему лицу поползли морщины, как сетка, а сама, должно быть, пресердигая…
Все это мать унесла и спрятала вместе с ящиком, в котором лежали бесчисленные тускло-серебряные тюбики, перепачканные разными красками, и несколько кистей…
Мне было жаль, что не удалось порисовать… Но шкатулочка с ключиком меня совершенно утешила.
Теперь от всего этого наследства у меня остались только икона и миниатюра; альбом с видами и краски родители решили отдать брату, у которого оказались способности к рисованию и лепке. Альбом у него пропал во время пожара; вероятно, там же погибли и краски. Мой альбом и тарелка с другим моим имуществом остались у мужа,— когда я с ним разошлась, он отказался выдать мне паспорт и вещи… Шкатулочкой я долго забавлялась и успела сначала испортить замок, потом забыла ее в палисаднике: блестящая отделка потускнела и заржавела.
Прошло много лет. Я была в рисовальной школе и заинтересовалась художником Агиным. Мать с удовольствием начала о нем рассказывать. С тех пор мы часто говорили о создателе гоголевских образов; о моем крестном отце вспоминала и старшая сестра.
Мать рассказывала: — Появился на нашем горизонте Агин в Киеве в один из тусклых ноябрьских дней тысяча восемьсот семьдесят первого года. Отец твой ведь издавал прогрессивную газету «Киевский вестник», скоро, впрочем, закрытую цензурой; тогда он основал библиотеку, в которой с ним вместе работала и я. Но его с юности тянуло к театру; он участвовал в любительских спектаклях. Был горячим поклонником Рашели, из рук которой получил портрет, а в раннем детстве имел от Варвары Асенковой подарок — серебряного гусарика — игольник, пожертвованный им впоследствии в музей-фойе Александрийского театра в
Петербурге. Немудрено, что отец увлекался и во время нашей жизни в Киеве местным театром, хотя сам еще не был актером. И вот представь: весь городской театр пестреет афишами; аршинными буквами мелькает имя итальянской актрисы Ристори, в то время достаточно известной в Европе. Публика осаждает кассу; билеты перекупают* у барышников. На слабо освещенной свечами сцене идет репетиция; слышна французская речь; силуэтами намечаются одетые в пальто приезжие актеры и зябкая, кутающаяся в меха итальянская знаменитость, а в это время в вестибюле, в уголке, копошатся и переговариваются вполголоса свои, местные актеры, «экземпляр— чики голодные», как говорил о них с ласковым сочувствием твой отец.
Мать вся отдалась воспоминаниям и продолжала, глядя в одну точку, точно видела там эти знакомые скорбные фигуры:
— Часто мне потом приходилось слышать актерские жалобы. Как сейчас, вижу в уголке сгрудившихся несчастных актеров, в подбитых ветром пальтишках, актрис в потрепанных мехах, выдавливающих искусственно-беспечную улыбку, распространяя вокруг запах дешевых духов и пудры… Я столько видела их в провинции, столько слез было пролито передо мною! Нужда, беспросветная нужда, а гастроли приезжих знаменитостей отнимали последнюю надежду на кусок хлеба…
— Почему? — спросила я.
— Театром владел иностранец Фердинанд Бергер, человек прижимистый, делец. Он умел получать прибыль за счет актеров. Теперь, столпившись, эти актеры уныло вполголоса разговаривали. Они знали, что чем дольше останется в Киеве приезжая знаменитость, тем дольше у них не будет заработка. Ведь им и без того перепадали крохи, этим драматическим артистам: Бергер держал драму в летний сезон, а зимний почти цели*
ком был отдан опере; зимой драматические спектакли ставились очень редко, и соответственно с этим антрепренер и расплачивался с драматическими актерами. А были между ними такие артисты, как Лукашевич и Самсонов, талантливые, разнообразные, вдумчивые; к тому же Самсонова знали не только как хорошего актера, но и как чудесного режиссера… И вот Самсонов сидел в это хмурое утро в уголке вестибюля, задыхаясь от кашля, в летнем пальто, потому что заложил осеннее, зная, что дома его ждет истеричка жена и ребенок… В это время дверь открылась и, проталкиваясь сквозь публику, образовавшую очередь у кассы, стала пробираться к собравшимся актерам странная фигура. «А, наш слоеный пирог!» — сказал кто-то, ласково улыбаясь. Этого человека в Киеве хорошо знали под кличкой «Слоеный пирог».
— Что это за странная кличка?—спросила я.
— А так шутя называли Агина. Вообрази себе высокую плотную фигуру, облаченную в крылатку, которую он забыл застегнуть; из-под нее выглядывал старый пиджак, а из-под пиджака еще более поношенный фрак. Из-под широкополой шляпы с одним спущенным, другим поднятым полем смотрело добродушное умное лицо с раздвоенной седоватой бородой, мясистым носом и круглыми синеватыми очками в серебряной оправе. Но более всего странно выглядели ситцевые платки, разного цвета и разной величины, повязанные на шее, болтавшиеся на груди, наконец прилаженные по-бабьи на голове, под шляпой, чтобы защитить уши.
close_page
Заметив на лице моем улыбку, мать сказала:
— Это было не смешно, а трагично. Подумать только: он, большой мастер, достойный иллюстратор великого Гоголя, и должен, как нищий, кутаться в отрепья! Но нищета не сломила его чувства независимости: он предпочитал голодное существование и свободную профессию должности учителя рисования, в качестве которого он приехал в Киев более пятнадцати лет назад. Он всегда был ровен, бодр, оптимистически настроен. Он ходил каждый день в театр, где стал своим человеком. Бергер давал ему бесплатные места, не слишком близко к сцене, а за это он должен был учить актеров гриму. И посещение театра вошло у него в привычку: он являлся утром на репетицию, как на службу, а вечерами смотрел по одному разу драму и по нескольку раз оперу, потому что ь то время антрепренеры отваживались давать только по одному разу драму и повторяли только оперы да оперетки. Александр Алексеевич сидел в кресле театра голодный, в странном костюме и по окончании спектакля отправлялся пешком через весь город в каморку на окраине. И вот, угадывая, каким взрывом негодования встретят актеры гастроли Ристори, пришел он их «разговорить». Разговоры его были простые, сердечные. Начнет расспрашивать Самсонова о том, какую роль тот готовит — из Шекспира или из Островского, а может, мечтает сыграть Иоанна Грозного… Тот ему бурчит: «Надо лучше вовремя навострить лыжи, пока не помер с голоду!» Тут Агин ему своим спокойным голосом станет петь о гриме, о костюмах, вспоминает игру старых актеров столичных сцен времен своей молодости, то есть в тридцатые — сороковые годы. И желчный, больной Самсонов весь заулыбается, сначала криво, скупо, потом вовсю, а Лукашевич уже мечтает играть Марьицу в «Каширской старине» Аверкиева или Марину Мнишек в сцене у фонтана, да мало ли еще что… И кругом слышен смех и возгласы: «Господа, да ведь не век наш Киев будет смотреть «Медею», «Уриэля Акосту» и «Марию Стюарт» с Ристори! Подождем, и на нашей улице будет праздник!» И вдруг лицо этого утешителя принимает озабоченное выражение, он пристально всматривается.
На момент мать замолчала, ласково улыбаясь.
— Что он такое увидел? Ристори?
— Да нет же, Ристори репетировала на сцене. Он увидел человека среднего роста, лет тридцати с лишком, в русской поддевке и высоких сапогах, в меховой шапке с бархатным верхом, наподобие славянофильской мурмолки, которую носил писатель Константин Аксаков.
— Отца? — догадалась я.
— Ну да! Отец остановился около афиши, оторвался от нее и встретился взглядом с Агиным. В свою очередь на лице его изобразилось изумление. Представь эту немую сцену: разглядывание друг друга этими двумя оригиналами.
Я смеялась.
_ Твой отец, как ты знаешь, тогда увлекался всем русским и ходил не только в первые ряды кресел, но и в присутственные места в этаком оригинальном костюме и даже библиотеку обставил мебелью, которая была расписана, как расписывали часто деревянные ложки и миски. Он спросил входившего в театр Бергера, кто это, указывая глазами на Агина. А Бергер сказал напыщенно и в то же время грубо-наивно: «Рекомендую ваше внимание, герр Рокотов, наш художник Агин. Свой человек у меня. Он вам расскажет про мой театр. Прошу вас осматривайт. Дело верное, говорю, как честный коммерсант»-
Мать невольно пробовала акцентировать, изображая хвастливую речь Бергера.
— Это, верно, тогда, когда отец хотел снять киевский театр?
Она кивнула головой.
— Это было начало нашего разорения и начало знакомства с Агиным. Отец твой спал и видел любимое театральное дело, а Бергер хотел устроить выгодную коммерческую сделку: сдать ему театр на летние месяцы и зимние дни, чтобы получить за аренду хорошие деньги и пристроить актеров.
close_page
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Мать продолжала:
Смотря пристально своими зоркими голубыми глазами на представленного ему Бергером «своего человека», отец спросил: «Простите, господин Бергер, я имею удовольствие видеть Агина, знаменитого иллюстратора «Мертвых душ?» Голос выражал глубокое уважение. Как давно не слышал Агин подобной интонации в отношении себя!
— Но разве в Киеве не знали о его работах?
Мать грустно улыбнулась. На прошлом нельзя строить здания настоящего благополучия. Оно разлетается, как мираж… И киевский театр недалеко ушел от всей России по части забывчивости.

С фотографии 1876 г.
Агин нам рассказывал все перипетии своего житья в Киеве. Когда он в конце тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года приехал в Киев, получив место учителя рисования в кадетском корпусе по рекомендации скульптора П. К. Клодта, в журнале «Москвитянин» был отмечен этот приезд, и Агина назвали талантливым художником. Заметка добавляла, что он приобрел «известность» прекрасными типическими рисунками ко многим иллюстрированным изданиям, между прочим к «Мертвым душам» Гоголя. И все. Дальше этого не пошло. А там потянулась обычная, будничная жизнь учителя рисования… обыкновенного учителя рисования…
Передо мной сразу встала несчастная фигура нашего гимназического учителя рисования и чистописания, в потертом форменном фраке, синем с золотыми пуговицами; ученицы над ним издевались, на уроках его читали книги, рассказывали громким шепотом разные истории. Вспоминалось, как братья говорили о «бенефисах», устраиваемых учителю рисования, как и учителю пения, и мне стало жаль большого художника, прекрасные акварели которого мать снова раскрыла передо мною.
Она продолжала тихо и печально:
— Позднее Агин рассказывал нам о своих мытарствах. Ему все не хотелось удовольствоваться ролью казенного рисовальщика, «рисовальшщика», как он странно выговаривал. Слышал он, что рядом работают другие художники. Два имени произносились в Киеве с почтением. Художники, носившие эти имена, ездили за границу: картины их выставлялись и пользовались успехом на выставках; и к одному из них, по фамилии Буяльскому, Александр Алексеевич отправился в его живописную школу. В газетах он прочел широковещательную статью о Буяльском, и она заинтересовала Александра Алексеевича, тем более что знаменитый доктор Буяльский, очевидно однофамилец киевского, был профессором анатомии в Академии художеств. Газеты говорили, что «знаменитый художник Буяльский» учился в Берлинской, Дюссельдорфской и Парижской академиях, объездил все музеи Италии и удостоен звания «художника исторической живописи». И вот Агин отправился к товарищу по кисти искать поддержки. Его встретил человек не первой
молодости, одетый с иголочки, в приемной роскошного дома-дворца, разукрашенного бюстами великих мужей древности. Обхождение, полное «благородства и снисходительности» и «артистичности», и притом завитая парикмахером прическа. Агин рассказывал: «Я ждал, что дюссельдорфский и парижский гений даст мне просвет в киевской каторге, а он вместо этого стал в позу и начал себя восхвалять. Слова так и полились, такие важные, чисто «вельможеские» слова: «Весь Киев знает мои портреты… мои портреты не уступают ни в чем лучшим иностранным произведениям в этом роде…» И прописные истины, как нужно «вдохновенно работать». А на просьбы Агина показать его работы «гений» отвечал: «Мои знаменитые портреты я делаю посредством фотографии на стекле; я применяю искусство живописи к технике фотографии и произвожу этим новым способом портреты, которые доставляют мне почет и славу. Ежели вы хотите, я познакомлю вас с моим методом, и вы можете впоследствии заниматься у меня в школе».
— Неужели он стал заниматься в этой фотографической студии? — возмутилась я.
— Конечно, не стал. Он даже не слушал, как это может оплачиваться. Он постарался скорее распроститься с великим фотографом и вернуться в кадетский корпус. И, случалось, давал частные уроки среди состоятельных киевлян. Между прочим, его ученицей была одна из дочерей известного коллекционера Тарковского, вышедшая впоследствии за богача Мальцева. В семье Тарновских, на границе Черниговской и Киевской губерний, и умер летом тысяча восемьсот семьдесят пятого года Александр Алексеевич. Но частные уроки он не любил. Ему претило учить «этих доморощенных гениев: Мими, Зизи и Эспера», ведь для них рисование было капризом, препровождением времени от нечего делать; они жили в центре города, в части, называемой Липками. «Бог с ним, с этим «липовым цветом»,— говорил Агин и стал отказываться от частных уроков, как ни голодал. Немного он заработал и двумя запрестольными образами спасителя и богоматери, сделанными для первой гимназии. И знаешь он начал мечтать, чтобы его выгнали из корпуса.
close_page
— Почему же сам не ушел в таком случае?
— Значит, не хватало пороха. Не все обладают решимостью обрубить сук, на котором сидят, как бы он ни был колюч. Судьба пришла к нему на помощь. Как-то весною, промучившись лет девять в лямке корпусного рисовального учителя, вышел он в поле, за вокзал. Пошел по берегу речонки Лыбеди, засмотрелся на листы кувшинок внизу, что распластались зелеными блюдцами в воде… Пахнет тиной, землей, травой… Хорошо… Стоит он и думает, как бы уйти на волю, на солнце, на степной простор… Может быть, и родную сторону вспомнил, псковскую деревню, где родился и вырос… И потянуло вон из города. Видит: ползет по дороге воз с горшками, а на возу, на соломе, лежит дядя, кверху лицом, усы распустил, шапка смушковая съехала на сторону, рубаха вышитая на груди расстегнута,— полное блаженство человеку. Лежит и лениво тянет песню. Агин ему кричит: «Стой, дядя!» Воз остановился. «Видкиля, дядя?» — «Та з Вышгорода».— «А далеко тот Вышгород?» — «Та, мабуть, верст пятнадцать».— «А гарно у вас в Вышгороде?» — «Та як же гарно!»—«Кавуны есть?»—«Эге ж».— «А горилка?» — «Эге ж, и горилка».— «Я поеду к тебе в гости».— «Так сидайте, добродию»… Влез на воз Агин, и покатили с грохотом по дороге, покрикивая на волов.
— Чем же кончилась эта история?
— Прогостил Агин у горшечника в Вышгороде не одну неделю, а целых шесть. Кавунов не ел,— весною их не бывает,— а на рыбную ловлю ходил, молоко пил, на солнышке лежал, отъелся, отлежался и на время забыл, что он «рисовальшщик». А когда вспомнил и вернулся в Киев, его уволили из корпуса за манкировку. Он не жалел о потере места. Стал пробиваться грошовыми уроками — ведь в Липках не слишком густо платят, на тряпки выбросят сотни, а учителю жаль заплатить лишний рубль. Потом поступил чертежником на железную дорогу, а в конце концов взял да и бросил всякую службу.
— На что же жил?
— Впроголодь. Уроками, конечно. И нет ничего удивительного, что он пристрастился к театру. Театр стал для него отдушиной. В театре он отдыхал. Ведь с юности он любил театр. Еще учеником академии на последние
гроши покупэл он билеты на галерку и перевидал всех знаменитостей. К тому же искусство живописи играет в театре очень важную роль, да и кому, как не Агину, обязан театр теми гоголевскими типами, которые так ярко и метко выражают эпоху и помещиков? И понятно, что театр связал твоего отца и Агина, натолкнув их друг на друга.
— Бергер не слишком ценил того, кто не приносил ему прямой выгоды,— продолжала мать с горькой усмешкой .— Это доказывает его рекомендация при знакомстве, произнесенная покровительственно-снисходительным то- ном: «Он учился в академии, в Санкт-Петербурге, и может рисовать для театра даже задник, на случай, если директор не успеет…» Но отец не обратил внимания на антрепренера и сейчас же пригласил нового знакомого к себе в гости да кстати предложил ему давать уроки Наташе.
Наташа была моя старшая сестра, дочь отца от первого брака, очень живая и способная к рисованию, тогда еще девочка.
Мать продолжала:
— Они отправились вместе, зашли за мной в библиотеку, где я была за обычным делом — выдачей книг. В этот день Агин остался у нас обедать и досидел до поздней ночи. С тех пор он стал приходить к нам каждый день и уходил к себе на окраину в свою клетушку только ночевать. У него явилась, кроме театра, еще одна отдушина — наш дом, дом Рокотовых. Александр Алексеевич стал у нас своим человеком. Для него началась новая полоса жизни.
close_page
В НАШЕЙ СЕМЬЕ
Из рассказов домашних, часто отрывочных, я знала много о нашей семье, которая стала с конца 1871 года и семьею Агина.
Мы жили особенной, своеобразной жизнью. Отец, бывший губернский (псковский) предводитель дворянства, богатый помещик; он в то же время участвовал в комиссии по освобождению крестьян, но еще раньше, как только получил от деда имение и крепостных, объявил их свободными и наделил землей. Когда впоследствии мне пришлось глухой осенью, в распутицу, незадолго до рождения ребенка, ехать сто шестьдесят верст по псковским дорогам в дрянном тарантасе и на одном постоялом дворе узнали, что едет дочь Рокотова, точно из-под земли выросла коляска на шинах, явились свежие лошади, и мучительная тряска кончилась. Прошло более тридцати лет с тех пор, как отец отказался быть рабовладельцем, но окрестные крестьяне помнили его и говорили: «Мы старое добро не забываем».
Впрочем, деревню отец не любил: судьба занесла его в Ковно, где тогда вице-губернатором был первый муж матери Ф. И. Львов. Мать вышла замуж без любви, и умный, образованный, с широкими взглядами Рокотов произвел на нее сильное впечатление. Она была миловидна, прекрасная музыкантша; обладала той мягкостью и женственностью, которые производили чарующее впечатление как на мужчин, так и на женщин. Любила читать, и когда отец приносил ей новинки литературы, она жадно на них набрасывалась. Разве мудрено, что они полюбили друг друга? Но у нее было пятеро детей, у него трое, и обоих связывал брак.
Мать хотела подавить в зародыше чувство и просила мужа устроить так, чтобы не встречаться с нравившимся ей человеком. Но Львов не придал значения этой просьбе, а когда заметил, что женой его серьезно увлекается «этот чудак-шестидесятник», вызвал его на дуэль. Узнав о готовящейся дуэли, мать бросилась к Рокотову, умоляла не стреляться. Отец послал Львову записку: «На дуэль явлюсь, но стрелять не буду; стрелять можете вы; я — противник убийства». Результатом было то, что Львов застрелился.
Мать осталась с пятью детьми без всяких средств. Она не захотела жить за счет богатых родственников и поселилась в Киеве с отцом без брака. Все свое большое состояние отец предоставил во владение первой жены и трех детей и на оставленную небольшую сумму открыл библиотеку и газету.
Мать стала работать… Состояние вернулось к отцу
лишь после смерти жены, умершей от холеры. Тогда он задумал новое дело: народный театр. Вот в эту-то пору и познакомился с ним Агин.
До Агина и раньше доходили слухи об отце. В городе говорили, что этому чудаку в русской рубашке и поддевке не впору богатство. Он окружал себя разношерстной молодежью, голодными актерами, лохматыми студентами. И, наконец, его советником стал учитель рисования, которого в Киеве звали «Слоеный пирог».
И отец и мать ни с кем из киевской аристократии не сходились. Если они были несколько ближе к попечителю учебного округа Антоновичу, то, наверное, только потому, что за Антоновичем в юности водились кое-какие «грешки», во время учения в Московском университете. Толковали о дружбе Антоновича с «крамольниками», в том числе с Герценом; судачили о ссылке Антоновича за участие в какой-то политической организации.
А «Слоеный пирог» чувствовал себя у Рокотовых, как рыба в воде.
Жизнь в нашей семье походила на котел, в котором вечно бурлило и кипело: бурлило в редакции «Киевского вестника»; бурлило в театре за кулисами, куда отец теперь ходил каждый день вместе с Агиным; бурлило и дома, где после спектакля собирались актеры. Спокойная тишина царила только в библиотеке.
Бергер соблазнил отца стать во главе драматической труппы. По контракту он содрал с непрактичного дилетанта четыре тысячи — тогда целое состояние. Отец ухватился за любимое дело особенно горячо, так как к этому времени его газета была закрыта цензурой за «либеральное направление».
Народный театр — это была давнишняя мечта моего отца. И теперь труппу для этого театра он подобрал хорошую, крепкую; репертуар публике нравился.
Все свои планы, выбор пьес, столкновения с Бергером, удачи и неудачи, распределение ролей, отношения с труппой, постановки, эскизы грима и костюмов отец обсуждал неукоснительно с Агиным.
Для этих дешевых спектаклей,— говорил Агину горячо отец, у меня будут и гастролеры, но гастролеры первосортные, как первосортный декоратор. Посмотрите, пожалуйста, намеченный репертуар; ежели что не одобрите, Александр Алексеич, мы потолкуем. Немало вы видели хорошего на своем веку.
Мать вспоминала, как они засиживались до поздней ночи, обсуждая репертуар, планы постановок, актерские силы. И лишь далеко за полночь Агин плелся на окраину, в свою чердачную конуру.
Александр Алексеевич видел, что у отца большие способности к рисованию, и учил его гриму, и отец, увлекшийся новым искусством, помогал актерам гримироваться, а впоследствии певшему у Бергера Стравинскому— создать облик Олоферна в опере Серова «Юдифь». Стравинский потом считался блестящим исполнителем этой партии.
Как-то раз отец вернулся из театра очень озабоченный и спешным шагом прошел в гостиную, где в кресле, на обычном месте, нашел читающего книгу Агина.
— Александр Алексеич, на вас у Бергера вся надежда. Да и сами вы можете кое-что заработать.
При слове «заработать» Агин, конечно, недоуменно посмотрел на отца. В последнее время он как-то особенно мало думал о заработке. Прозвище «Слоеный пирог» его нисколько не беспокоило; потребности его были невелики— вот разве только табак, да и то он курил дешевый и немного, а на кормежку не надо — сыт в рокотовском доме. За стол дает уроки старшей девочке и, кроме того, начал целый ряд портретов этой семьи.
— Заработок — вздор,— усмехнулся художник, глядя из-под очков смеющимися глазами.— Виноват, впрочем, не учел… приходила за деньгами прачка, да и за комнату скоро платить придется. Я даже собирался на этот случай взять какой-нибудь урочишко у «липовой аристократии».
— Можно пока и без этих уроков обойтись. Бергер ищет, кто ему сделает голову Олоферна для новой постановки. Я указал на вас. Могу выхлопотать у него более или менее приличную сумму за эту бутафорию.
Агин уже засветился творческой радостью.
— Вот чудесно! Голова Олоферна! Восток, настоящий Восток! Скажите, что я согласен. Вы видели Олоферна в моих иллюстрациях к Ветхому завету? Как вам кажется, подойдет?
close_page
ОДНАЖДЫ СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ…
У нас в семье все очень любили вспоминать о Киеве. Видно, уж очень там была насыщенная, до краев, жизнь.
С утра до ночи тогда в нашем доме на Левашевской толклись разнокалиберные люди. Агин, сидя за рисованием, прислушивался к сердитому голосу нашей экономки Аксиньи:
— Та чего чипаетесь до буфету? Нема больше вина. Чи буду зачинать для вас новую бутылку?
И обидчивые возгласы:
— Когда же Владимир Дмитриевич отказывал артисту в рюмке водки?
Застав эту картину спора Аксиньи с актерами, отец, смеясь, разрешал открыть новую бутылку. Беспечные, как птицы, и часто голодные люди в сущности хозяйничали в нашем доме, как в своем собственном.
Когда они уходили, отец спрашивал у Александра Алексеевича:
— Что скажете?
— А что надо сказать?
— Вы — художник, значит физиономист, психолог.
Вы должны хорошо понимать их сущность.
Агин благодушно усмехался.
— Все на подбор, как говорит народ: «В брюхе щелк, а на брюхе шелк». Особенно дамы — последние гроши «распудривают». А насчет психологии я вам скажу вот что: обращали вы внимание на Самсонова?
Желчный, больной человек. Жизнь у него тяжелая. жена морфинистка. Сам пьет, кажется, запойно. Причем образование получил высшее, с Добролюбовым был приятель. Не ко двору он в театре.
— А почему пьет? — спросил Агин.— Знаете, что он сказал раз среди товарищей? «У меня, говорит, мускул
смеха атрофировался». А комик Сахаров ему в ответ: «Это что за беда, ежели у Мармеладова мускул смеха атрофировался? А вот ежели он у меня, у Робинзона- Аркашки, исчезнет, тогда мне — могила».
— Но таланты, Александр Алексеич, незаурядные таланты?..
Художник тогда внимательно, чуть прищурясь, взглянул из-под очков на отца.
— Вы не посидите ли у меня сейчас немного на натуре, Владимир Дмитриевич? Вот таким бы энтузиастом вас изобразить…
— Охотно. Но что вы скажете о талантах?
— Несомненно, что между людьми, бывающими у вас, есть и недюжинные таланты. И даже большие, как Фанни Федоровна Козловская, Дубровина, Барышева, Самсонов. Но таланты эти нередко голодают… И это невыносимо досадно в простом расчете на развитие сценического искусства. Пожалуйста, милый мой, не опускайте печально голову. Думайте об их талантах, а не о голодных желудках. Я сейчас…
Он закрыл холстом начатый портрет девочек Рокотовых. Три подростка намечены углем: рама окна, а из окна, из-за горшков с цветами, смотрят все три, такие разные как по характеру, так и по наружности: некрасивая старшая Наташа, но с живым, необычайно подвижным лицом; средняя Катя, брюнетка, с глазами украинской мадонны, и младшая, вся в золотых кудрях, с большими карими мечтательными глазами. На другом мольберте уже стоял подрамник с начатым портретом отца.
Водя по холсту длинным, тонко очиненным углем, художник говорил:
— Древние мастера, работая, старались занимать свои модели пением и музыкой, чтобы вызвать веселое, бодрое выражение. Я не древний мастер, а просто ри-со- валь-шщик,— сказал он свое словечко,— но хочу, чтобы у вас не было кислого выражения скуки, а потому занимаю вас беседой. Прескверный попался уголь… дерет, как щепка… Но продолжим разговор об актерах. Уехал от Бергера Самсонов, и теперь станет он колесить матушку Россию с пятаком в кармане. Может, придется считать верстовые столбы, двигаясь по способу пешего хож-
дения, и где-нибудь помереть на дороге. И не будет жалеть. Чем порадовала его жизнь? И разве мало на этой торной дороге недооцененных талантов. Не знаете еще вы, милый человек, горемычной актерской жизни… Но прошу философски относиться… а сам только о них и говорю, о горестях… Впрочем, утешайтесь: в нашей антрепризе они отогреют и души и желудки, наши актеры. Так и льнут к вам от мала до велика. Пожалуйста, не шевелитесь: сейчас схвачу в ваших глазах то, что мне надо…
А вечером, в той же комнате за круглым столом, у большой лампы на бронзовом постаменте с бюстом жеманной дамы, Агин в кругу своей новой семьи, потому что наша семья — его семья. Это суббота, а в субботу, как в то время всегда под праздник, спектакля в театре нет, отец дома, и должны собраться друзья — не в обычную полночь, после спектакля, а раньше.
После обеда, чуть зажжен свет, отец читает вслух. Он читает хорошо, хотя сильно грассирует; приносит все интересные вещи: Писемского, Данилевского, Салиаса, Марка Вовчка,— тех авторов, которыми тогда увлекалась интеллигенция.
Агин рисует акварелью узор для вышивания матери; рядом примостились со шнурком на рогульках девочки, двое мальчиков прилаживали удочки, а с другой стороны матери восседала в кресле жившая у нас тогда старая дама в кружевной наколке, нетерпеливая, с деспотическими замашками, немного жеманная. Она, конечно, критиковала и вышивку и рисунок. Цвета не те. Шерсть не та. Канва слишком крупна. Оттенки никуда не годятся. Сюда нужен шелк, а не гарус и не берлинская шерсть. И шелк не «шемаханский», а непременно «филозель». Сорок лет назад у нее было вышито таким шелком бальное платье, и она была восхитительна,— сам Пушкин это находил…
Так капризно говорит знаменитая Анна Петровна Керн, во втором браке Виноградская. Она живет у моих родителей давно, на их иждивении, живет со всей семьей, в ожидании каких-то будущих благ. Она никак не может забыть, что когда-то была обаятельна и вдохновляла самого Пушкина, и любит напоминать об этом каждому к месту и не к месту.
Бок о бок с нею ее верный раб — муж, на двадцать лет моложе ее, но все еще влюбленный в этот памятник пушкинской эпохи. На морщинистом лице жены он видит прежнее очарование, во всем ей поддакивает.
Перерыв. Слушатели вытирают слезы. Грусть туманит большие кроткие глаза матери. У Анны Петровны вырывается со вздохом:
— Странная, однако, пошла теперь литература! Она должна развлекать, а тут какое-то неприятное ковырянье… Лучше бы почитать Марлинского или Дюма…
В передней звонок. Начинают собираться гости. Мать говорит девочкам:
— А вы опять разбросали свои башлыки, милые лентяйки. Соберите скорее. Сейчас будем музицировать.
Мальчики уносят свои рыболовные принадлежности, девочки — красные башлыки, специально купленные для них оригиналом отцом и разбросанные по стульям еще с момента возвращения из гимназии.
Агин как-то боком подходит к матери с таинственным свертком в руках. Лицо у него сконфуженное, виноватое. И в то время как старушка Керн кокетливо поправляет перед трюмо свой фаншон, он, путаясь и смущаясь, торопливо шепчет:
— Дорогая, прекрасная женщина… вы знаете, как я люблю и уважаю вас, и поймете, и простите, и не станете гневаться… Возьмите ваш подарок обратно… Я не могу его принять… Я подумал и не могу…
— Такой пустяк? Почему?
Он смотрит на нее ласковыми близорукими глазами и отвечает вопросом на вопрос:
— Скажите, вас оскорбляет вид киевского «Слоеного пирога»? Но не могу же я, будто по волшебству, превратиться в киевское «сухое варенье» от знаменитого кондитера Балабухи?
А мать говорит и, конечно, с дрожью в голосе:
— Не надо шутить, Александр Алексеич… Разве я хотела вас обидеть, когда, покупая с мужем башлыки для девочек, купила и вам, как родному? Но только нс красный, как им, а обыкновенного верблюжьего цвета.
Тогда он взял ее обе руки и прижал к сердцу тем жестом, когда не хватает слов, и сказал серьезно:
— Уверяю вас, что мои платки отлично защищают меня от холода, а лишнего мне ничего не надо. Вы хорошо знаете мое к вам отношение, ко подарков не надо… прошу
вас… не надо…
— Да ведь вы сами делаете нам каждый день подарок своим посещением! — искренне вырвалось у матери.
И за уроки не берете и за портреты. Вам это можно, а мне запрещается такой пустяк…
Художник смеялся.
— Плохая же вы счетчица. Не понимаете, что я получаю от вас несравненно больше, чем даю: я имею у вас все, что мне надо, даже семью. К чему же мне еще плата?
И тихонько положил сверток на диван, рядом с вышиваньем.
Комната полна гостей. Это все люди искусства. Здесь и певцы, и певицы, и драматические актеры. Дети отосланы спать; мать садится за фортепьяно аккомпанировать известному тенору Федору Петровичу Комиссар- жевскому, приехавшему в Киев на гастроли. Он пост с молодой певицей оперной труппы Бергера А. А. Санта- ганно-Горчаковой из «Жизни за царя» Глинки:
И миром благим про-цве-тет!
Вот замирает последняя нота, раздаются рукоплескания. И вдруг томный голос:
— Милый Федор Петрович, спойте романс, посвященный мне…
Ну, села на своего конька! — бормочет на ухо матери Комиссаржевский и прикидывается непонимающим.— Это какой же, уважаемая Анна Петровна?
— «Я помню чудное мгновенье…» Вы его так божественно поете.
Комиссаржевский преувеличенно почтительно раскланивается и снова придвигается к фортепьяно. Мать разворачивает ноты.
Она всегда рассказывала с волнением, как все это вы- нехоРошо’ -гда за ‘первыми аккордами аккомпанемента прозвучала первая фраза:
Я помню чудное мгновенье…
На лицах слушателем застыло недоумение. Черные глаза Горчаковой с каждой нотой выражали все больший я больший ужас. От конфуза плечи матери ежились и пригибались к клавишам. Массивная фигура длинноволосого Лярова, баса из оперы Бергера, склонилась к Агину; слышался его театральным шепот:
— Голубонька моя. Александр Алексеич, что же эго он? Зачем же детонирует?
У Агина был прекрасный слух, и ему ли не знать этого романса. Сколько раз у Брюллова, на пирушках «братии», слышал он его в исполнении самого Глинки!
— Я шептала Комнссаржепскому,— говорила мать.— я умоляла его: «Федор Петрович, не надо так жестоко шутить». Но он продолжал. Оборачиваясь к Анне Петровне своим красивым лицом с ястребиным профилем, невероятно буффоня, он выражал нарочитое чувство восторга и обожания. Прижав руки к груди, закатывая прекрасные синие глаза, он безбожно детонировал: «Как гений чистой красоты!» А у бедной вдохновительницы Пушкина по морщинистым щекам текли слезы. Она ничего не замечала и восторженно улыбалась. Я снова сказала с мольбою: «Перестаньте же шутить, Федор Петро- вич». Тогда Комиссаржевский тряхнул своими длинными волнистыми волосами и закончил романс в тоне; только одни глаза его смеялись. А в это время Агин, с олимпийским спокойствием следя за этой сценой, набрасывал что-то в альбом. Но были портреты присутствующих, и, надо сознаться, он некоторых не пощадил.
— Кого не пощадил? Комиссаржевского и Керн? — спросила я.
— И не только их. Воэле Анны Петровны сидели ее муж и сын, оба долговязые, рыжеватые, с лошадинооб- разными неумными лицами. Я слышала шепот «Шурина», как нежно называла его мать: «Папаша, мамаша так расчувствовалась, что завтра же начнет гонять нас с тобою по всему Киеву искать ей розовую конфетку, точь-в-точь такую, как получила она когда-то из рук самого Пушкина».
И вдруг из дальнего угла поднимается наша актриса инженю, славная Фанни Козловская, «Фаиничка», как ясе ее нежно называют. Тоненькая, маленькая, совсем эфирная. У нее были такие чудесные мягкие карие глаза…
Мать не сказала, что и глазами, и фигурой, и всем своим обликом Фанни Козловская была похожа на нее настолько, что иногда встречные на улицах их путали. Она продолжала:
— Как заблестели эти кроткие глаза! Какой в них был молчаливый упрек! И, как бы протестуя против бестактной шутки, она порывисто подбежала к Анне Петровне, обняла ее и звонко поцеловала морщинистое лицо,
залитое слезами умиления…
— А Комиссаржевский? Как отнесся к этому он?
— Комиссаржевский обернулся на аплодисменты дрожащих старческих рук и встретил выразительный взгляд Фании. Ему невольно стало не по себе: драматическая актриса, волновавшая зрителей своей глубоко искренней,
задушевной игрой, та, которую товарищи звали «совестью группы», явно выразила неодобрение его поведению. И с виноватой улыбкой он обратился к Лярову: «За вами ария мельника, Александр Андреич. Пожалуйте к инструменту Комиссаржеискому действительно было неловко. Возможно, что он вспомнил рассказ одного актера: когда,
по ходу действия, ему надо было замахнуться на Фанни Козловскую, он сказал на репетиции: «Это смешно, но я не могу поднять руку на Фанничку, даже в роли».
— А как же отнесся к этому эпизоду Агин?
— Агин! Это большой простодушный ребенок и притом всегда художник! В его альбоме уже красовалось ми-
лое лицо с негодующим взглядом больших правдивых глаз, а рядом, у фортепьяно, живописная фигура певца и я. — вообрази, и я,— с головой, ушедшей в плечи… и еще один образ: расстроенное до слез старческое лицо бывшей чаровницы… Куда исчез этот рисунок?
close_page
ГОЛОВА ОЛОФЕРНА
Агин получил, наконец, от Бергера заказ на голову Олоферна. Предаю в пересказе то, что я слышала от матери об истории создания этой головы.
стым. Обеспокоенная мать решила, наконец, послать ему в судках обед.
— Вы, Аксиньюшка,— сказала она экономке,— стукните ему в дверь три раза с промежутками, а то иначе он не откроет, так уж у него условлено. И не смотрите, что снаружи замок висит,— это только для виду.
Аксинья вернулась не скоро.
— Едва нашла Александра Алексеича,— рассказывала она,— и куда только забрался, божечка мой! До самой Соломенки дошла, речку Лыбедь перешла, а сама ду- маю-гадаю: чи то идти к Байковой роще, к кладбищу, чи то к Протасову Яру,— плохо я эти места знаю. Повернула к кадетскому корпусу, дальше — к вокзалу, где керосиновые склады. Ну, наконец и нашла эту самую Беза- ковскую улицу. Шукала долго. Домишко-то — чистая развалюха. Лестница снаружи прилеплена, ступеньки под ногами так и гнутся. А вверху мелом намалевано: «Агин». И номер, как указали, он самый.
— Да здоров ли Александр Алексеич?
— А я знаю? От такой жисти и заболеть не мудрено. Вижу, на двери замок, как вы сказали, болтается. Я давай стучать. Три раза с остановками. Пошаркал кто-то изну.ри пробоем тихонечко, крадучись, после щелочка чуть приоткрылась, пробойчик как-то затейно втянулся внутрь, а с ним и замочек, ей-богу. А из щелки Александр Алексеич: «А, это ты, Аксиньюшка!» Я ему хотела про ваше беспокойство рассказать, да как закричу, едва он дверь открыл: «Батюшки светы! Страсть какая!» До сих пор по спине мурашки ходят… Отрезанная голова у него на столе лежит… А он только смеется: «Это же не всамделишная, не бойся». Ну, а я все же ховаюсь, от греха бы подальше… Он зачал уверять, что сам ее для театров сделал из бумаги с мукою… Ему-то смешно, а я дюже боюсь,— сердцем я слабая… И конура ж у него, надо правду сказать, самая что ни на есть несчастная! Всего в ней навалено,— как это только он в ней повертывается? На полу в кучи свалены: и рамы туточки, и доски, и ящики разные, и картины какие-то, и книжки, и бумага трубками… А паутины что нарастил, божечка ты мой! Сам нечесаный и почитай в одном белье… Ветер в этом кутке так и свищет, а посередь стола лежит эта самая страшенная голова и кругом — мука да краски всякие… И как это человек живет в таком хламе да бедности, прости господи!..
И вот настал знаменательный день постановки «Юдифи». Мать очень ярко рисовала мне картину этою спектакля, и я воспроизвожу его по памяти.
Театр переполнен. «Юдифь» со Стравинским привлекла весь город. Гастролера вызывали без конца. В первом же антракте Бергер спрашивает у режиссера.
— Агин здесь?
— Нету еще, Фердинанд Георгич.
— Как же это? Он прислал своя голова без себя?
Кто-то из певцов сострил:
— Как же это можно притащить свою голову без себя? Он не фокусник!
Бергер строго посмотрел на насмешника.
— Голова Олоферна — своя работа.
От волнения антрепренер акцентирует больше, чем обычно. Режиссеру тоже не до смеха. В тоне Бергера слышится серьезное раздражение.
Режиссер вытер вспотевшую лысину и взмолился:
— Напрасно гневаетесь, Фердинанд Георгич! Я же посылал к Агину еще утром. Рассыльный сам видел готовую голову, надо было только, чтобы она немного попросохла, дабы краски не размазать. Прикажете задержать антракт?
Вот именно. Не давайт звонок. А ви, молодой ше- ловик, слишком смехотворны,— как бы сие не помешаль вам исполняйт ваша партия.
Бергер отошел. Антракт задержали. Но Агина с го- ловои Олоферна все не было. За ним послали на извозчике рассыльного. Режиссер кипятился:
— И дернуло же Агина поселиться черт знает где! В эту дыру за три года не доскачешь!
Последний антракт затянулся до бесконечности.
Стравинский начал тоже нервничать Что же это такое,- оперу нельзя кончать без головы! Странная антреприза!
Публика нетерпеливо колотила ногами в пол, в барьер на галерке, в скамейки. Театр гудел:
— Пора! По-о-ра-а! На-чи-най-те!
Бергер чертыхался и кричал, что больше никогда не даст ни одного заказа этому неаккуратному художнику. Какой-то услужливый выходной актерик из драматической труппы подскочил к антрепренеру.
— Не хотите ли, Фердинанд Георгич, занять антракт злободневными куплетами? У меня есть такие…— подмигнул он и поцеловал кончики пальцев.
Бергер зарычал:
— Здесь не кафешантан! Мой театр…
Он не успел докончить. За кулисы влетел рассыльный. Пот катился с него градом. Он размахивал руками и, задыхаясь от усталости, мог только выговорить:
— Голова здесь… Я его перехватил на извозчике…
Из-за картонных кустов показался, наконец, и сам Агин. В его руках из завязанного узелком ситцевого платка свешивалась чуть ли не до пола великолепная борода, вся в затейных завитках шелковистых черных волос.
Он шел не торопясь и спокойно улыбался.
— Это… это… вас ист дас, герр Агин? — грозно зазвучал голос Бергера.
— Голова тирана Олоферна, коего казнила в патриотическом рвении иудейская красавица Юдифь…
— Нет, ваш опозданий, герр Агин, ваш неуместный улыбка…
Вместо ответа художник развязал узел. Показалось мертвенно-бледное лицо с большими закрытыми веками, с окровавленной, косо срезанной шеей.
— Мейн готт! — вскрикнул, содрогаясь, Бергер.
Ему, вероятно, показалось, что Агин, этот чудак, не успев сделать заказанную голову из папье-маше, взял настоящую из анатомического театра и теперь окровянит дорогой шелк нового костюма Юдифи.
Около Агина столпились театральные служащие.
— Ай, страсти какие! — взвизгнула портниха, нагруженная газовыми шарфами для статисток.
Агин невозмутимо объяснял:
— Опоздал, потому что был в полиции. Пока-то они разобрали, в чем дело, и отпустили. А вы бы перестали визжать, милая женщина, а то у меня голос довольно слабый и глухой,— мне трудно вас перекричать.
_ При чем тут полисий? — выходил из себя Бер- гер.— Откуда сия голова?
Агин показал на лоб и руки:
— Вот отсюда и отсюда. А муку купил в мелочной лавочке второго сорта, мягкую; крупчатка не годится, рассыпается…— И обратился к режиссеру: — Забирайте, милый человек, а то я сам знаю, что уже поздно. Но не моя вина. Голова готова еще с утра и к вечеру хорошо высохла. Напрасно я не взял извозчика,— вот моя ошибка. Я люблю ходить пешком, и это моя обычная прогулка — от вокзала сюда. Иду это я, несу ее, рад, что не опаздываю. Вдруг по дороге — полицейский крючок. Положил он мне этак руку на плечо и изрек: «Не пущу. Ступайте за мною в участок».— «Да что ты, голубчик?»— «Я-то ничего, а вот что это в узле?» — «Голова».— «Вижу, что голова человеческая».— «Да ведь это голова сделанная, не всамделишная». Не верит, твердит свое: «Вижу, что голова, а потому идемте в участок — там разберут, какая и чья она такая». И повел… Идем, молчим. Я несу узелок, а полицейский косится на него, и лицо у блюстителя порядка, как полагается, грозное, точь-в- точь как было у вас, Фердинад Георгич, когда я вошел.
— Прошу вас,— вспыхивает Бергер,— объясниль после!
Не обращая внимания на нетерпение антрепренера, Агин прервал рассказ и начал невозмутимо разоблачаться, освобождая себя от «слойки» и ища место, куда бы запрятать бесконечные платочки, чтобы они не затерялись.
Бергер стал помогать ему, хотя и с досадой. — Ну, ну… русский всегда не торопилься… Агин между тем продолжал:
Пришли в участок, а фараон, натурально, заявляет: ваше лагородие, поймал убивцу с отрубленной головою, можно сказать, на месте преступления». Меня тут, признаюсь, смех стал душить. Уж я не оправдываюсь, а молча развязываю платок и вынимаю голову… Сначалавсе в участке даже попятились… Я постучал по голове пальцами: «Видите, говорю, она не настоящая, а как бы картонная. Отпустите меня поскорее,— в театр нельзя опаздывать».— «Фу ты, черт, ну как есть совсем живая»,— сказал выразительно пристав и, наконец, отпустил. Вот и вся история.
Бергер давно уже не слушал, отдавая приказание начинать.
Мать рассказывала подробно, картинно, и у меня ярко сложилась в памяти эта сцена. Я спросила ее:
— А голова? Куда она делась? Неужели потерялась такая художественная лепка?
— К сожалению, в конце концов потерялась. Впрочем, Бергер чуял ее ценность и очень дорожил ею. Она долго оставалась в Киевском городском театре, и, когда кончилась антреприза Бергера, эту голову видели приезжавшие в Киев актеры, но потом она куда-то бесследно исчезла.
close_page
Я БУДУ ДЛЯ НЕЕ РАБОТАТЬ
Агин все теснее сближался с нашей семьей. С самого появления в нашей квартире он подружился с моей старшей сестрой Наташей, тогда двенадцатилетней девочкой.
Она была живая, одаренная: на лету схватывала предметы в гимназии, шутя выучилась латыни, чтобы репетировать младших братьев, играя училась рисованию; позднее делала художественные вышивки и недурно самоучкой лепила, настолько недурно, что впоследствии у нее взяли для музея Петербургской консерватории два бюста: один — композитора Римского-Корсакова, другой — дирижера Никиша.
Наташе Агин грустно поведал о своем одиночестве: рассказал о том, что у него был любимый брат Василий, которого он растил своими трудами, которому заменял отца, мать, няньку. Он вырастил брата, дал ему образование в академии. Вася вместе с ним работал и сделал немало иллюстраций. Вася был прекрасный пейзажист; он был и автором ценных рисунков финляндских шхер.
_ Д где же он теперь? — спрашивала сестра.
Агин горько усмехнулся.
— Съели волки,— сказал он.
Она удивилась.
_ Настоящие волки? Неужели в деревне развелось так много волков?
— Нет, не в деревне, а в городе. И, видя недоумевающий взгляд девочки, добавил: В городе свои волки, двуногие.
И полилась беседа, раскрылась душа, вырвалась наружу долго копившаяся затаенная боль: вспомнилось, как Васю измотали — ведь он не был в свое время выкуплен из податного сословия, и ему «забрили лоб в солдаты»; вспомнилось, как потом, чтобы освободить от солдатчины, которая по тогдашним законам тянулась двадцать пять лет, Васю поместили в сумасшедший дом. В конце концов собрали деньги, чтобы освободить Васю от солдатчины вчистую, «вызволили» его из сумасшедшего дома, но слабый организм, надломленный долгими годами нужды, не выдержал: молодой художник начал пить… Впоследствии он добровольно пошел в ополчение, в «морские охотники», во время Севастопольской войны.
— С тех пор как в воду канул. Ничего никогда я не слыхал о нем,— говорил грустно Агин.
Исчезновение младшего брата было глубокой раной в сердце одинокого художника, не знавшего, кому отдать свои отеческие заботы. К таким заботам у него была особенная потребность.
Вот отчего он обрадовался, когда однажды сестра Наташа сказала:
У мамы скоро будет ребенок. Знаете? Я слышала, вас хотят просить крестить. Пойдете?
Он весь заулыбался:
За счастье почту! Будет для кого жить, работать! Только бы девочка!
Вероятно, ему вспомнилось, как трудно было воспитывать Васю. Девочки ему казались мягче.
— Не вышло,— отвечал он на вопрос сестры, почему он не женился,— Это… особое дело… женитьба. Какой я семьянин. Богема. Впрочем, была и любовь, как пола
гается всем людям. «Она»— дочь моей хозяйки в Петербурге, шестнадцатилетняя девочка, и вышла замуж за другого. И отлично сделала. Но я ее хорошо, очень хорошо помню до сих пор. Милая девушка. У меня от нее сохранилась дорогая памятка: ларчик.
Во время уроков он говорил с сестрой о разных разностях, перемешивая рассказы из греческой мифологии и истории с воспоминаниями о времени своего учения и жизни в академии, о профессорах, о методах работы, вспоминал художников-товарищей, выставки, вспоминал и старое прошлое, детство в захолустье Псковской губернии, а рассказывать он был мастер.
— Вы спрашивали, почему я Агин, а не Елагин? Елагин — фамилия моего отца, помещика, бывшего офицера кавалергардского полка, а мать — его крепостная, экономка. Родился я в тысяча восемьсот семнадцатом году, когда еще не улеглись впечатления от Наполеона, когда еще было свежо в памяти «французское нашествие», как тогда говорили. Рос я с братишкой, как и все дети дворовых помещичьих усадеб, среди сада, огорода, конюшни, птичника и скотного двора, на полной свободе, а Агиным стал потому, что приставка «Ел» мне в будущем не полагалась. Я потом очень мало ел. Мой отец догадался, что, пустившись на чужую сторону, я не очень-то обильно буду есть,— вот он, выправив нам с Васей вольные, начало фамилии и откинул. Потому не Елагин, а просто Агин. Это было принято с незапамятных времен с такими… побочными… Так с братом и в академию поступили не Елагиными, а Агиными. С тех пор частенько приходилось недоедать.
Сквозь шутливость его тона сестра уловила грустные ноты. Он продолжал, уже бодрее:
— Голод — это все пустяки. Отец умер, все же подготовив меня несколько к жизни. Мы с братом даже учились в гимназии,— брат, впрочем, недолго, уже после смерти отца,— туда его отдал я, как старший. Потом мы узнали настоящую питерскую голодовку. Судьба во время студенчества послала мне помощь: ежемесячное пособие из Общества поощрения художеств. И в академии радость работы была велика, особенно когда я кончил общеобразовательный класс и попал в ученики к знаменитому Брюллову, В класс исторической и портретной живописи.
Он рассказывал все это. старательно чиня карандаши для рисования своей ученице и укладывая их рядком, один к одному. Чинил он артистически и любил это делать.
Раз Агин пригласил сестру к себе, в свою клетушку. Она пришла в ужас, как и Аксинья, от вида этого убогого жилья и рассказывала горячо, волнуясь:
— Как это можно, чтобы такой художник жил в этой нищете! Повернуться негде, все завалено хламом, везде пыль и паутина. Не заметила ни картин, ни книг, никаких признаков работы, да. пожалуй, и трудно было бы работать при таком освещении и в таком хаосе. Он, впрочем. показал мне маленькую лепную вещь, свою давнишнюю скульптуру — ребенка (амура) на льве—барельеф из розового воска на темном картоне. Мне эта вещь показалась удивительно тонкой.
Любила сестра вспоминать уроки с Агиным. Сначала он пробовал заниматься со всеми тремя девочками, но у двух Львовых ничего не выходило; он решил, что не стоит их мучить, и оставил только одну ученицу — Наташу.
Уроки эти, не имея никакой определенной системы, все же много давали. С необычайной щедростью художник спешил поделиться своим искусством, и так ему много хотелось передать, что поневоле иной раз приходилось делиться только отрывками знаний.
— Он очень напирал на технику рисования,— говорила сестра.— Помню, он учил, как передавать пером листву различных деревьев,— <для каждого дерева свой почерк»,— и показывал различные приемы тушевки. Сам изумительный рисовальщик, он, казалось, и мне хотел передать свое искусство. Больше всего ему претила небрежность в работе. Тонкий миниатюрист, он очень радовался, когда и в своих учениках видел успехи в этом направлении. Как-то он принес мне в назидание рисунок графитом одной своей ученицы, изображавший какой-то живописный вид, величиной не более стекла от очков.
Помимо других рисунков, он дал мне копировать с литографии какой-то горный пейзаж, который я рисовала месяцами, стирая, снимая маленькую неровность тушевки, пока учитель не остался мною доволен. Помню, он шутя положил оба рисунка рядом, закрыл глаза, потом перепутал их и сделал вид, что не сразу может отличить копию от оригинала. Я, конечно, торжествовала. Снимать тушевку он меня учил катышками из недопеченного черного хлеба. Раз он, смеясь, рассказывал, как разобидел лавочника, прося у него недопеченного хлеба… Рассказывал он о художниках, о разных приемах творчества. Чуждый рутины, он, помню, говорил, что важно лишь достигнуть известного результата, а не все ли равно, каким путем. «Один портретист, изображая султан на шляпе, выпишет каждое перышко, другой достигнет того же эффекта одним мазком кисти, и, если это выйдет хорошо, оба правы».
Говоря об этом, он вспоминал двух художников: своего товарища поэта Шевченко, который мастерски изображал пейзаж, славясь в академии именно «особым почерком для каждого дерева», и талантливого брата Василия, прекрасного пейзажиста.
Сестра отмечала неизменное добродушие и спокойствие, уравновешенность Агина.
— Ненавидевший всякую суетню,— говорила она,— Агин, однако, охотно подсмеивался и шутил, пожалуй, чаще над собою, чем над другими. Окраску добродушной шутки он придавал в своих рассказах даже таким фактам, которыми другие возмутились бы. Так, на одном из уроков, он передавал, как однажды, в поисках заработка, обратился к одному очень известному писателю, который собирался издавать некоторые свои произведения с иллюстрациями. Александр Алексеевич пробовал в это время заняться гравированием по дереву, и у него было много готовых клише с рисунками из русской жизни. Дощечки эти он и принес как образцы своей работы. Писатель просил оставить клише для рассмотрения, и затем уже Агин не получил их обратно. Не получил также ни денег, ни дальнейших заказов на клише. А через несколько времени вышла поэма, иллюстрированная этими самыми рисунками. Агин объяснил это как недоразумение, говоря: «Я рад, что моя работа не пропала даром». Вообще его бескорыстие было изумительно.
И вот, наконец, в декабре 1872 года, художник стал крестным отцом, к его удовольствию, девочки. Когда я родилась, он ходил именинником и, рассказывали, особенно нежно, осторожно держал меня на руках, идя вокруг крестильной купели, и с лица не сходила умиленная улыбка.
_ — Я счастлив,— говорил он, глядя на меня, теперь у меня есть цель жизни. Сколько я напишу картин! Мне есть для кого работать. Я буду для нее работать!
И действительно, стал на первых порах работать усердно над двумя начатыми портретами, работал лихо- радочно, приговаривая:
— Так. так. здесь нужно положить тень, а здесь — кармин… Поменьше умбры… Тропинин говаривал: «Сперва нужна кровь, а потом уже верхние покровы». И правда. Не нужно ничего лишнего. Задача простая: сосредоточить внимание зрителя на голове, как существенной части портрета. Не к чему прибегать к неестественному, черному, как сажа, фону, чтобы искусственно вызвать выпуклость, рельеф; не к чему и злоупотреблять для эффекта светом.
Агин вспомнил свои немногие давние работы по портретной живописи во время житья в Петербурге.
Теперь он возьмется с новым жаром за работу. Наследницей его творчества будет крестница. Этот ребенок вольет в него новую струю энергии. Он напишет большую историческую картину из прошлого Киева, даст иллюстрации к «Кобзарю» Шевченко. Он расскажет крестнице о старом товарище, друге юности, великом поэте- художнике, годы проведшем в суровой ссылке,— о Шевченко.
Ему казалось тогда,— рассказывала сестра,— что он много работает, что он уже немало создал за это время прекрасных картин. Но за все время, что я видела его в Киеве, я не припомню ни одной доведенной до конца работы. Он начинал всегда с жаром, говорил с увлечением о своих намерениях и всех кругом увлекал проектами. Говорит, дополняет речь жестами и вдруг в один прекрасный день охладеет, и все остановится. Остается, в лучшем случае, один набросок. Так было с начатым масляными красками портретом отца. Поначалу портрет обещал быть очень удачным, но так и остался неоконченным.
А мать с улыбкой добавляла:
— Этот мечтатель ведь был уверен, что до осуществления задачи остается немного, совсем пустяки. Говорил, что задумал большую историческую картину. Спросишь его: «Ну, как, подвигается?» Он кивает головой: «Скоро будет готова».— «Покажите нам, пожалуйста… Где же она у вас? И когда вы успели?» Он улыбается и так убежденно, бывало, скажет: «Да не на полотне, а в голове совсем сложилась. Ведь это же самое главное!» Ну что тут с ним поделаешь, с мечтателем? И еще повторяет: «Я для моей крестницы теперь буду работать».
close_page
ОН ОЧЕНЬ УСТАЛ
Его вид не нравился моей матери, и она сказала ему это как-то раз, когда застала его в праздной позе в кресле возле захлопнутой книги и затянутого холстом мольберта. Лицо было такое усталое, с таким нездоровым, землистым оттенком.
Он усмехнулся.
— И я сам себе не нравлюсь, дорогая кумушка.
— Друг мой, я хотела бы поговорить с вами искренне и просто.
— Я всегда готов говорить с вами искренне и просто, вы же знаете.
Мать это знала. Она знала, с какой теплотой и уважением относится к ней художник. Для него она была образцом новой женщины. Толстая, дочь управляющего Ведомства уделов в Москве, по первому мужу вице-губернаторша, аристократка, остригла волосы, надела скромную блузку и стала за книжные полки, с утра до ночи лазая по лестнице и терпеливо стараясь подобрать книги по вкусу читателей.
Она не хочет «есть даром хлеб» и работает, сколько хватает сил. Раньше она решилась на дерзкий шаг — жить без венца со странным человеком, который отказался от владения крестьянами и смешался, слился с акте-
рами и в конце концов вступил сам на театральные подмостки.
Пред Агиным была скромная женщина, легко и просто променявшая шумную светскую жизнь на работу в библиотеке среди пыльных книг.
Она смотрела на художника ласковым взглядом.
_ Скажите, дорогой, вы над чем-то работаете, захвачены каким-то сюжетом? Ведь вы несколько дней к нам не приходили. Прислуга же, нося к вам обед, не могла толком рассказать, чем вы заняты.
— Моя картина почти готова, милая Аглая Николаевна,— усмехнулся Агин.
— Тон делает музыку, а как звучит ваш голос! Теперь вы над собой смеетесь…
— Я смеюсь над собой потому, что у меня нет кар
тины даже в голове.
Наступило молчание. Мать разглядывала художника и разом все поняла: он точно рухнул. С лысой головой, ушедшей в плечи, мертвенно бледный и согбенный, в порыжелом фраке с протертыми белесоватыми локтями, он показался ей таким бесконечно близким, родным, что
глаза ее наполнились слезами.
— Вам надо хорошенько отдохнуть, голубчик.
Он еще помолчал, потом тихо заговорил, закрыв глаза:
Стыдно ныть мне, которому жизнь послала так
много тепла и сердечной ласки и который живет в этом удивительно прекрасном городе. Но порою меня неудержимо тянет на север, в глушь родной Псковщины, тянет услышать псковскую речь… Прекрасен благодатный, щедрый климат Украины, а меня, поди ж ты, манит суровый и бедный север. Зацветут здесь каштаны, а я мечтаю» о нашей северной черемухе.
— Почему вы не съездите на родину?
Он ответил ей, что там остались одни могилы, что даже местность, наверное, не узнаешь, даже сад разделали под пашню. И, заметив озабоченное выражение матери, спросил:
А у вас… что-то тоже не совсем ладно? Разве дела в театре не так блестящи?
Мать безнадежно махнула рукой.
— Они не были бы так плохи, ежели бы муж стал хоть немного практичнее. Но вы знаете, как он увлекается и как любит… «грандиозность»…
Она была права — именно «грандиозность». Агин вспомнил затеи отца: блестящую труппу с блестящим декоратором, великолепные костюмы…
Как бы угадав его мысли, мать сказала грустно:
— Муж точно большой ребенок, его все обманывают. И, как ребенок на заманчивую блестящую игрушку, он бросился на театр. Я не гожусь ему в помощницы: у меня самой нет практичности. Театр — наша гибель.
— Но какой широкий размах у Владимира Дмитриевича! Какие постановки! Один театральный гардероб чего стоит!
Мать засмеялась. Гардероб! Если бы он знал, что пошло материала на эти костюмы… Отец собирался ставить «Дмитрия Самозванца» Островского и для костюмов набрал настоящего лионского бархата. И мать отдала чуть не все свои платья и салопы, все соболя из приданого…
— Помните, как мы блестяще провели прошлый сезон?.. У нас был в труппе Киселевский и сказал: «Какая красивая игра!» О нашей труппе кричит весь Киев. Самсонова мы вернули; у нас и Андреев-Бурлак, и Чарский, и Фанни Козловская! Но Бергер нас буквально режет,— ведь никакие сборы не могут спасти нас от краха. Вы читали статью мужа в «Киевском вестнике»?
— Как-то пропустил…
— Вот сейчас…
Она вынула из ридикюля газету и прочла:
— «В моем распоряжении только дни, свободные от опер и репетиций; количество этих дней невелико, и могут быть целые недели, когда, за неимением свободных дней, драматические представления не будут вовсе даваемы; во всяком случае более четырех-пяти спектаклей в месяц быть не может». Но муж и не думает бросать театр,— он платит жалованье исправно, и пока у нас еще есть средства. Но, по правде сказать, я боюсь, что скоро придется попасть в лапы ростовщиков.
Мать ласково дотронулась до руки художника.
— Боюсь, что своей откровенностью я огорчила вас… Но, боже мой, какая холодная рука! И вы весь дрожите…
Да вы совсем больны… Я слышала, что у вас был обмо- рок в театре…
_ у кого не бывает в мои годы головокружения.
Она немного подумала и сказала мягко, как всегда в таких случаях, немного смущаясь.
_ Вот что, дорогой друг. Сейчас я была с вами так откровенна. Теперь я имею право на вашу откровенность. Вам нужен отдых, что называется, «хорошенько починиться». А для этого необходимы деньги. Вы же ничего с нас не берете ни за уроки рисования, ни в счет портретов.
— Которых не кончаю. И притом я уже говорил, что это душевная услуга позирующих мне. Кто же должен за нее платить? Я ведь на долгие годы забросил кисть,— теперь мне помогли в пробе сил.
— Но, кроме того, вы тратите много времени на обучение труппы гриму.
— И за то имею в театре бесплатное место.
— Ах, милый мой, но Рокотов не Бергер! Он дает вам свободное место как своему другу, члену семьи. И то, что я сейчас думаю вам предложить, отнюдь не бьет нас по карману и не моя даже в конце концов затея. Это желание всех актеров: организовать спектакль в вашу пользу.
Мать рассказывала, что художник посмотрел на нее почти с ужасом и густо покраснел.
— Не конфузьтесь. Это простая дружеская услуга. В данном случае ваша гордость не имеет корней. Недавно Александра Александровна Горчакова и Раппопорт — две очень милые женщины — устроили любительский спектакль в пользу недостаточных студентов. И студенты не думали обижаться на какое-то мнимое оскорбление. Неужели вы можете предполагать, что мы хотим вас оскорбить? Какой в свою очередь обидный вздор! Дело так просто: товарищи хотят помочь больному художнику отдохнуть. Вот и все. Через несколько дней благовещение.
од этот праздник, как вы знаете, полиция не разрешает спектаклей, а литературно-музыкальный концерт с выми картинами допускается. Бергер согласен уступить театр для этого вечера бесплатно. Исполнителей мы найдем. I ак не надо, голубчик, отказываться. Ну, по рукам?
Художник не отвечал, опустив голову. Мать вышла и через минуту вернулась с маленьким бумажником. Она достала из него пожелтевший листок и сказала, наверное, очень тихо, почти шепотом, как всегда, когда она волновалась:
— Я сейчас… сейчас покажу вам одну вещь… чтобы вы поняли мою дружбу… Еще молодой девушкой я пробовала сочинять стихи… Так, лирический пустячок… Какой я поэт? Но они — от сердца.
И она прочла ему свои наивные стихи, носившие отпечаток сороковых — пятидесятых годов, когда зачитывались лирикой Огарева о весне, о береге реки, которая «была светла, ясна», а «они на берегу сидели»…
— Истинный лирический порыв! — вырвалось у Агина.
— Ах, полноте, кто же в молодости не писал стихов? Но я обнажила душу, чтобы вы не считали меня чужой.
— Спасибо, родная Аглая Николаевна… я… я принимаю вашу дружескую услугу… Организуйте вечер…
close_page
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Агин как будто помолодел, когда появилась афиша с его позабытым «титулом» известного автора рисунков к «Мертвым душам». По целым дням он пропадал в театре, где сам писал декорации. А сестер моих и братьев приладил к живым картинам. Кому досталась «Ревекка у колодца», по его рисунку из Ветхого завета, кому «Ленора и Пери» Жуковского, а кто должен был позировать и для брюлловского «Последнего дня Помпеи».
В доме появилась гора газа, тарлатана и разных цветных тканей; засуетились портнихи; квартира превратилась в костюмерную. В театре клеились античные колонны, лепились статуи. Но откуда взять для «Последнего дня Помпеи» осла, стоящего чуть ли не в центре картины?
Кто-то предлагал в зверинце, но оказалось, что зверинец давно уехал из города; кто-то советовал вместо осла извозчичью клячу.
Агин возмущался таким бесцеремонным искажением картины своего учителя. Впрочем, он подумал немного и решил:
_ И без зверинца достану осла.
До концерта оставалось всего два дня. Бергер забеспокоился:
— Агин достал осел?
_ Нет еше,— отвечали за Агина в театре.
Бергер пожимал плечами.
Агин невозмутимо откликнулся:
— А я его сделаю.
— О мейн готт! Послезавтра вечер!
— Да ведь он у меня почти готов.
— Опять в свой ум,— вполголоса проговорил отец, копируя Бергера, очень волновавшийся, как организатор концерта.
В кассе аншлаг: «Билеты все проданы». Экипажи со «сливками» киевского общества поминутно подъезжают к театру. За кулисами — толкотня и волнение. На сцене кончают устанавливать декорации; никто никого не слушает. Бергер костит отца за его «протеже» и напоминает, что отец ответствен перед особенно хорошей публикой, собравшейся на благотворительный вечер. Рабочие спрашивают, что пойдет первым.
Наташа, смеясь, рассказывала:
— Творилось столпотворение вавилонское. Сестры кричат: «А где же колодец? Где мне стоять? Я ведь Ревекка!» — «А я — ангел».— «Мальчикам нет костюмов ни для жреца, ни для помпейского юноши». Я кричу: «Где же мои крылья Пери?» Из всех пыльных углов кулис гудит: «Где же Агин?» Было уже поздно. Давно следовало начинать. А Александра Алексеевича нигде не было. Из зрительного зала явился капельдинер и объявил, что «публика гневается» и озорники из молодежи дразнятся, будто куда-то нарочно «сховали» Агина. Слышно, как режиссер ссорится с отцом, попрекая его Агиным. «Да, может быть, Агин умер?» — сердито огрызался отец. У него самого столько неприятностей с Бергером, а тут еще эта неурядица. Режиссер, нервно колотя карандашом по тетрадке, где были записаны номера выступлений, бросает отцу: «Да по мне пусть бы хоть и умер,— одним неудачником станет на свете меньше, но концерт не должен страдать,— публика не виновата, ежели кто-нибудь из нас и помрет не вовремя, но поймите, нет осла для Помпеи,— это главное. Вон капельдинер снова шествует! Публика не желает больше ждать. Наконец, сегодня — наш свободный день, мы отдаем его нуждающемуся представителю искусства, и для чего? Бесцельно!»
Отец готов был убежать из театра, рванулся и почти упал в объятия разъяренного Бергера. А из зрительного зала действительно доносилось «беснование» — от топота ног, казалось, барьер галерки разлетится в щепы. Сквозь гул прорывались отдельные выкрики: «По-о-ра! По-о-ра! На-чи-най-те!» Кто-то дал мысль просить Андреева-Бурлака прочитать «Записки сумасшедшего». Раздались возмущенные голоса: «Это как затычку, Андреева-Бурлака?» Опять появился капельдинер, что-то шепотом говоря Бергеру.
И по всему театру понесся слух: «Тарновские приехали… Агина спрашивают». И опять все засуетились, заохали и забегали. Богачи Тарковские!
— Ну? Ну?
— Вот тебе и «ну»! Слушай. Вдруг дверь артистического хода широко распахнулась и пропустила что-то нескладное, громоздкое, какие-то папки, фанеры, свертки, а за ними и пропавшего Агина. «Наконец-то! — вскрикнул радостно отец.— На меня тут из-за вас собак вешают!» Посыпались крики, приветствия, вопросы, упреки: «А где же осел?», «Мы заждались осла!», «Да давайте же скорее осла! Где он у вас?» — «Во-от». И Александр Алексеевич, упав на какую-то закулисную тумбу, показал на груду принесенного материала. Он снял огромную шляпу, одно поле которой он спускал, подражая, как он говорил, итальянским художникам, отер лысину и, отдышавшись, пояснил: «У осла недостает пустяков: ушей, глаз и хвоста. Но все это я приведу в порядок, а пока начинайте».
«С чего же начинать, милый человек, с чего?» — заколотил раздраженно карандашом по тетрадке режиссер. «Ну, хотя бы с «Утеса Стеньки Разина».— «Это Чар- скому то, батенька, кумиру Киева, Га-амлету прикажете
начинать вечер для съезда? В уме ли вы? Да и утеса нет!» — «Утес сейчас прикажу любому рабочему накрасить. Минутное дело».— «Нет, Чарскому неудобно начи- нать» — «Ну, тогда поставьте пока Ревекку у колодца».— «Да где, к черту, колодец?» — «Колодец предполагается Поставьте Ревекку только с кувшином, а я на заднике мазну чуть-чуть, так сказать, намеком… в упрощенном виде…»
Я тоже чуть не плачу, напоминая, что у меня, у «Пери», нет крыльев. «Не успел,— отрезал художник.— Вы, милая девочка, погодите,— мне не разорваться же. А то сами приладьте, спросите у портнихи Марьи Ивановны тюль,— из него шарфы для хора в «Юдифи» делали… Мне же надо докончить осла. Антракт придется затянуть».
— Еще затянуть! — вскрикиваю я, вся переносясь в эту беспокойную атмосферу.
— Антракт затягивают до невозможности,— продолжает сестра.— Перед живыми картинами поют, читают, играют на разных инструментах. Но «гвоздь вечера» все же живые картины, и публику интересует главным образом «Последний день Помпеи». Какие-то завсегдатаи поминутно бегают за кулисы, наведываются и, возвращаясь в зрительный зал, успокаивают нетерпеливых: «Сейчас! Ну, ей-богу же, через минуточку!»
Агин спокойно, не торопясь, распаковывает своего осла. А в это время актер Маслов рассказывает, как он нашел художника: «Был я у него на квартире — там замок…» Кто-то фыркнул: «Замок-то бутафорский».—- «Был у Рокотовых — туда он сегодня и не заходил. Наконец, совершенно случайно нашел его у одних знакомых. Сидит за чайком как ни в чем не бывало, а про театр и забыл. Спохватился, побежал к себе, вытащил из своей каморки, с позволения сказать, «осла» и притащился сюда со мною на извозчике… с другим ослом, потому что только такие ослы, как я, могут делать подобные эксперименты со своим сердцем. А мне сейчас читать «Мороз, Красный нос».
— Ну что же Агин все это слышал, Наташа?
— Какое там! Да если бы и находился рядом, до его не достигло бы ни одного слова, так он был углублен в работу.

Из-под его пальцев оживали характерные длинные уши осла, намечалась флегматичная мягкая морда, туловище, хвост… Наконец художник отер влажный лоб. «Не хватает краски. Но с той стороны будет не видно,— сойдет!» — «Корзины для осла, скорее корзины!»— надрывались актеры. Бутафоры притащили корзины, и Агин приступил к расстановке действующих лиц. «Давай занавес!» Занавес пошел. Зал зааплодировал и начал восторженно вызывать художника. Картина — «гвоздь» вечера — получилась очень эффектная, как и сбор. Но многие остались недовольны и бранили устроителей, затянувших концерт до двух часов ночи.
— А Александр Алексеевич был очень доволен?
— Его никто не видел из нас в театре после окончания концерта. Он точно сквозь землю провалился. Последнее впечатление у меня от него во время этой суеты, спешки, криков, ссор и понуканий: осунувшееся, измученное лицо, изжелта-серое, будто дымкой подернутое, близорукие глаза, мешки отеков и тяжелое, прерывистое дыхание. Появляясь на сцене под аплодисменты, он смущенно улыбался и уходил нетвердой походкой, вытирая лоб своим пестрым платком. И вдруг сразу куда-то исчез. Актеры хотели приветствовать его отдельно; кто-то, вероятно, рассчитывал выпить за счет «именинника», но его и след простыл. «Агин! Агин! Александр Алексеевич!»— взывали за кулисами голоса, но безрезультатно. Как оказалось потом, театральный сторож видел его под лестницей, ведущей в бутафорскую, в уголке за тумбой с античной вазой… Он сидел, тяжело дыша, закрыв глаза. Сторож передал ему письмо от его бывшей ученицы, дочери богача Тарновского, известного помещика-коллекционера…
close_page
НА ПОКОЙ БЫ…
Рассказ сестры вызвал в моем воображении ярко, отчетливо фигуру одинокого старого художника в его смешном костюме, с его изжелта-серым лицом и закрытыми в изнеможении глазами, беспомощно прислонившуюся к лестнице в уголке кулис. Как он устал, как смертельно устал! Ему не было еще шестидесяти, а он чувствовал себя восьмидесятилетним стариком. Очевидно, тяжелая жизнь, борьба не только с голодом, но и моральные удары отняли у него немало лет жизни.
Мать передала конец истории:
_ Агин пришел в эту ночь уже очень поздно к нам на Левашевскую. Он был страшен. Пришел пешком, едва передвигая ноги. Не нанял извозчика, потому что в кармане не оказалось двугривенного, а деньги с концерта он мог получить только на другой день, после подсчета театральных расходов.
Идти домой, на окраину, было так далеко… Нет, домой не дойти. Он подумал и повернул к Левашевской. Это было необычайно: в такую позднюю пору он никогда еще не приходил к друзьям, да и не привык ночевать вне дома, говоря не раз:
— Собака, где ни бегает, а на ночлег приходит в свою конуру.
Художник слабо дернул за ручку звонка. Ему открыла горничная. Слышались веселые голоса, звон посуды; прислуга накрывала в столовой ужин. Из гостиной неслись звуки фортепьяно и пение. Глубокий и мягкий бас Лярова пел популярный в то время романс Гурилева на слова Фета:
Только станет смеркаться немножко, Буду ждать, не дрогнет ли звонок…
Ляров оторвался от инструмента и громогласно начал:
В двенадцать часов по ночам У нас появляется Агии…
Взрыв хохота актерской братии.
— Да ведь уже не двенадцать, а почти три!
— Из песни слова не выкинешь,—улыбался Агин.
— Где же вы были, дорогой кум? —сказал отец.— мы вас искали, искали по всему театру. Пожалуйте, по- жалуйте! J
— Простите меня… Я сегодня очень что-то устал. Ежели не стесню, я бы у вас переночевал… Я…
— Конечно, конечно, голубчик,— перебил его отец,— а пока прошу почетным гостем к столу поужинать.
Его повели под руки.
Агин спал очень долго, и около кабинета, где ему постелили на диване, все утро ходили на цыпочках. Он проснулся разбитым и усталым. К тому времени, когда вышел в столовую, мать уже несколько раз успела подогреть ему на спиртовке кофе. Он поблагодарил и тут же заявил:
— Вы были правы, когда говорили, что мне надо отдохнуть. Очевидно, машинка испортилась. Ведь вот не так много в сущности прожил, но стал как растянутая резина… Сердце расширилось и устало… Не помню, когда отдыхал на лоне природы… Разве вот тогда, когда самовольно вырвался на хутор в этот Вышгород… А сегодня мне передали письмо от ученицы моей Тарковской, зовет в Каченовку. Недалеко, и лоно природы настоящее.
— Это, кажется, на границе Черниговской губернии? — спросила мать.
— Оно самое.
Он задумался. Печально-недоуменная улыбка раздвинула углы его маленького, женственно-мягкого рта, так не гармонировавшего с мясистым носом.
— Как странно, кума: в голове проносится мысль об «относительности земных расстояний», вспоминаются старые истории о торговых судах, плавающих в далекие экзотические страны, о суровых викингах, огибавших берега океанов, о мореплавателях, открывавших новые земли, о рыцарях-крестоносцах, пускавшихся в неведомый мир… Все они передвигались или на утлых кораблях, или на конях. Были и странники, решившиеся идти с сумою и посохом в далекую Палестину, в Персию, в Индию— к истокам Ганга. Теперь человеком покорен пар. Пар везет его быстро по морю и по суше, но люди стали как будто реже путешествовать. Почему это? Я сам, например, сколько лет безвыездно просидел в Киеве… И теперь пустой переезд в Каченовку мне кажется важным событием.
— А все-таки будет хорошо, если вы поедете.
— Я и сам так думаю. Я недавно читал Руссо и мыслю, что человек должен быть ближе к природе. И меня мучительно тянет в поле, в лес, на лужайки со свежескошенным сеном. Нет, в самом деле надо в Каче- новку…
Он протянул за новой порцией кофе свой стакан в подстаканнике, подаренном ему актерами в складчину, и продолжал думать вслух:
— Как странно создан мир: эти Тарновские гостеприимно зовут меня к себе и будут содержать сколько угодно, ежели бы я хотел у них остаться, хоть целые годы, не жалея средств, предоставляя всякий комфорт, и они же торговались когда-то со мною во время моих уроков, высчитывая каждый праздник, каждый пропущенный по их же вине день… Впрочем, я не останусь у них в долгу,— я им что-нибудь нарисую, благо они вспомнили иллюстратора «Мертвых душ».
— У вас голос звучит очень грустно…
— А это от тоски по лону природы. Воздушный шар, изобретенный в конце восемнадцатого века братьями Монгольфье, будет родоначальником великого воздухоплавания, которому принадлежит будущее. Он сделает когда-нибудь переворот в быстроте плавания по воздуху, как плавают теперь по морю. Мечта легендарного Икара осуществится. Для чего? Только ли для блага человеческого? А если для того, чтобы вести страшные, неслыханные войны в просторах воздуха, истребляя друг друга?.. Но нет, нет… не думайте, что я против цивилизации.
— Когда вы хотите ехать?
Да надо бы поскорее, пока я окончательно не развалился. Я там смог бы, по вашему совету, отдохнуть, а потом серьезно приняться за работу. Мне надо так много сделать для нашей девочки, для крестницы. У меня уже немало начато когда-то работ. И в Каченовке воскреснет все, что потускнело в душе. А деньги… то, что я по— лучу из театра, я возьму только немного… остальное положу Маргарите.
Мать замахала руками:
— И что вы только не выдумаете! Не нужно Маргарите никаких денег! Вы лучше заплатите долги, если они у вас есть, и купите необходимые вещи. А вот ваша работа — это другое дело.
Художник насторожился.
— Какие же это мне нужны необходимые вещи?
Мать мягко сказала, пододвигая ему блюдо:
— Вы не сердитесь на дружеский совет: для Каченовки вам следует приодеться. Летом жарко, и чесучовая пара пригодится. А потом пальто… зима недалеко…
Мать пересчитала все, что ему необходимо, и предложила помочь сделать покупки. Он торговался, и она с трудом доказала, что он будет себя чувствовать ловко в этом чужом богатом доме, только приодевшись. Со вздохом он решил расстаться с обычным видом «слоеного пирога» и выторговал только одно: вырезать из александрийской бумаги самодельные «шикозные» воротнички и манжеты, которые ему очень удавались.
У художника, впрочем, осталось не очень-то много денег от концерта. Передавая ему письмо от Тарновской, сторож попросил «на чаек с вашей милости», и Агин предложил ему за чаевыми прийти на другой день, когда он получит свои деньги.
Сторож был первой ласточкой. Впрочем, и он пришел не один. За ним потянулась цепь театральных служащих и актеров: тут был и ламповщик, и бутафор, и капельдинеры, и пожарники, был и парикмахер, и портной, и помощник режиссера. Кто просил «на чай», кто «в долг».
После обеда мать стала расспрашивать художника об его «наличности», чтобы рассчитать, сколько можно взять на покупки, и ахнула.
Агин сконфуженно развел руками: он и сам не заметил, как успела растаять такая значительная сумма.
— Куда же вы дели деньги, Александр Алексеич?
Сестра Наташа давилась от смеха.
— К Александру Алексеичу весь день из театра приходили, ей-богу… А потом вот он велел нам купить к обеду угощенье!
— Ах, а я и не знал, что у вас такой невоздержный язычок, Наташенька! Это же мое «отвальное»!
На буфете возвышалась гора сладостей. Здесь были и пирожные, и торт от знаменитого кондитера «Жоржа», и конфеты, и сухое варенье, которым славился в Киеве Балабуха.
Мать делала укоризненные жесты, а художник законфузился, закашлялся и, вытаскивая из кармана платок, уронил на пол бумажник. Из него посыпались деньги, выпали рисунки. Поднимая их, Агин засмеялся.
— Смотрите… откуда он попался? Сколько лет тому назад я его рисовал, когда работал еще над «Мертвыми душами».
Он протянул портрет матери.
— И даже стихи! Можно прочесть?
— Конечно, конечно… Вы здесь увидите, что ваш кум не всегда был мрачен, что он умел и шутить…
Он показал свой автопортрет, сделанный карандашом. Карандашом были написаны почерком Агина стихи:
Се мужа славного прелестные черты, Се зеркало души высокой и прекрасной. И первообраз се высокой красоты, Для пола нежного опасный.
Се муж — роскошная надежда россиян, Враг немцев, франков, персиян, Поляков, шведов, англичан, Се диво полунощных стран.
Имел он живописи дар И голос, скрыпу врат подобный, Вседневный в голове угар И нос, для нюханья удобный.
А. Агин
У Аглаи Николаевны так и остался навсегда в памяти этот образ смеющегося легким, шутливым смехом художника.
close_page
БАРАХОЛКА
Агин гостил в Каченовке и не собирался скоро вернуться, а мы подумывали уехать из Киева.
Театральные дела отца шли из рук вон плохо. Бергер превратился в пиявку, высасывающую кровь из своего компаньона, и отец решил расстаться с киевским театром. Ему указали на Новочеркасск, который давал антрепренеру солидную субсидию в пять тысяч. Семья собралась на Дон с уже сыгравшейся в Киеве труппой.
В августе начали готовиться к отъезду. Конец лета принес с собой налитые сладким соком гроздья винограда, горы зеленых арбузов с кроваво-яркой мякотью (обглоданные их корки валялись на каждом шагу), принес скрип возов, тащивших по улицам синие баклажаны, алые помидоры, желтые и пестрые тыквы и всякие огородные чудеса; принес первые паутинки бабьего лета и нежную грусть прощания с прекрасным Киевом.
В доме все, от мала до велика, были заняты сборами. Отец носился между библиотекой, театром и домом. Книги решено было продать, кроме некоторых редких или особенно любимых. Мать была занята укладкой.
Аксинья выколачивала на дворе ковры, когда возле ворот остановился длинноусый «человек» в деревенской свитке, смушковой шапке, сильно запыленной с дороги. Он спросил «кого-нибудь из панов Рокотовых».
Аксинья пошла к матери.
— От панов Тарновских хлопец до вас, какие-то там вещи привез. В руки пани отдать хочет.
Мать вышла. Она плохо знала украинский язык и из слов посланного уловила только, что «пан Тарновский велел кланяться, передать цидульку тай вещи».
Вещи были запакованы в суровую холстину. «Цидулька» — короткое официальное письмо. Тарновский сообщал, что такого-то числа скончался у него в имении художник Александр Алексеевич Агин, прах которого предан земле на ближнем к имению кладбище. Перед смертью покойный просил все, что будет находиться при
нем, передать его наследнице Маргарите, дочери Владимира Дмитриевича Рокотова.
Руки матери дрожали, когда она распаковывала холщовый пакет…
День отъезда приближался. Мать пошла на Бессарабскую площадь купить кое-что для дороги. Надо было торопиться — дома еще оставалось без конца дела. Но ей хотелось увезти что-нибудь и на память о Киеве. А на развале продавались иногда, кроме обычных пестрых плахт и красивых гончарных изделий, и интересные предметы местной старины.
День был нестерпимо жаркий. Солнце стояло высоко и жгло почти отвесными лучами.
Мать прошла Крещатик и по другую сторону оврага услышала характерную — частую, на высоких нотах — украинскую речь. Это барахольщицы на Бессарабке выхваляли свой товар, божились, бранились и зазывали покупателей.
— О, щоб тоби щастя не мати, малохольный… Щоб тоби очи повылазили… От чертяка!
Мать выговаривала эти «хохлацкие» слова особенно комично.
— Где роги, там и хвост! Только чертяку помянули, а вин и туточки!
Перед глазами матери мелькнуло что-то знакомое. Мать, стала пробираться ближе к продавцу.
А в воздухе продолжали звенеть пронзительные выкрики:
— Макитра добра!
— Кавуны! Кавуны!
—Плахты гарные!
Где-то скрипела шарманка; визгливый голос выводил слова популярного в то время «Стрелочка»:
Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать, Как красотки шли гулять, шли гулять!
Мать не сводила глаз с расстеленной на земле тряпки, где лежали в беспорядке разные старые вещи: полинялая подушка, рядом — чашка без блюдечка и блюдечки без чашек; какая-то миска с отбитым краем; тут же барельеф из розового воска — амур на спине у льва; какие- то фотографии, рамочки без стекол и старый фрак, такой знакомый, похожий как две капли воды на тот, о котором Агин, смеясь, говаривал словами Беранже:
Мой старый фрак, товарищ мой короткий, Не покидай, не покидай меня…
Старик еврей ходил вокруг и внимательно присматривался к вещам. Другой, подросток, тянул шепотом:
— Купите фрак, папаша: столько картузов из него выйдет!
— Лоснится сильно… притом же — дыры.
— В чаю вымоем, проутюжим.
Кругом визжали на возах поросята; озорники мальчишки, шаля, дергали их за хвосты; к мальчишкам с шипеньем протягивались змееобразные шеи сердитых гусаков, а в мозг, помимо воли, врывался пошлый напев:
Шли они лесочком, темным лесочком, темным лесочком, Да позстречались со стрелочком, Со стрелочком молодым!
— Пятнадцать, кто больше?
— Двадцать!—выкрикнул отчаянно старик, вытирая лицо, с которого градом катился пот.
— За вами фрак, купец.
Первая покупка разохотила еврея, а сын со своей стороны подзадоривал его. Он стал покупать разложенные на земле вещи одну за другой, благо все шло за бесценок.
Перед матерью неожиданно мелькнул знакомый альбом рисунков к Ветхому завету.
Она спросила прерывистым голосом:
— Чьи это вещи распродают?
Женщина, помогавшая мужчине торговать, небрежно бросила:
— Це нашего жильца. За комнату задолжал, вот н
продаем.
— А как фамилия вашего жильца?
— Та Агин… Александр Лексеич… Сколько лет у нас жил на Безаковской улице… уехал куда-сь у Черниговську губернию, тай там и помер. Купец, вы погодите, руками не чипайте,— воск на херувиме подавите,— он и так от сонечка мягкий… Не чипайте, еще не ваше…
— Покупайте скорее, тателе, все гуртом,— распалился, толкая отца в бок, мальчик.
Мать заторопилась:
— Оставьте за мною альбом рисунков и этого воскового амура…
— Позвольте! Я ж беру все гуртом! — крикнул старик.
И молоток четко пристукнул назначенную цифру о раскаленный на солнце камень Бессарабской площади.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ СИЛУЭТЫ
ПРИЕХАЛИ
Колеса стучали ритмично, нудно и однообразно — поезд увозил нашу семью в Новочеркасск, в столицу «казатчины».
— Город театральный,— говорил отец,— по слухам, сердца горячие. Одно слово — Дон.
Вагон грязный, третьего класса, и вся семья, с чадами и домочадцами трясется на жестких лавках. Прислуга шепчется о «чудачестве» отца:
— Везет актеров видимо-невидимо, им купил билеты первого да второго класса, а своя семья — как попало. И чего это только «она» смотрит?
«Она» — это моя мать. Она смотрит кротко и старается только, чтобы я не бродила по грязному вагону, и сама отстраняется, когда какой-нибудь неряшливый пассажир, проходя, щелкает семечки и плюет шелухой. Мать совершенно подчиняется решению отца не позволять себе никаких привилегий.
Новочеркасск близко. В окна уже видны первые домики окраин, все на один лад, деревянные, покрашенные в цвет охры, низкие, приземистые, и узкая светлая лента пересохшего за лето Аксая, который переходят вброд босоногие и белоголовые мальчишки.
Время от времени заходят к нам в вагон актеры. Теперь у них уже другой вид: физиономии импозантные, безукоризненное белье, гладко выбритые шеки.
Новочеркасск. Он всегда вспоминается мне — чистенький, залитый солнцем и точно весь окунутый в однообразную желто-ржавую краску: волы, которые тащат на базар арбузы, дыни, виноград, тыквы, целые горы «жердел»— абрикосов, целые горы пламенных «яблочек»— помидоров. Слышится дробная, визгливая речь торговок, по базару прохаживаются важно старые хозяйственные казачки с корзинами для провизии, в допотопных «колпаках» с кистями на головах, в шелковых куби- леках.
Окна рыжих домишек, с неизменными геранью и фуксией, весь день закрыты ставнями, и собаки прячутся в холодок, под какой-нибудь навес, н лежат, высунув до отказа языки, в блаженной истоме. На более солидных каменных домах с зелеными решетчатыми ставнями спущены белые жалюзи, отбрасывающие на крупный песчаник тротуара гигантские тени.
Вдруг неожиданно налетит порыв ветра и закрутит в бешенной пляске белую пыль песчаника, и рвет изо всей силы с головы шляпу, и поднимает уверху полы одежды…
Но есть уголок, куда не достигает сумасшедший новочеркасский ветер, не достигают ни уличные крики, ни уличная пыль,— это громадный прекрасный сад, протянувшийся через весь город, против длинной главной аллеи которого темнеет подъезд войскового театра. А в другом конце, за «Атаманской» — красивой и прохладной аллеей, как раз против памятника генералу Платову,— темный внушительный дворец, и из этого дворца ежедневно рано утром выходят на прогулку томная дама, а за нею, звеня шпорами, сам хозяин края — атаман.
У этого сонного городка была своя жизнь, и едва ли не главным ее центром был театр.
Это неказистое с виду длинное здание было приманкой для всего населения, начиная от наказного атамана, фактически единодержавного владыки края, сатрапа, перед которым трепетали все жители, и кончая мелкими чиновниками, учащейся молодежью, лавочниками, мастеровыми.
Отец был прав, когда говорил, что Новочеркасск — театральный город. Вряд ли в то время в провинции можно было встретить другое место, где бы театр играл такую важную роль в жизни населения. Интеллигенция принимала самое горячее участие в театральных делах. Состоятельные люди имели свои заранее абонированные ложи и кресла. Они старались не пропустить ни одной новинки, а так как в провинции в то время очень редко повторялись пьесы, то, следовательно, все свободные вечера отдавались театру. У них обязательно были свои любимцы — примадонна и первый любовник. Помню, когда мы приехали, бывавшие у нас новочеркасцы нежно вспоминали какого-то премьера Градова. При отце такими кумирами были Иванов-Козельский и Чарский, причем между поклонниками того и другого словесные битвы доходили до смертельной вражды, а одна поклонница Иванова-Козельского подарила на именины моей сестре, восхищавшейся вместе с нею игрою Козельского, специально заказанную бонбоньерку с конфетами в виде стопочки книг, на корешках которых были вытеснены названия всех пьес, в которых выступал в Новочеркасске этот актер, на обложке же значилось золотыми буквами: «На память о Митрофане Трофимовиче Иванове-Козельском».
Сторож казенной палаты, почтальон или приказчик галантереи, приглашая свои «предмет» провести с ними вечерок, непременно покупали билет в театр на галерку, благо это стоило всего двадцать — тридцать копеек, и наслаждались всласть, не стесняясь обсыпать сверху партер шелухой от подсолнухов.
Подсолнухи, мне кажется, были неотъемлемым придатком времяпрепровождения населения казачьей столицы, и казаки щелкали их особенно, держа неподвижно губы, к которым прилипала шелуха в виде толстой бахромы. В детстве мне это казалось шиком и хотелось научиться сохранять запас шелухи, чтобы потом «щегольским» движением уметь сразу небрежно сбросить ее вниз.
В театре началась работа. Мать, желая жить одними интересами с отцом, помогать ему, снова впряглась в тяжелую лямку — сделалась театральным кассиром, и семья, с девятью детьми, редко видела ее. В доме царили хаос и полная бесхозяйственность.
close_page
ВЫСШИЙ ПЕРСОНАЛ
Мне трудно вспомнить правильно даты и сезоны. Эти годы, что отец держал новочеркасский театр, слились для меня воедино, и в памяти воскресают лишь отдельные эпизоды.
Вот наш дом, как и в Киеве, битком набитый бритыми физиономиями. Едят и пьют целыми днями; кто хочет, поселяется и живет у нас на полном иждивении. Анна Петровна Керн уехала из Киева, кажется, в Москву, но зато с нами в Новочеркасск перекочевал ее сын, долговязный бездельник «Шурон», с женой. Они поселились у нас; поселился и актер Вовочка Лазарев, да мало ли еще в нашем доме.
Помню, как сейчас, театральное здание, касса налево
и у окошечка — мать с вечным вышиванием между делом, тесные, пыльные и бесконечно милые кулисы, где я чувствовала себя как дома. И спектакли: оперетка и драма. Актер Вольский — «на все руки»: в «Периколе» — Пи- килло, в сценке Стаховича «Ночное» — русский деревенский паренек; тогда он мне казался удивительно обаятельным. Потом Лев Николаевич Самсонов. Желчное лицо с горькой складкой губ и мрачным взглядом умных глаз.
Он жил у нас во дворе, в маленьком убогом флигельке, где после него поселился сапожник. Прекрасный актер, образованный, со вкусом режиссер, он получал от отца аккуратно приличное жалованье, но жил почти нищенски. Жизнь сломила его. К тому же он вытащил из вертепа свою жену Елену Родионовну, Леночку, как он ее называл в момент нежности,— истеричку и морфинистку. Елена Родионовна пила, накачивалась по нескольку раз в день морфием и закатывала мужу сцены с криками, истерикой и проклятиями; он стал тоже сильно пить, и помню, как было страшно слышать безумные крики из флигеля. Сначала мучительные мольбы Самсонова:
— Леночка… успокойся… прошу тебя… успокойся…
И хохот, и визг, и проклятия:
— Удавлюсь… о дьявольская жизнь… и ты… и ты… душегуб!
И скверная, самая непристойная брань, такая странная в устах этой женщины с небесно-голубыми глазами и нежными чертами лица.
Босиком по снегу, в распашном капоте, с густой белокурой косой спутанных волос бегала она с воплями во дворе… И за нею он, дрожащий от пьяного бешенства; он ловит ее, волочит домой, и там, в этом тесном флигельке, часто всю ночь слышны возня и крики, а порой и звон разбиваемых стекол… И каждая из таких сцен заставляла прилежнее прикладываться к бутылке обоих супругов, и каждая из таких сцен приближала талантливого, образованного актера быстрыми шагами к могиле…
Он умер, когда ему было сорок с небольшим лет.
А вот еще фигура. Фигура обаятельная. Голос, хватающий за сердце своей удивительной задушевностью: Иванов-Козельский.
Мой старший брат научился его имитировать в совершенстве, и, помню, молодежь заставляла его читать монологи из различных пьес, особенно из Шекспира.
Быть или не быть,— вот вопрос…
Или:
Раненый олень лежит.
А лань здоровая смеется…
Один заснул, другой не спит.
И так на свете все ведется…
Какая-то особенная музыка чудилась нам в голосе брата, и я помню, эти имитации вызывали гром аплодисментов. А молодежь безумствовала на спектаклях, крича до хрипоты:
— Фора! Фора! Козельского! Бра-а-во! Козельский!
И потом разговоры отца дома:
— Вчера Козельский едва довел роль до конца.
Пьян, а публика не замечает… кумир! От одного звука голоса сердца замирают.
— Массовый гипноз,— хихикает рыженький Вовочка Лазарев,— что в нем особенного? Давно ли декорации валил?
И желчный окрик Самсонова:
— А ты. Вовка, хоть и не валил никогда декораций, но никогда и не дойдешь до поднятия сборов. Ты — «почетный гражданин кулис», и дальше кулис твой великий талант не передается… Зато утешься: тебя никто и не будет «обшикивать». А у Козельского и пьяного «красивая игра».
Лазарев обиженно отворачивается.
Идет разговор о Козельском. Я знаю его биографию чуть не с пеленок. Писарь из Козельска, он обратил на себя внимание студентов. Чем? Может быть, своим чарующим, проникновенным голосом. И они занялись им. вместе читали и разбирали Шекспира. Козельский бросил переписку бумаг, бросил обивать пороги казенных и контрольных палат и стал пробовать свои силы на сцене.
сначала, юворят, валил, неуклюже двигаясь, картонные кусты и вазы, тыкался не в те двери, говорил невпопад. А потом из утенка превратился в лебедя. В семиде- десятые годы он, не достигши еще тридцати лет, уже стал в провинции знаменитостью.
У Козельского было много ролей старого репертуара, частью ходульных, в которых он все же потрясал публику, но, кажется, он ни над одном столько не работал, как над «Гамлетом». Отец говорил, что вместе со своими учителями он составил роль по нескольким переводам, выбрав из них, как ему казалось, наиболее удачные места.
Они проходят передо мною вереницей, эти дорогие мне лица. Актеры нянчили меня. За кулисами я была как дома: меня передавали с рук на руки: с самого раннего детства я уже пересмотрела пропасть пьес и благодаря хорошей памяти повторяла, при смехе взрослых.
куски разных монологов — преимущественно драматических и трагических — как из женских, так и из мужских ролей: то изображала Корделию, то, становясь на табуретку, бросалась в воображаемый костер со словами:
— Отец, отец, как страшно умирать!
Так. я слышала, пела в опере «Жидовка» какая-то певица, имени которой не припомню.
Они баловали меня фруктами и конфетами из театрального буфета, баловали игрушками, даже порой наряжали с претензией на что-то театральное.
Так, я помню какую-то особенную черную бархатную шляпу с белым страусовым пером, подбитую бледно- розовым шелком; на подкладке было вышито зеленым мое имя. Это великолепие водрузили актеры на мою голову.
Помню вечные шуточки толстого комика Сахарова, помню мать и дочь—Дубровину и Александрову. Они были неразлучны, и отец говорил:
— Кто хочет иметь у себя в труппе это украшение — мать, тот должен взять и дочь. Таланта у дочери немного, но можно использовать как «полезность». Этим руководствуются наши ловкачи антрепренеры и обжуливают бедняг— гуртом за дешевку покупают.
Мы знали, что он никого не обжуливал, и гордились этим.
У Дубровиной был совсем простой, немудреный вид не то старой просвирни, не то нянюшки, но под этой неказистой внешностью таился глубокий самородный талант, унаследованный ею от ее знаменитой матери, когда- то гремевшей в провинции.
Помню, иногда она учила у нас роли. Курьезное и трогательное было зрелище.
Говорили, что она малограмотна и даже с трудом подписывает свою фамилию, получая жалованье. Роли она учила «с голоса»: ее дочь, Александрова, забравшись куда-нибудь в уголок нашей большой квартиры, читала ей роль; она слушала и тихо, про себя, повторяла.
А на сцене потрясала, особенно в ролях простых, сердечных старух. Помню ее в «Каширской старине» Аверкиева. Невидная, забитая нуждою старушонка. Роль небольшая и очень шаблонная. Но когда эта Дарьица в последнем акте склонялась над трупом зарезанной Марьицы, своей единственной дочери, и только всхлипывала, публика замирала от душевной тоски и жалости. Затаив дыхание, сотни глаз впивались в это скорбное лицо, изрезанное глубокими морщинами, и вдруг крики, вопли, восторженные рукоплескания…
Дубровина хороша была и в «Свекрови» Чаева. Эта пьеса произвела на меня такое потрясающее впечатление, что через много лет, уже взрослой, видя ее в Петербурге в Александринском театре, я могла заранее указать все мизансцены, а песню скомороха, которую, как мне казалось, пел удивительно хорошо Васильев, запомнила с одного раза — как слова, так и мотив:
По небу по синему Тученьки плывут… Где ж твои, красавица. Думушки живут?.
Но образ злой старухи свекрови как-то в моем детском сознании не вязался с образом милой, доброй Дубровиной, каждую морщинку которой я нежно любила.
Мне почему-то было жаль, что у нас в театре больше нет анни Козловской. Смутно помнились это милое лицо, хрупкая фигурка, мелодичный голос, и обожание, которым окружали ее товарищи, с самых первых лет моей жизни передалось и мне.
Позднее, в 1879 году, я слышала, что Козловская умерла скоропостижно в Харькове.
close_page
ЕЩЕ ФИГУРЫ
В зиму 1876 года наша семья увеличилась двумя девочками.
Первая девочка была маленькая Аглая, внучка Анны Петровны. Петровны Кера. Некоторое время она вместе со своей матерью, отцом и нянькой жила у нас, потом все они уехали в Москву, вероятно к Анне Петровне.
Вторая девочка была плодом несчастной любви талантливой актрисы Надежды Александровны Кузьминой заменившей в труппе Козловскую.
Вся жизнь Кузьминой, дочери актера Алексеева, с молодости до самой кончины, последовавшей, кажется, в середине девяностых годов, прошла у меня на глазах. и до сих пор у меня хранится ее наивное письмо, писанное к моей матери.
У Надежды Александровны Кузьминой, исключительно даровитой артистки, родилась девочка от блестящего казачьего офицера. Маленькая Нина оказалась хилой; родилась она у непрактичной матери Актрисы, что сулило ей хроническую нужду и заброшенность.
Воспоминания о матери и дочери переплетаются у меня в какой-то странный узор, полный неожиданных диссонансов.
Вот Надежда Александровна приходит к нам в одну из суббот, когда моя мать дома и нс нужно ей носить в кассу судки с простывшим обедом. Сегодня мы соберемся все вместе за большим обеденным столом. В ожидании обеда Кузьмина делится своими впечатлениями.
Сначала она говорит шепотом и, наверное, про своего вероломного гвардейца, говорит о Ниночке. Мать предлагает ей взять и усыновить ее девочку, но она отказывается: она ни за что не расстанется с ребенком ведь для нее Нина все; она готова лучше умереть, чем расстаться с нею.
Но мало-помалу профессиональные интересы начинают доминировать над личными. Кузьмина уже начинает думать о репертуаре, о роля.
Отец привез в Новочеркасск репертуар, уже испытайный в Киеве, нравившийся публике. Мелькают знакомые названия пьес: «Гамлет», «Отелло», «Коварство и любовь», «Каширская старина», «Свекровь». «Дмитрии Самозванец», «Гроза», «Злоба дня», «Свадьба Кречинского», «Ошибки молодости», «Русская свадьба» и еще, и еше…
Вспоминая свои любимые роли, Кузьмина преображается. Голубые глаза загораются, и в них появляется новое чудесное выражение; она схватывает мать за руку:
— Кумушка, милая, помните, помните, как это у меня выходило?
В хижину бедную, богом хранимую. Скоро ли я возвращусь. Мать расцелую свою я родимую, С добрым отцом обоймусь?..
Что происходит с этим так мало выразительным в жизни, хотя, правда, миловидным лицом? Откуда эта детская пленительная простота и наивность? Перед нами какой-то цветок, одинокий, обиженный ребенок, непорочная чистота… Она напевает куплет из старой мелодрамы «Материнское благословение». Эта мелодрама, написанная Н. А. Некрасовым в юности, под псевдонимом Н. Пе- репельского, с начала сороковых годов не сходившая с провинциальных сцен, шла в Москве и Петербурге и удержалась даже после революции.
— «Материнское благословение»! — нежно произносит Кузьмина и молитвенно складывает руки.— Вы ведь видели меня в роли Марии? Публика плакала… Ах, как это трогательно! Вот:
Часто я думаю: мать моя бедная Много уж слез пролила…
Голос у нее небольшой, но в нем искренняя теплота, задушевность. Мать улыбается и смотрит на нее ласковыми глазами.
Кузьмина вспоминает и другую роль, которую ей обещал отец, и она ее потихоньку уже разучивает. Это совсем иное: здесь нет уже детской наивности, здесь женщина, чувства которой созрели, которая умеет страстно лю ить и страстно ненавидеть. Здесь женщина, которая
ради любви пойдет на плаху. Это — Любаша из «Цар- ской невесты».
Что делается с Кузьминой? Она точно сразу вырастает. Куда делась маленькая, тоненькая фигурка девочки— Марии из «Материнского благословения»? Перед нами стройная, горделивая фигура; глаза мечут молнии и кажутся вдруг темными и пламенными, брови сдвинуты, голос звучит на низких нотах.
Ну что ж. убей! Ты загубил мне душу.
Ни слез моих, ни просьб не пожалел. Руби же вдосталь! Режь меня, разбойник!
И одним вздохом:
Спасибо… прямо в сердце!
— Браво! Браво! Чудесно, Надюра! И где ты только взяла такие краски? Ох, сокрушение ты мое!
На пороге Правдин. Он молодой, но говорит тоном «благородного отца». Мать смеется.
Кузьмина вся потухает и начинает жеманиться, смотря в зеркало, в порядке ли прическа.
— Милый Живулюшка, ишь как подкрался! — говорит она тем дрябленьким, немного сюсюкающим голосом, к которому прибегают некоторые инженю, чтобы показать наивность юности.
— А ну, ну, продолжай, детка. Но брось строить ангелочка, а то я тебе принесу от твоей Ниночки слюня- вочку. Нет, без шуток: молодец, хорошо у тебя выходит новая роль. И с Марьицей различна. Как это ты в «Каширке» отчитываешь Василия?
Кузьмина уже снова загорелась и с глубокой иронией, в которой она топит душевную боль, с подавленным горьким смехом говорит:
— Будь, Вася, пай, ступай к жене…
Правдин слушает, с комическим умилением сложив на груди руки. Кузьмина вдруг обрывает монолог, останавливается, смотрит на него несколько мгновений и вспомнив, как много юмора он внес в роль Живули в той же «Каширке», бросается, ребячась, к нему на шею:
— Живулюшка… милый… милый!
— о господи,— говорит отец,— сколько в этой женщине сюрпризов!
— Красок, вы хотите сказать,— перебивает Кузьмина, с нарочитой важностью повторяя слова Правдина.
А вот еще воскресают в памяти фигуры.
В театре пара: Чарский с женой.
Чарский, кумир Киева, и в Новочеркасске завоевал себе сразу положение. Впрочем, здесь публика делилась на поклонников Чарского и поклонников Козельского. Одни говорили о божественном голосе и задушевности Козельского; другие козыряли темпераментом Чарского и якобы какою-то особенною элегантностью.
Жена на него молилась. Они бывали у нас постоянно вместе и казались неразлучной парой. Было что-то материнское в обращении Марьи Андреевны с Владимиром Васильевичем. Она гордилась им и рассказывала с восторгом:
— Забросали цветами, честное слово! Женщины, что делают женщины! Срывают с себя драгоценности и кидают на сцену к ногам Володи!
— Да, да,— смеялся отец,— если бы они узнали, что Владимир Васильевич плохо себя ведет с Марьей Андреевной, они могли бы его забросать во время спектакля даже гнилыми яйцами.
Все смеются.
Несколько лет спустя в Новочеркасске служил актер Аграмов с женой. Это был очень хороший режиссер и посредственный актер. Удивительно некрасивый, он одевался оригинально, в какой-то клетчатый костюм, который к нему чрезвычайно шел, придавая вид англичанина. Довольно высокого роста, он водил с собой на цепочке огромного дога, как нельзя более гармонировавшего своей тигровой раскраской с костюмом хозяина.
Жена Аграмова была миловидная блондинка, о кротости которой и о слабом здоровье знал весь город. Публику тронул образ Нины в «Маскараде», который дала артистка. Арбенина играл Аграмов.
И вот этот отравитель Нины слился в представлении новочеркасских театралов в один образ — злодея, неверного мужа, так как весь город знал, что Аграмов изменяет своей жене.
Чарского постигла трагическая участь. В конце сезона он бросил жену и уехал из Новочеркасска с молоденькой водевильной актрисой Лола. Ее мать всегда сопровождала Лелечку на все репетиции и спек такли и опекала ее, как ребенка. И каково же было удивление всех, когда эта Лелечка увлекла нашего знаменитого Чар ского…
Они поселились в Москве, долго жили вместе: у них были дети. Но Лелечка — Лола — стала стареть и, боясь старости, повесилась.
Ее мать бывала у нас в Петербурге н отрывочно рассказывала эту трагическую историю. Чарскнй так был убит смертью жены, что помешался, всюду ее видел, раз говаривал с нею, забросил театр и кончил почти выход ным актером…
close_page
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИЗВОЗЧИК
Рядом с актерами вспоминается и кое-кто из «Техни ческого персонала» нашего новочеркасского театр. Я помню трех.
Один — буфетчик Петр Семенович, кругленький, ро зовый, приветливо улыбающийся, приятель всех актеров и, видимо, искренний, потому что отпускал всем в кредит, и к концу сезона многие ему не уплатили…
Я отмечаю его в своей памяти еще и потому, что он служит одним из примеров того, какое влияния имел отец на всех, с кем он и то время соприкасался в театре.
По окончании театрального сезона в Новочеркасске Петр Семенович стал мороженщиком: он разносил по городу на голове кадку с мороженым нескольких сортов, и оно считалось лучшим. Но всего любопытнее было другое: когда отец уехал из Новочеркасска, подобно актерам, за куском хлеба колесить матушку Россию и мы впали в большую нужду, Петр Семенович заходил к нам во двор, вызывал меня и непременно угощал своим прекрасным мороженым, накладывая всех сортов по огромной порции, и его улыбающаяся, приветливая физиономия типичного повара или кондитера так и стоит у меня перед глазами.
Второй — заведующий театральной вешалкой, худой, рыжий, с выпуклыми глазами «людоеда» из сказки «Мальчик с пальчик». Мне неприятно вспоминать, что этот скверный человек был мужем нашей чудесной экономки Аксиньи.
Аксинья, видя нужду в доме, помогала матери продавать ее вышивки, на которые в то время была большая мода, брала новые заказы у местной аристократии, говоря, что продает свою работу, сделанную «между делом», и этим поддерживала репутацию состоятельности нашей семьи. Напыщенная местная аристократия, наверное, стала бы презрительно относиться к матери, зная, что она отчасти содержит семью иголкой.
Особняком стоит театральный извозчик Филипп. Нс могу без чувства умиления и признательности вспомнить этого замечательного человека.
Он был «поэт и театральный критик». И наружность у него, такая особенная, оригинальная, сразу бросалась в глаза; с первого взгляда он сильно напоминал моего отца. Происходило это главным образом оттого, что, обожая отца, он носил так же, как и тот, волосы длинные, откинутые назад, «на манер писателя», обнажая большой лоб. А извозчичий армяк Филипп превращал в поддевку. Филипп был неизменным завсегдатаем театра. Покрыв лошадь старенькой рваной попоной, он уходил за кулисы и глазел оттуда на спектакль, а лошадь в бурю- непогоду терпеливо ждала хозяина, и ее длинная шершавая шерсть покрывалась иголочками изморози.
Но, ежели вы хотите знать, от любви этой все превратности моей судьбы, в коей я не виню никого. Я вашего папаши актеров завсегда возил: не о деньгах пекся, а о славе. Кого везу: Лукашевич, Дубровину, Кузьмину, Райчеву с голоском ангельским: «Смотрите здесь, смотрите там»; притом же возил Правдина, самого Аркашку-Робинзона, или Самсонова, скажем, Льва Николаевича… больного, а полного, что называется, вдохновения, ежели «Записки сумасшедшего» изобразить… Эх-ма! А папашу вашего свезти — одно наслаждение, друга-то просвещения! И не мне надо платить, а с меня брать… ведь всю дорогу меня, темного, поучают, и папаша не гнушался мои писания читать. Э-эх… могу ли я теперь возить этих толстопузых сидельцев, квасников, живоглотов, что писатель Островский нам на сцене в достаточном художестве показал? Оттого мы с Актрисочкой и обеднели. Обеднели, Актрисочка, правда,— некому нам платить стало,— так ведь?
Актриса косила на хозяина печальный глаз.
Он вздыхал и вынимал из-за пазухи смятые листы оберточной бумаги.
— Вот, пожалуйте… Не откажите мамашеньке передать, а ежели приедет на побывку из дальних городов папашенька,— пожалуй, одним глазком взглянет? Может, это у меня и «ошибки молодости», но все же человек не единым хлебом жив… И душа без этого сочинительства в некотором роде как в летаргическом сне… молчат все струны эоловой арфы. У меня только две радости: сочинительство да редкие посещения вашего семейства. Как ваша мамаша с малюточками, в добром ли здоровье? Это нынче для меня «Злоба дня» и «Горькая судьбина».
Он любил выражаться фигурально, вплетая в речь словечки из пьес и их названий. Этой витиеватости помотало и то, что старший сын его был наборщиком в типографии местной газеты.
Филипп возил меня по городу, медленно труся; Актриса постоянно останавливалась, и мне казалось, что при последнем издыхании. По дороге мы раз встретили казачью свадьбу. Бабы в цветах и ярких лентах на чепчиках прыгали перед возом со скарбом, подбрасывая бутылки с водкой, самовар и подушки, и визжали свадебную песню:
Сестрицы подружки, Да несите подушки, А сестрицы Варвары, Да несите само-ва-ры!
Филипп, презрительно ухмыляясь, объяснил:
— Приданое невестино по городу возят — показывают. Невежество одно! Обстоятельства жизни не дали вашему папаше просветить наш дикий край. И пришлось теперь искать судьбы в чужих местах. Ну что же, «бедность не порок», как сказал Островский.
Я не могу отказать себе в желании докончить историю этого благородного, бескорыстного друга театра.
Он перебрался к нам во двор со своим семейством как раз перед отъездом матери в Петербург и перед моим переездом в квартиру старшей замужней сестры.
На следующее утро я пошла к нашему старому опустевшему гнезду. Филипп встретил меня посреди двора. Он водил по двору Актрису.
— Боюсь, не испортить бы лошадь,— говорил он значительно.— Разгорячилась она сегодня, быстро бежала… Горячий конек, что и говорить!
Актриса уже едва тащила ноги.
— Вот и мамаша с малюточками уехали,— грустно сказал извозчик.— Проводили мы их.
Он снова вытащил из-за пазухи грязную бумажонку.
— Я же, в ожидании улыбки прекрасной Авроры, когда не спится, при свете месяца написал новое произведение пера… Хотел вашей мамаше показать, да им перед отъездом было не до того… А вы что, на коня моего загляделись? Горячий, говорю, конек!
Актриса склонила голову, повела ушами, ласково скосила глаз и заржала…
И вот разыгрывается на моих глазах последний акт пьесы, называемой «Филипп и Актриса, или беда от нежного сердца»,— только уж это не водевиль, а драма.
Филипп жил в крошечной части крошечного флигелька нашего двора, который сначала весь занимал Сам
сонов, потом — черноусый майор, а потом — сапожник. Сапожник наклеил на двери вырезанный из бумаги белый сапог и занял все апартаменты, только одну клетушку отвел Филиппу с его огромной семьей.
Филипп все меньше и меньше привозил денег домой. Часто из окна гимназии я видела его тощую фигуру, согнувшуюся в три погибели на старой пролетке с заплатанным кожаным фартуком, и лошадь, как всегда покорно ожидаюшую седока под моросящим дождем. Из ближайших подъездов выходили люди, искали глазами извозчика, громко аваля его, но едва Филипп подкатывал, седоки с негодованием отворачивались, продолжая кричать:
— Извозчик! Извозчик!
Редко кто теперь нанимал гнедую Актрису, за которой было такое славное прошлое… Филипп отказывался это понимать. Он говорил:
— Удивительно, как меняются вкусы у публики. Вот хотя бы к примеру: прежде публика ценила литературу серьезную, добродетельную,— ныне она ищет пустого блеска и глупой мишуры. Так и с моем Актрисой.
Лошадь поворачивала голову и смотрела на нас добрыми умными глазами.
— А сколько ей лет. Филипп?
— Двадцать восьмой пошел. От настоящего орловского она рысака, и ежели у нее ныне ввалились бока, то только невежды могут называть клячей ее, которая выступала на одной сцене с самим Митрофаном Трофимовичем Козельским и была удостоена его внимания.
«Быть или не быть,— вот вопрос» для тебя, моя старуха. Актриса, «Офелия, иди в монастырь…» Помните, как он это говорил в «Гамлете»? Слова возвышенные Боже мой, что это была за игра!
А через несколько дней я застала моего друга Филиппа у конюшни с понурым видом.
— Не ест, — отрезал он угрюмо.— Инстинкт ума у нее, как человека все чувствует даже когда я о ней думаю или растроен превратностями судьбы.
Я вошла в конюшню. Сено в яслях было почти не тронуто. Лошадь медленно, с трудом повернулась, и особенно ясно бросились в глаза ребра и хребет, обрисовывающиеся под кожею. Неказиста была знаменитая Актриса, несмотря на ее былую славу.
И вдруг в щели двери увядшее лицо жены Филиппа.
— А-а-ах, несчастная я! Ты думаешь, я ничего не вижу? Лошади, твари, картошку вздумал скормить от семьи — мал мала меньше! На шкуру ее пора давно, сам же к кому-нибудь в кучера нанялся бы! А то— «Актриса знаменитая. Каких актеров возила!» Дурак ты, твои актеры— что за невидаль! За семь рублей продан лошадь, чтоб не кормить даром! Кровь ты из меня выпил!
И пошла обливать попреками и Филиппа и его Актрису.
У Филиппа был совсем убитый вид. Он повторял безнадежно:
— Баба, что ржа, точит. Разве понимает высокие материи баба? Куда я без своей Актрисы? А она еще послужит, послужит!
Я ушла из конюшни.
Осенью, в Воздвиженскую ярмарку, Филипп, «источенный» женой, все же поехал продавать Актрису в ближнее местечко, рассчитывая, что «она еще послужит». Но ее никто не купил. Говорят, над ним смеялись приезжие:
— Чоловик! Мабуть, доведешь коняку живою?
— Эй, купец, что дорожишься за шкилетину?
— Почем за фунт конячьи кости?
— Да ты не на себе ль дохлятину повезешь?
А Филипп, добрый, задумчиво-мечтательный Филипп, вдруг не выдержал, бросился в самую гущу толпы с перекошенным лицом и сжатыми кулаками:
— Проклятые! Убью!
Он не довел Актрису назад до дому. Разразилась гроза, хлынул дождь как из ведра, и чернозем дороги превратился в липкую кашу. Ноги лошади увязли, и она рухнула в грязь. Это был конец. Покрыв ее рогожею, Филипп, шатаясь, вернулся домой. Он повторял бессмысленно одну только фразу:
— Куда же я без нее денусь?
С тех пор он запил горькую…
ЛИКВИДАЦИЯ
Помнится, кая отец прогорел с театром.
Это пришло постепенно, с систематическом точностью, с точностью каждого неверно прожитого дня. Непрактичная система домашнего обихода, незнакомство с учетом все это просочилось и в дело, и из этих слагаемых дома и театра — создалась сумма: крах.
Прежде всего, отец не был дельцом. Он не знал людей, в сущности и жизни. Он был мечтателем. Наверно, ему вредило и то, что он вышел из старой дворянско- помещичьей среды, не задумывавшейся о том, откуда брались средства и надолго ли их хватит. При этом у него была еще художественная натура, вкус и образование, и ему претило всякое «коекакство», выражаясь словами Агина.
Его дом был открыт для всех, кому не лень было пользоваться радушием этого дома. И его театр был открыт для каждого талантливого актера. Он, с присущим ему широким жестом, ставил самые сложные пьесы, не затрудняясь затратами. Он не останавливался и перед тем, чтобы назначить жалованье актеру, не соответствовавшее бюджету.
И в течение своей антрепризы он так развил вкус новочеркасцев, что они потом не хотели мириться с посредственностями, говоря:
— Видали мы Козельского и Чарского. У нас был Правдин. У нас от игры Лукашевич, Кузьминой и Дуб- равиной людей из театра без чувств уносили.
Ему дали пять тысяч субсидии, но никакая субсидия не могла покрыть его больших затрат.
В старые годы, еще во Пскове, у него был камердинер, из крепостных, Павел Иванович Козырев. Отец знал его еще мальчишкой, но почтительно называл «вы», «Павел Иванович» и, уехав, выдал ему полную доверенность.
Кончилось тем, что Козырев купил за бесценок на чужое имя большое имение отца и сделался богатым человеком, в то время как отец совершенно разорился.
Театр съедал все больше и больше средств; имения управлялись неведомо кем и неведомо как; новые и новые художественные постановки требовали колоссальных денег. Не помогала и оперетка, дающая отличные сборы… Долги росли…
Главный кредитор, богатый купец Черников, не ленился ссужать отца новыми суммами; каждый его приезд к нам сопровождался подарками мне и вызывал на лице матери не выражение благодарности, а испуг и красные пятна; руки ее дрожали, когда отец посылал за вексельной бумагой и после этого переписывались векселя.
Я ненавидела подарки этого старика с волчьим взглядом и седыми усами, игрушки старалась сломать, а раз зарыла в садике великолепную куклу. Я понимала, что он приносит в семью разорение, что он огорчает мать…
Огорчает мать… А отца? Отец продолжал оставаться в делах вечным ребенком. Он сам был слишком щепетильно честен, чтобы не верить тем, кто говорил ему о своей честности, а Черников не только прикидывался честным, но и доброжелателем, другом, поклонником искусства, ради которого якобы готов поддержать антрепренера.
Дело доходило до того, что нам грозила опись имущества за долги этому поклоннику искусства. Отец и тут пробовал его оправдывать. Он горячо, убежденно говорил матери:
— Как ты не понимаешь, что он не мог отвратить этой беды? Надо знать коммерческие расчеты. В деле он не один — у них компания. Ты думаешь, эта мануфактура в здешнем Гостином дворе только Черникова? Магазин большой, как говорят, «на три раствора», принадлежит… сосьете… и надо перед всеми отчитаться. Но я придумал ловко,— и я, видишь, могу быть практичным, когда надо. Я выдал ему полную доверенность на ведение моих дел в Псковской губернии, на куплю и продажу имений, на получение всего, что мне там причитается.
Мать широко раскрыла глаза.
— Полную доверенность… Как Павлу Козыреву? Но ведь он обобрал тебя…
— Ах, милая, это же совсем другое дело! Павел — типичный кулак, а Черников — просвещенный любитель
искусства. Какое участие принимает он в нашем репертуаре в выборе пьес, как интересуется мельчайшими де-талями постановки…
Мать промолчала. На этот раз тем дело и кончилось. Но Черников все-таки уехал в Псковскую губернию.
Не помню, сколько длилась его отлучка, помню только хорошо, как он приехал к нам после возвращения. Его пролетка с прекрасными серыми в яблоках лошадьми остановилась перед нашим подъездом; он солидно вышел из нее, приказав кучеру нести за собой какие-то свертки. Это все были подношения.
Черников казался каким-то особенно модным. Усы были накрашены; от него пахло какими-то удивительными помадами и одеколонами. Галантно приложившись к руке матери, он заговорил весело-игриво:
— Как ваше драгоценное?
— Ничего, благодарю вас, Степан Иваныч. А вы помолодели,— отвечала мать, видя его новый ло- цилиндр, усы и как-то по-особому причесанную
искусства. Какое участие принимает он в нашем репертуаре в выборе пьес, как интересуется мельчайшими деталями постановки…
Мать промолчала. На этот раз тем дело и кончилось. Но Черников все-таки уехал в Псковскую губернию.
Не помню, сколько длилась его отлучка, помню только хорошо, как он приехал к нам после возвращения. Его пролетка с прекрасными серыми в яблоках лошадьми остановилась перед нашим подъездом; он солидно вышел из нее, приказав кучеру нести за собой какие-то свертки. Это все были подношения.
Черников казался каким-то особенно модным. Усы были накрашены; от него пахло какими-то удивительными помадами и одеколонами. Галантно приложившись к руке матери, он заговорил весело-игриво:
— Как ваше драгоценное?
— Ничего, благодарю вас, Степан Иваныч. А вы помолодели,— отвечала мать, видя его новый ло- цилиндр, усы и как-то по-особому причесанную голову с редкими, тоже накрашенными волосами.
— Был в столице. По вашим делам был в столице. А там медведя обломают, не только меня… Всякие фиксатуары, ал-о-панаксы, парикмахеры из Парижа… Бог ты мой одних щеточек для всяких надобностей сколько заставили меня купить, всяких вод, кремов, помад… Маменька ахнула, ведь она у меня к старой вере привержена
«Ты, Степушка, говорит: скоро и двуперстие за
и аллилуйю продашь!» Знаете, сударыня моя,
старых людей не переспоришь, их почитать надо, а к тому же ей капитал большой положен. Она своего кубилека не покидает, на платье французское. А я вот вам гостинчиков привез и маленькой барышне,— он указал головой на меня,— привез конфет и игрушек, по всегдашнему моему расположению…
— Ах, зачем это вы беспокоились…
В голосе матери я уловила досаду.
— Ручку пожалуйте… А вас дозвольте поцеловать. Дядя добрый: всегда о вас думает…
Я тщательно вытерла щеку, к которой приложились протяжные нафабренные усы.
А он продолжал наигранно-весело:
Тут и деревенские гостинчики из ваших псковских палестин. Два окорочка, сальпе, маслица кадочка, мучица, какая-то баба слезно просила «батюшке Владимиру Дмитриевичу» сдобными кокорами кланяться, говорила: «Он когда-то кокоры любил»,— только они, пожалуй, зачерствели,— собакам скормите.
Пока он это болтал, из театра вернулся отец и сейчас же ушел с Черниковым в кабинет, а я осталась с матерью в столовой распаковывать рогожные кульки. На пояс и на игрушки я не смотрела — уж очень мне был противен этот усатый человек, про которого и Аксинья и няня, украинка Гапка, говорили:
— Кровопийца… дюже много крови из папаши с мамашей высосал.
Отец скоро открыл двери кабинета и взволнованно
весело крикнул с порога:
— Ты только посмотри, что у меня! Тысяча! Целая тысяча! — И помахал радужными бумажками.
Мне казалось, что это целое состояние. А он продолжал смеясь:
— Маг и чародей! Ты только вообрази: все долги заплачены, чист, как стеклышко, и еще тысяча! Да чего я теперь для следующей постановки не наделаю, бог ты мой! Хватит сезон дотянуть… Нет, маг и чародей!
— Как же это все вышло? — растерянно спрашивала мать.
— А так: оказывается, я забыл про одну большую пустошь и несколько лет ею не пользовался, а деловой человек взял да и отыскал, по доверенности предъявил на нее права, а затем ее продал, деньгами покрыл все долги, даже вперед мы с ним высчитали за месяц жалованье всем в театре, а тысяча — на разживу. Правда, гениально?
Черников делал вид, что конфузится.
— Ну, уж и гениально! На том стоим, коммерсанты; где же вам, дворянам, да еще с этакими высокими стремлениями, всякие там пустопорожние землицы помнить? А мы на том стоим, на коммерции!
— Ну, спасибо вам от души! — горячо говорил отец.
— И не благодарите. По долгу совести и по любви и к театру и к вашему семейству. Честь имеем кланяться.
И к столу не зовите! нынче пятница, день постный; маменьке обещал с нею на манер монастырской трапезы откушать. а, между прочим, у вас всегда ведь скоромное. Честь имею!
Когда он ушел, мать сказала:
— А ты. Владимир Дмитриевич, от него отчет подробный взял?
— Какой отчет?
— В купле-продаже.
— Смешно! Ведь если бы он хотел меня обмануть, он бы мог мне не привезти этой тысячи.
— Но ведь ты доверял и Павлу Козыреву, и он тебе что-то присылал и привозил, а потом оказалось, что он сделался богатым человеком, а ты потерял все, что имел.
— Ах, я же тебе говорил, что Павел Козырев — совсем другое дело! Давай-ка попробуем: вижу, ветчина из наших родных палестин и порховские калачики…
У Черникова в магазине появились новые свежие товары; о приданом, которое он привез из столицы для своей дочери, заговорил весь город. Он рассчитывал ее вытащить в дворянки, и уже намечался жених из гвардии.
Тысячи отцу хватило ненадолго. И в один день, помню, вернувшись с няней с гулянья, я наткнулась дома на странный хаос. Прислуга, сбившись в кучу, перемывала косточки хозяев и среди нот сочувствия пускала скверные шипы сплетен и осуждения:
— Вон поглядели бы сродственники, до чего у нас дошло: небель с молотка идет… кебель описывают всю как есть и печатью казенной припечатывают.
Повсюду в доме двигались незнакомые фигуры с довольно гнусными, как мне тогда казалось, лицами. Они высматривали и вынюхивали во всех углах, стучали какими-то палочками в хрустальную посуду и даже в медные кастрюли на кухне.
— Но что было особенно возмутительно — они не оставили в покое даже заветную чашечку матери, белую с незабудками, про которую говорили, что она из тончай
шего севрского фарфора, и мать пила в этот день из грубой, толстой чашки, взятой у Аксиньи.
— Все описано,— сказала она мне грустно,— в моя чашечка.
Теперь от нее полетели телеграммы ко всем родственникам, потом снова появились у подъезда дрожки Черникова с серыми в яблоках лошадьми, и он сказал, что какие-то векселя переписаны за страшные проценты и что он нашел еще какого-то «страшного ростовщика».
Печати сняли, в жизнь как будто покатилась по старому руслу…
Но это только казалось. У матери я видела постоянно опухшие от слез глаза, слышала слово «ликвидация» в разговорах отца:
— А когда после ликвидации я уеду, неужели на тебя взвалить всех девять человек детей?
— Но как же иначе? Мы остаемся на месте; я буду служить, ты — присылать, сколько сможешь… как-нибудь и перебьемся… Расплатиться с труппой у тебя хватит?
— Конечно, это главное, и я уже прикинул… не бойся, на совести моей ничего не унесу… А вот как ты будешь, бедная, если тебе придется служить у какого-нибудь хама антрепренера? Об этом страшно подумать!
Она усмехнулась:
— Его хамство ко мне не пристанет.
Помню последние дни ликвидации. Отец заплатил все до копейки, никому не остался должен. Мало того, некоторым из актеров, которые сильно запивали, сам покупал билеты и, удержав из их жалованья часть, возвращал ее только на вокзале, усаживая их в поезд.
Мать поступила кассиршей к новому антрепренеру. Отец уехал. Куда? Говорили, искать заработка. Вся огромная семья осталась на руках матери. Смутно доносились слухи об отце. Иногда он присылал деньги. Где он служил? Кем? Актером, режиссером?
Дома прислуга, сокращенная до минимума, шепталась, будто бы он поступил буфетчиком в какую-то кают-компанию и имеет дело с офицерами. Думаю, что это не совсем так: насколько знаю, заведующие хозяйством, буфетчики и повара у военных должны быть военные.
Но какая-то крупинка правды в этом, очевидно, все же была: отец позднее, в дни моей ранней юности, оказался вдруг удивительно искусным кулинаром.
close_page
У НАС ПРАЗДНИК
Отец приезжал домой на побывку в последующие годы хотя и не очень часто, но мы все же знали некоторые подробности его жизни: что он служит в разных провинциальных труппах, а в междусезонье приезжает в Москву на биржу, откуда идет организация всяких театральных коллективов как центра, так и провинции.
Хорошо мне запомнился короткий приезд отца домой летом в 1882 году.
Мне было почти десять лет, но жизнь сделала меня значительно старше и развитее своего возраста.
Отец должен был приехать в Новочеркасск с коллективом в июле. На знакомом милом здании театра появились афиши; на всех заборах и столбах замелькали анонсы о гастролях первого товарищества артистов. Среди них был и мой отец.
Я не помню всего репертуара гастролей; помню три названия: «Иудушка», «Лес» и «Кручина»; помню, как нетерпеливо мы ждали дорогих гостей; помню ликующую улыбку на лице Филиппа, подкатившего к нашему дому на своей лошади, и его поздравления «Аглае Николаевне с малюточками». Старый извозчик точно помолодел.
Город заволновался. Очевидно, Новочеркасск не очень-то баловал зимою театр ни своими постановками, ни труппой, ни выбором пьес. Преобладала старая ветошь, заезженные мелодрамы, банальные пьесы всем надоевшего репертуара, если судить о том, как поднимали сборы разные «Убийства Коверлей» и «Всадники без головы», где все было построено на ходульных ужасах и эффектах: в «Коверлее» кого-то на глазах у публики раздавливал поезд; «Всадник без головы» появлялся на авансцене страшным призраком, крепко держась на коне и поражая публику срубленной окровавленной шеей. Но эти пьесы давали обильные сборы, и «Всадника без головы» в минуту жизни трудную выбрала для своего бенефиса и мать.
Она снова уселась в кассу и на эти гастроли, и мы забегали к ней с судками, а кстати забегали и в милые «закулисы».
Отец опять с нами, правда, на короткое время, самое большее недели на полторы, если продлят гастроли по просьбе публики, но у нас все же большой радостный праздник, точно вернулось милое старое время. Он рассказывает. Он любит говорить и хорошо рассказывает:
— Вот исполнилась заветная мечта Льва Николаевича Самсонова — у нас первое товарищество, образовавшееся по почину Писарева и Андреева-Бурлака в Москве. Они спаяли в сущности старый московский коллектив Бренко и меня подобрали. Летом решили устроить своеобразный отдых — поездку по Волге, и вот богоспасаемый Новочеркасск не забыли, на Дон перекинулись, а отсюда потянемся в Ростов. Только Лев Николаевич возьми да и умри. Не умер бы, наверное был бы с нами. Актер хороший и человек душевный, кабы не водка. Эх, славная у нас собралась компания: супруги — Модест Иванович Писарев с Гламмочкой, Андреев-Бурлак… У нас ведь Александру Яковлевну Гламму-Мещерскую, жемчужинку нашу, все Гламмочкой зовут, не иначе… С Фанни не сравниваю, а таланта большого, приятного и человек самый что ни на есть милейший. И с Писаревым — пара чудесная, дополняют друг друга.
Он вынул из бумажника портреты членов товарищества и показывал их нам.
Красивое лицо у Писарева, смелое и открытое, с артистической волной длинных волос над большим высоким лбом; во всем облике — порыв и благородство.
А вот Гламма — прелестная, изящная, необыкновенно женственная, с мягким взглядом больших глаз.
Три фигуры. Первая — живой, веселый, воплощение оптимизма — Аркашка; порою находчивый, порою детски наивный по профессии вдохновенный бродяга, не злостной жулик, когда можно кого-нибудь одурачить, но с сердцем и, главное, умеющий приспособляться, как те придорожные травы, которые, будучи выдернуты с кореем, прорастают в щели камня, травы, которые он без счета истоптал, исколесив бескрайные дороги родины. Это — Андреев-Бурлак. Он стоит у меня перед глазами, маленький, в бесцветном клетчатом костюме, сливающемся с дорожной пылью, в шляпчонке, потерявшей свою форму, с простодушно-лукавой улыбкой.
И рядом высокая, сильная фигура Писарева, с его могучим голосом, с широким, несколько ходульным жестом,— фигура, полная благородства. Ни одной фальшивой интонации. Все логически следует одно за другим. Счастливцев и Несчастливцев. Два полюса.
И третья фигура — Аксюша — Гламма. Какая мягкость, юность и простота! И как она оттеняет тех двух… Сколько милого простодушия, невинной грации; чудесный цветок, выросший на лугах захолустной деревни… И этот взгляд прекрасных глаз: «Братец… братец…» Разве можно такую обидеть?
Труппа была, очевидно, хорошая, но почему-то, кроме этих трех, в моей памяти не запечатлелся никто — ни Гурмыжская, ни Буланов, ни Улита.
Напрасно думают, что дети не разбираются в игре артистов. Непосредственное чувство должно им подсказывать правду.
В данном случае я, может быть, и представляла даже некоторое исключение: в сущности почти выросла в театре. Впоследствии я делала проверку, как действует искусство на двух непосредственных деревенских женщин.
Одну из них я водила в Петербурге в Эрмитаж. Я была ее «экскурсоводом». Я показывала ей живопись разных школ, знакомила со скульптурой новой и древней, показывала скифские древности, мумии, античные вазы. И слышала ее суждения и удивлялась их меткости. Она, очень целомудренная и даже стыдливая женщина, нисколько не смущалась наготой статуй, хотя рядом с нею стояли мужчины, и серьезно сказала:
— Им и одежды не надобно. Больно уж красивы, складны, и закрывать такие тела было бы жалко.
Другая, уже пожилая женщина, сама прекрасный имятатор-самородок, пристрастилась ходить в московский Малый театр и всегда верно оценивала исполнение ролей тем или другим артистом. Она особенно подчеркивала «мягкость» игры Климова, повторяя фразы из его роли, его жесты, самую манеру говорить, и, когда я пробовала остановить ее внимание на некоторых других персонажах, игравших главные, эффектные роли, она говорила:
— Это чго! Неплохо, да только им представлять легче, чем Климову… а у Климова роль-то какая… трудная… а он-то ее как… до чего же явственно, по-всамделишному… все до тонкости…
Именно «до тонкости». Тонкость игры Климова заметила!
Отец играл Восьмибратова. Я любила отца и радовалась, когда видела его опять на сцене нашего милого театра, но он на меня не произвел сильного впечатления. Он был образованный, со вкусом актер, но среднего дарования. Играл грамотно, но, особенно рядом с перлами, гладко-бесцветно. Портило впечатление еще то, что я слишком хорошо знала каждый его жест, каждую инто нацию, и еще то, что он грассировал.
Впоследствии, уже взрослая, я много раз видела его в разных ролях и всегда выносила впечатление приличной, гладкой игры. Он не портил, но и не создавал.
Смотрела я и «Иудушку» и «Кручину», но самое яркое впечатление на всю жизнь осталось от «Леса».
Театр неистовствовал. Впрочем, сборы были неровные. Мать говорила, что в первое представление зал оказался заполненным только наполовину: очевидно, многие чиновники и местная аристократия не пошли потому, что не «сделал чести» гастролерам «сам», то есть атаман Святополк-Мирский. Но атаманша соблазнилась именами, была на спектакле и расхвалила князю актеров. Он сложил гнев на милось, простил «гордецов»-актеров, не приехавших к нему с поклоном, и появился в атаманской ложе. Театр ломился я от публики, и вместо трех спектаклей, по просьбе публики, дали, кажется, пять, повторив и «Лес», который хотел видеть атаман.
Аплодисменты — без конца; растроганная Гламма у рампы с букетом роз, потом бесконечные разговоры, разбор игры у нас дома, горячие споры и какое-то особенное, праздничное оживление. Опять мы все вместе, опять отец рассказывает о своих путевых впечатлениях, ярко рисуя встречающиеся волжские типы, передает эпизоды из жизни товарищей, а мы слушаем жадно, радостно его неторопливую складную речь, как слушали, когда он читал нам новинки литературы.
Но всему бывает конец,— пришел конец и этому празднику: и уехали наши славные гости, и опустел театр. Знакомое длинное здание стояло теперь одинокое, мрачное и темное по вечерам, с лоскутами пестрых афиш, ободранных в ожидании новых анонсов.
close_page
ПСКОВ
Мне кажется, будет логическим завершением рассказа, если я передам кратко о перипетиях жизни пасынка сцены — моего отца, когда-то заметного деятеля театра.
Он продолжал колесить Россию из конца в конец, занимая скромное место в труппах, не портя собою и не украшая, принося большую пользу, когда организаторы обращались к нему за советом относительно репертуара и постановок. Но эти свои знания высококультурного деятеля искусства ему далеко не часто приходилось применять.
В начале восьмидесятых годов он, достав тысячу рублей, пробовал держать екатеринодарский театр, куда уехал вместе с матерью, оставив нас на попечении старшей сестры, но прогорел, прогорел до того, что приходилось голодать, не имея рубля на обед.
Суровая нужда с этих пор не оставляла его до самой смерти весною 1900 года.
У отца была широкая в развороте грудь, и хотя он, подобно всем своим предкам, матери, братьям и сестрам, погиб от туберкулеза, доктора всегда уверяли, что он, по своей комплекции, застрахован от туберкулеза, и он не берегся, продолжал выкрикивать на морозе своих Ляпуновых и Велизариев в дощатых малафеевских скорлупках, продолжал путаться по дачным театрам, пока себя не доконал. Он долго ходил в распахнутом пальто; в холодных квартирах, в комнате, где в углу был снег, спал под одной простыней.
В восемьдесят шестом году ему судьба немного улыбнулась: он получил место режиссера в любительском кружке Пскова. Он не только ставил спектакли, но и играл видные роли.
Это был совсем особенный любительский кружок. Помещался он, как и большинство подобных кружков, в клубе, и хотя председательницей его и командиром была «дама общества», жена председателя суда Красовская, но она была далеко не без дарования, со вкусом и довольно широкими начинаниями. Она недурно справлялась с ролями гранд-дам и светских старух, усиленно подражая александрийской Жулевой.
Остальные любители тоже нравились псковичам, и театральный зал редко когда не был полон.
Не помню, сколько раз в неделю шли спектакли, но знаю, что часто, и знаю, что Псков ценил своих любителей. Пьесы большей частью шли ходовые, часто из классического репертуара. Ставили «Горе от ума», ставили Островского, отважились на «Псковитянку» и «Царскую невесту», конечно, отдавали дань и Аверкиеву с его «Каширкой» и «Ванькой-ключником»; ставили и «Вторую молодость» Невежина. Как-то благополучно справлялись с костюмами в «постановочных» пьесах, думаю, не без участия знаменитого Плюшкинского музея, так как молодой юрист Плюшкин играл на сцене кружка.
Я была тогда очень близка к театральным делам; хотя мне еще не минуло и четырнадцати лет, но я не хотела сидеть сложа руки и сделалась единственной переписчицей ролей и пьес от руки и получила право ходить в театр бесплатно. Память была хорошая, и я могла бы без экземпляра суфлировать наизусть, знала от крышки до крышки все пьесы, повторяла диалоги и монологи, переписывая как длинные драмы и трагедии, так и старые водевили: «Бедовая бабушка», «Дочь русского актера», «Лев Гурыч Синичкин», «Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет». Я знала слабости и козыри всех этих полулюбителей, полуактеров; был здесь недурной герой-любовник архитектор Зекшинский; молодой «рубашечный» герой Кособуцкий, ставший скоро в ряды профессионалов; молоденькая инженю изящная Чирковская; пожилая Юрьева; фат Лейтнер, отравившийся в ту зиму.
Но что особенно придавало ценность псковскому театру — это частые гастроли известных столичных артистов.
Мы жили в Пскове один сезон, и я не знаю всех, кто там перебывал, но помню хорошо приезды Стрепетовой и Кузьминой.
Стрепетова блестяще сыграла Катерину в «Грозе» и Лизавету в «Горькой судьбине» — роль забитой и оскорбленной женщины. Она вызвала бурные овации, и Псков долго не мог забыть ее.
И потому очень трудно было выступать после нее Кузьминой.
Эти гастроли устроил Кузьминой мой отец в то время, когда она буквально погибала от нужды, не умея устроиться в Петербурге. Не знаю, как и кому пришло в голову поставить в Пскове «Горькую судьбину» Писемского и как Кузьмина решилась играть коронную роль Лизаветы, прославившую на всю Россию Стрепетову.
Кажется, пьесу разучивали для гастроли Стрепетовой и потратили много времени на репетиции, а Стрепетова почему-то не смогла приехать, и отец списался с Кузьминой.
И, по правде сказать, побаивался. Ведь многие из псковичей, самые театралы, видели Стрепетову (Петербург от Пскова рукой подать, езды по железной дороге часов восемь).
И вот приехала наша Кузьмина, остановилась у какой-то старой вдовы попадьи, дающей нам обеды, привезла с собой один чемодан, но костюм и грим были безукоризненны. И странно: еще так недавно мы видели ее на клубной сцене Петербурга в роли Лидии в «Бешеных деньгах», в других ролях светских барышень с безукоризненными манерами, видели в роли нежной Офелии и королевы в «Рюи Блазе», и вдруг — деревенская баба в сарафане и повойнике! Где она возьмет простоту, быт, сердечные, душевные ноты забитой крепостным правом женщины?
— Не было бы скандала,— говорила мать.— Это после Стрепетовой-то…
Отец усмехался:
— А помнишь в Киеве Лукашевич в «Каширке» после Фанни Козловской?
И он был прав. Первый же ее выход, эта простота движений, этот голос сразу завоевали публику. Ее робкое обожание барина, потрясающие крики, когда Ананий (играл мой отец) убивает ребенка,— всех сразу захватили. Потом, в последнем акте, где у нее так мало слов и так много выразительности, в этих почти немых сценах, когда она падает в ноги мужу, было что-то необычайное. Весь зал дрожал от рукоплесканий, сквозь которые прорывались рыдания.
К рампе с жиденьким оркестром были поданы цветы — роскошь, давно уже не виданная Кузьминой.
Отца благодарили. Кузьмину просили остаться еще на спектакль и сыграть то, что можно было поставить с одной репетиции.
Играла она Марьицу в «Каширской старине» с большим успехом, и как сейчас помню ее два костюма — старенький синенький сарафанчик — «ферязь» с красненькими кантиками и филигранными пуговками-шариками, какие тогда, да и долго спустя, носили в Псковщине, и белый глазетовый, венчальный с самодельным кокошником и фатою. И занавес упал под громкие бешеные крики:
— Кузьмина! Кузьмина!
Вопрос о костюме встал, когда наметили «Без вины виноватые». У Кузьминой должно быть по меньшей мере три туалета. Все было ничего, а вот костюм последнего акта — вечерний. Мать сокрушалась:
— Где его возьмет наша Надюра?
Отец все-таки написал Кузьминой официальное приглашение. Это как раз совпало с тем временем, когда псковичи приглашали Савину, но та отказалась. От Кузьминой пришла телеграмма:
«Согласна».
И вот она снова у нас.
— Надюра, милая, как же с костюмом для последнего акта? — спрашивала беспокойно мать.
— А это, кумушка, все улажено. Придете к моей попадье и увидите. У меня и картонка для него отдельная.
Перед спектаклем мать к ней зашла. Она открыла картонку, вынула что-то очень красивое, бархатное, мягкого лилового цвета. Это было парижское шикарное платье великолепного бархата с длинным шлейфом и отделкой из крошечных колибри, грациозно кое-где поддерживающих складки. Простота и изящество.
Мать помнила прежние костюмы и Фанни Козловской, и Лукашевич, и той же Кузьминой, эти мантии из желтого кумача с ватой и заячьими хвостиками, на манер горностая, крашеную марлю, и спросила:
— Откуда такая прелесть?
— Настоящая прелесть, неподдельная! — весело, по- детски воскликнула Кузьмина.— А откуда достала — угадайте.
— Взяли напрокат?
— Что вы, кумушка, да когда у Лейферта бывали такие костюмы? Он напрокат только пуды грязи дает.
— Да и то из трех сортов,— подхватил отец,— это костюмы «исторические», но неопределенных эпох, а о салонном не спрашивай.
— По-да-ри-ла, по-да-ри-ла, по-да-ри-ла! — запела Кузьмина, хлопая в ладоши и дурачась.
— Да кто подарил?
— Угадайте!
— Добрая принцесса, волшебница? — пошутила мать.
— Вроде, кумушка… Только не принцесса, а сама королева: Марья Гавриловна Савина!
Эффект был необычайный. Посыпались вопросы:
— Как? Почему? Каким образом? За что?
Но о том, как Савина делала подарки, мне придется рассказать особо, когда я буду говорить об этой замечательной актрисе.
Кузьмина, улыбаясь, провела осторожно, будто лаская что-то живое, рукою по бархату платья и сказала:
— Она сама сюда не поехала, а меня уговорила, но осмотрела мой гардероб и вот подарила мне для Кручининой.
Выступление Кузьминой в «Без вины виноватые» было сплошным триумфом. Она сумела как-то расти на сцене; ока откуда-то брала благородство и силу, а горячее ма- теринство ей было хорошо знакомо в жизни…
БОМЕЛИИ
Настал пост, и гостеприимный Псков остался позади со своей старой стеной, Гремячей башней, живописными бойницами, таинственным подземным ходом, внушительным собором и головокружительно-прекрасным видом на Пскову и Великую.
Ангажемент у отца кончился, и мы потянулись в Петербург на голод и безработицу. Впрочем, уже к лету отец устроился актером и режиссером в труппу Денисенко, в новый, только что отстроенный Василеостровский театр, который в то время был известен как «Народный». Не знаю, название это было официальным или только ходячим среди труппы и жителей Васильевского острова.
Театр находился в конце Большого проспекта, недалеко от гавани. Труппа была слабая. Инженю-драматик — молодая, весьма среднего дарования, какая-то рыхлая и однообразная Макарова с певучим голосом на одних нотах, а муж ее Макаров-Юнев, золотых дел мастер, имел магазин на Офицерской улице. Антрепренер особенно дорожил этим Макаровым-Юневым. Толстый, мужиковатый актер, комик в труппе, обладал удивительно приятным, задушевным баритональным тенором, благодаря чему ему удавались роли скоморохов, шутов, песенников, и Василеостровская публика очень любила его и охотно слушала, например, в «Ваньке-ключнике» и потом, выходя, напевала его «Кукушечку»:
На дубу кукушечка.
Над могилой молодца,
Все кукует…
Ку-ку! Ку-ку!
И Макаров-Юнев пользовался всяким случаем, чтобы вставить в роль номер с пением.
Денисенко— герои-любовник; у него был сценический темперамент, но плохо было то, что, как говорил отец, он «не выговаривал тридцати двух букв в алфавите», и его Банька-ключник изрекал: «Утройся в терем твой!»
Все это была жалкая дешевка, в к тому же Денисенко оказался eщe и плохой делец.
Мы поселились на Пятнадцатой линии Васильевского острова чтобы быть ближе к театру, но наши ресурсы не увеличились. Отец приходил из театра мрачнее тучи.
— «Народный театр», тоже! — говорил он желчно.— Взглянул бы Денисенко на мой Народный театр в Киеве!
Сидим на старых черных клеенчатых стульях-«че- репахах» в полном унынии. Пьяная кухарка дразнится:
— Актерки! У, актерки! Нет денег, так не надо держать и прислугу!
— Но мы ведь не должны вам ни одного рубля,— пробует осадить ее мать.
— Какое тут жалованье? Зачем и платить, коли самим жрать нечего? Думаете, все живодеры? Мне не надо платить — лучше бы давала деньги на обед.
— Вам будет лучше на другом месте, Афросинья, и я вас не держу.
Она приходит в бешенство.
— Говорю ж, я не живодерка! Да разве местов мало? А кто вам без меня будет готовить обед из «нега»? Кто будет беречь вашу копейку? Не-е-ет. гоните — не уйду… Лягу на пороге — шагай, дави… Вот я какая!
Отец входит и спокойно говорит:
— Афросинья — имя греческое и в переводе значит— неразумная. И потому ей надо слушаться умных. Вот,— обратился он к матери,— возьми три рубля, из зубов вырвал у кассира на провизию.
Через несколько минут повеселевшая Афросинья шагает к рынку с тремя рублями.
И так—каждый день… Частенько случается, что у кассира не удается вырвать трех рублей, и у нас нет обеда.
Тяжелая нужда много лет подряд преследовала нашу семью. Достатка в сущности ни отец, ни мать не видели до самой смерти.
И как же было смешно им читать несколько лет спустя после службы в Василеостровском театре статью какого- то борзописца, фамилию которого я забыла, в петербургском иллюстрированном журнале «Возрождение», описывающую биографию моего отца, утопавшего в роскоши.
Все это было сплошной ложью. Очевидно, автору хотелось приноровить свое писание к каким-то пушкинским дням, и он зацепил вечный конек многих борзописцев — пресловутую Анну Петровну Керн.
Развязно рисовал автор картину сказочно-пышной жизни в псковском городе Великие Луки, где у Рокотова дворец с оранжереями, с ливрейными лакеями и пышным выездом; рисует чопорную даму — мою мать и ее дочь от первого брака — надменную аристократическую девицу, и тут же — красавицу Керн.
Статья — смешная и претенциозная, а главное — лживая от начала до конца. В Великих Луках отец жил очень скромно и как о матери моей, так и об Анне Петровне Керн не имел представления, а сестра моя еще не родилась. На этой «статье» можно было бы не останавливаться, но кому-нибудь, ищущему «свежий материал» для характеристики пушкинской эпохи, может попасться на глаза эта чепуха, и он будет с нею считаться…
Вернусь к рассказу о Народном театре. Денисенко был авантюрист и аферист. Без средств и без актеров он начал свое дело, никому не платил, прятался от кредиторов, беспрестанно лгал и всячески выкручивался.
Часто спектакль запаздывал на час и два, потому что актерам не во что было одеться. Свой гардероб тогда был далеко не у всякого актера, а пьесы ставили, как нарочно, костюмные. В таких случаях костюмы доставали у костюмера Лейферта, а Лейферт не давал, пока ему не заплатят старый долг и еще не отдадут хотя часть вперед, и у кассы происходили, на глазах у публики, настоящие скандалы. Лейферт требует денег, зрители требуют возврата платы за билеты, а кассир уже отдал все, что наскреб, Денисенко; Денисенко же не занят в пьесе и прячется неизвестно где.
Приближался бенефис отца. Ставили любимую публикой «Царскую невесту». Отец играл лекаря Бомелия, Кузьмина, приглашенная на гастроли,— Любашу, Денисенко — Грязного, Макарова — Марфу.
У нас на этом бенефисе строились большие надежды. Все-таки набежит лишних полтораста — двести рублей, будет передышка.
Отец непременно хотел, чтобы те из родственников, которые его осуждали за выбор «позорной» профессии, посмотрели его на сцене. Мать отговаривала:
— Зачем тебе это нужно, Владимир Дмитриевич? Если бы ты был даже великий Сальвини, для них ты все же остался бы только комедиантом, топчущим на подмостках их дворянскую фамилию. И охота слушать жидкие вежливые аплодисменты этих чужих тебе по существу людей и видеть перед рампой их презрительноснисходительные мины! Что понимают в искусстве эти напыщенные люди?
Эти напыщенные люди были ее прошлое, ее круг, с которым она порвала, как только связала свою жизнь с «комедиантом».
Но отец не слушал и послал родственникам билет в ложу.
Был теплый вечер конца лета. Я с матерью и сестрой отправились в театр. Сели в партере и смотрели на ложу знатных родственников.
Вот появились, шурша шелками, дамы, и до нас долетели французские фразы. Мелькнули дорогие меха накидок. Перед барьером затрепетали пышные веера, мелькнули белоснежные лайковые перчатки, лорнеты наводились на публику, и в движениях лорнетов чувствовалось презрительное любопытство.
Начало в семь с половиной часов. Семь с половиной. Никакого движения на сцене. Жиденький оркестр настраивает инструменты и играет не то «Дубинушку», не то «Камаринского», не то какую-то протяжную народную песню — что-то из русского репертуара, сейчас не припомню, что именно.
Вот скрипки оборвали последний такт, но занавес не поднимается, и привычное ухо улавливает, как за кулисами творится что-то неладное.
Публика давно уже выражает нетерпение. В ложе родственников беспокойное перешептывание. Молодой человек уводит и приносит, очевидно из буфета, коробку конфет и фрукты. Веера машут все нервнее. Слышен сдержанный смех. Обладательницы мехов и вееров пожимают плечами.
Они, конечно, смеются над тем, в какую «дыру» заманил их этот безумец. И вспоминается, как нам передавали возмущение светской родни: «Уж хочет позориться. так ке трепал бы старую дворянскую фамилию Рокотова по подмосткам, а взял бы псевдоним!»
Уже девятый час… Мы с сестрой идем к кассе. Издали до нас долетает ругань. Сам Денисенко, еще без грима, тогда как он занят в первом акте, торгуется с представителем от Лейферта, и до нас доносится нецензурная брань:
— Сволочи! Дьяволы! Зарежете… Вы бы раньше говорили, что не дадите, мы бы выбрали пьесу без костюмов…
— А мы давно предупреждали, но вы все не платите!
— Да ведь бенефис! — слышится голос отца, звучащий непривычным отчаянием.— Я-то тут при чем? Меня за что бьете по карману и по самолюбию?
И отец у кассы, хотя и занят тоже в первом акте.
Возвращаемся в ужасе в зрительный зал. Через некоторое время, впрочем, занавес идет.
Первое действие. Покой в доме любимца Иоанна Грозного, опричника Грязного. Стол, накрытый для пиршества. Обстановка в театре бедная, почти нищая, но все же с намеками на русскую утварь.
Я вижу отца в роли лекаря Бомелия и не понимаю, почему он усиленно прячется за других пирующих. Он точно прирос к лавке. Но роль знает хорошо и акцентирует не плохо.
Появляется Любаша — Кузьмина и сразу завладевает вниманием публики. Даже маленькая девочка, кокетливая рефилона, присяжная в то время ребенок-актриса, сидя возле меня и все время вертясь, чтобы овладеть вниманием соседей.
Глубоким голос Любаши западает в сердце.
Акт закончен. Занавес падает. Шумные аплодисменты.
— Бенефицианта!
— Ро-ко-то-ва соло!
Отец выходит к рампе как-то конфузливо, неловко, все еще прячась за других. Я смотрю и ничего не понимаю.
Отец двигается вперед. Мать вспыхивает до слез, и я вижу, что вместо черного трико и камзола, который полагается Бомелию. у него высокие ботфорты и лосины, а плечи его покрывает обыкновенным фрак с подогнутыми фалдами.
Впрочем, публика в зрительном зале не слишком-то разбирается в эпохах.— это все рабочие и мастеровые Васильевского острова, но в ложе родственников — движение и сдержанным смех: чем-то возмущенным голос:
— Боже! Какой позор!
Стулья отодвигаются довольно демонстративно, и ложа пустеет.
Мы с трудом досматриваем спектакль, хотя в последующих действиях Бомелий уже появляется в соответствующем костюме, присланном сжалившимся Лейфертом.
Что сказать о дальнейшей карьере моего отца, этого человека большого почина, не приспособленного к житейском борьбе?
Через близкого знакомого одних наших родственников, управляющего императорскими театрами Погожева, отец получил в Александрийском театре дебют. Выступал в роли слуги в водевиле «Сама себя раба бьет, коль нечисто жнет». Роль довольно большая. Он был принят, но на мизерный оклад — в шестьдесят восемь рублей, и на этом жалком окладе остался до конца своих дней, то есть двенадцать лет.
close_page
РИСОВАЛЬНАЯ ШКОЛА
И «ДАМА В ГОЛУБОМ ПЛАТЬЕ»
Петербург 1887 года. Мне было пятнадцать лет, когда моя тетка отдала меня в рисовальную школу Общества поощрения художеств. В данном случае она разделяла убеждения многих дам, считающих, что у них в семье обязательно должны быть свои доморощенные таланты. кто немного бренчит на рояле, тот уж, наверное, будущий Рубинштейн; кто поет крошечным голоском, тот Патти или Фигнер; кто пишет вирши, тот займет почетное место в пушкинской плеяде, а кто рисует в альбомы цветочки или криворотые головки, тот со временем, конечно, в истории искусства будет равен Брюллову.
принадлежала к представителям «криворотого искусства» и, едва мне попадал в руки карандаш, ретиво срисовывала встречающиеся в «Ниве» и «Всемирной иллюстрации» картинки, а когда у меня очутился случайно ящик с красками, кисти и полотно, не уставала изображать разных «цыганок», «Гермион», произведения Туманов и Макартов, бесцеремонно подбирая краски под «черненькие» гравюры.
Вот это усердие и дало моей добрейшей тетушке попытаться сделать из меня своего домашнего Рафаэля.
Тетушка была крошечная, горбатенькая, известная в петербургском свете, а я жила у нее временно, как дочь ее «бедного брата Владимира», увлекшегося «этим ужасным театром и сгубившего жизнь и свою и своей семьи». Театр требовал кочевой жизни, и я временно была вне гимназии.
Приезжаем с теткой на угол Мойки и Большой Морской в школу, и тетушка, со свойственной всем дамам ее круга осторожностью, осведомляется у заведующей классами Праховой, сестры известного Прахова, достаточно ли «прилично» учебное заведение, в которое она помещает свою племянницу, «очень талантливую девицу из хорошего общества».
После этих переговоров я получила место за пюпитром в тесном младшем приготовительном классе, и передо мною поставили для срисовывания модель… простой белый зуб.
Женские классы были с десяти утра до двух дня; с двух начинались классы мужские. С приготовительного начинали все поступающие в школу; в двух отделениях этого класса и в двух отделениях первого рисовали геометрические фигуры, причем обращалось большое внимание на технику тушевки итальянским карандашом; в двух отделениях второго класса рисовали орнаменты, в третьем — части лица, руки и ноги; в четвертом — голову и всю гипсовую фигуру и, наконец, в пятом — живую натуру — человека. Начиная со второго класса осваивались параллельные предметы: лепка и всякие прикладные — тиснение по коже, резьба и выжигание по дереву.
В школе меня сразу захлестнула волна шумной молодой жизни, и не известный писатель Д. В. Григорович, ее директор, стал для меня приманкой, а сама школьная среда.
Григоровича мы видели редко; приходя, он иногда подсаживался к какой-нибудь ученице, делал замечания насчет ее рисунка, и его красивая серебряная голова бросалась в глаза на фоне белокурых и темных волос девушек. Мы мало знали его как руководителя, гораздо более популярен был его заместитель Сабанеев, фактический директор.
Небольшой, кряжистый, рыжевато-седой, с быстрыми движениями, он появлялся то тут, то там, и издалека уже был слышен его громкий повелительный голос. В нем была неиссякаемая энергия, и эта энергия являлась причиной того, что школу больше звали «Сабанеевской», чем «Григоровичевской».
Сабанеев читал у нас перспективу и историю искусств, но для младших классов эти два предмета были необязательны. А мне хотелось вобрать в себя все, и я не пропускала ни одной лекции, одинаково жадно слушая как о законах перспективы, так и об истории искусства итальянского Возрождения. Мне казалось, что, закрыв глаза, я вижу и улицы и обстановку жилищ Рима, Флоренции, Милана и Венеции, вижу картины, статуи и людей.
И рисовальная школа скрасила мне бесцветную жизнь.
О своих способностях, впрочем, я была самого низкого мнения и с каждым днем все более и более убеждалась в этом, видя работу окружающих. Но я все полюбила здесь: и итальянские карандаши, и клячку-резинку, со щелканием снимающую тушевку, и даже геометрические фигуры для натуры.
Нашей учительницей была маленькая черноволосая скромная женщина Вахтер; я не знаю ее как художницу. В старших классах помню двоих: подтянутого, в красивой коричневой тужурке со шнурами пейзажиста Ционглин- ского и, по-моему, имевшего с ним нечто общее пейзажиста Крачковского.
Была еще одна фигура, привлекавшая внимание всей школы,— заведующий скульптурным классом Беклемишев. Высокий, стройный, он казался ученицам олицетворением красоты…
close_page
МОЛОДАЯ КОМПАНИЯ
Глядя на затейливые орнаменты и гигантские гипсовые головы, с которыми так свободно справлялись многие из моих товарок, я все яснее сознавала свое ничтожество. Но обстановка затягивала; все чаще я подсаживалась столикам второклассниц и третьеклассниц, которые были значительно старше меня, слушала их разговоры, и скоро их «философия» стала увлекать меня.
Часто после уроков мы сбегали по внутренней скрипучей лестнице вниз, в музей Общества поощрения художеств. Таинственный полусвет окутывал нас со всех сторон, красиво изгибались расписные низкие своды; вдоль стен тянулись витрины с сокровищами музея; со стен смотрели темные полотна старых мастеров; между ними белели напряженные мускулы мраморных борцов и страдальческое лицо Лаокоона, а белый амур Фальконета лукаво грозил пальчиком над круглым темно-красным диваном.
Здесь периодически устраивались выставки и особенно часто — передвижников.
Среди тишины музея звонко раздавались молодые голоса, шутки, споры, смех.
Нас было шестеро; мы были совершенно разные, и каждая по-своему строила свой план жизни. Здоровая, румяная и красивая Вера Верховская легкомысленно заявляла нам, что смотрит на свои занятия как на препровождение времени «от скуки», мечтая о веселой жизни с театрами и танцевальными вечерами; Ариадна Максимова, с чисто русским лицом и гладко причесанными волосами, возмущалась пустотой Верховской и жаловалась на неудовлетворенность.
В сущности Ариадну мало занимали успехи в рисовальной школе и даже искренние похвалы отца, известного художника-передвижника; неуравновешенная натура тянула ее во все стороны, и бывали моменты, когда она тяготилась занятиями искусством. Мечты уносили ее в деревню, в крестьянскую среду, откуда вышел ее отец и связь с которой сохранилась у дочери. И когда она говорила о деревне, о народной школе, низкий голос ее становился задушевным, теплый огонек загорался в голубых глазах. Иногда, замечтавшись, она встряхивала вдруг головой и широко улыбалась, показывая здоровые белые зубы:
— Э, черт! Почем я знаю, что будет впереди? А сейчас хочется только поразмяться и выкинуть какую-нибудь «штучку» назло этим разряженным дуракам!
Она подразумевала под «дураками» проходивших мимо посетителей музея. И вдруг подбоченивалась, начинала приплясывать, припевая родную новгородскую частушку:
Скоро, скоро снег сойдет,
По нашей речке лед пойдет;
Сяду я на льдиночку,
Спроведаю кровиночку.
Сяду я на тоненьку,
Спроведаю я родненьку!
не пропускала ни одного концерта Антона Рубинштейна, усердно рисовала и лепила, молитвенно выслушивая наставления Беклемишева; пописывала какие-то рассказики из деревенской жизни. Впоследствии она увлеклась лекциями известного анатома — педагога Петра Францевича Лесгафта, поступив, кажется, одновременно и в учительскую семинарию, а по окончании ее или несколько раньше училась на сыроваренном заводе Верещагина.
Мне она тогда казалась существом необыкновенным. Она говорила мало, тихим голосом, конфузилась; проникновенными серыми глазами смотрела исподлобья, склонив голову на впалую грудь. У нее было бледное худое лицо и тонкий профиль. Моду она презирала, как и .многие внешние условия жизни, одевалась в платье допотопного старушечьего фасона оливкового цвета.
Но она любила природу, любила искусство и мечтала о подвиге. Все это, и даже пренебрежение к туалету, приводило меня в восторг.
Казаринова показала Лиде Зандрок дорогу к Лесгафту, сообщив, что ходит на его лекции параллельно с утренними занятиями в рисовальной школе. Лесгафт читал бесплатно у себя на дому, на Фонтанке. Лекции были своеобразные; анатомия была основой физического воспитания.
Страстно-стремительный Лесгафт, последователь знаменитого анатома Грубера, имел громадное влияние на своих учеников. Его ученицами были первые женщины- врачи в России: Суслова и Кашеварова. К нему ходили рано утром, зимой еще до рассвета, к четырем или пяти часам, не стесняясь расстоянием, со всех окраин города, ходили студенты и курсистки. Среди учеников была и Казаринова, а позднее — Зандрок.
Учеников этого профессора узнавали, как сектантов: по манерам, по одним и тем же выражениям, по образу жизни, по привычкам, и Казаринова восприняла его характерные словечки. Она часто говорила со свойственной ему одному интонацией:
— Следовательно-с, здесь… прибавочный раздражитель…
Верховская задавалась целью позлить землячку. К ней присоединялась самоуверенная Лиза Мартынова — маленькая фигурка с густой каштановой косой; она подходила к нам, высоко подняв голову, громко и твердо притопывая каблуками.
Она была избалована жизнью, верила в свой талант, заранее определила себе дорогу и слушала наши «философские» разговоры, пожимая плечами.
Ей казалось смешным, как она выражалась, «лесгаф- товское беснование». Она присоединялась к Верховской, чтобы подразнить Казаринову.
— А это не «прибавочный раздражитель» и можно мне его съесть? — говорила Верховская, демонстративно засовывая в рот пирожок с вареньем.— Ведь твой профессор называет «прибавочным раздражителем» горчицу, перец… ну, а соль? Ведь каждое тесто солят. А варенье?
Казаринова отворачивалась. Лиза Мартынова подхватывала, щуря свои прекрасные голубые глаза, странно печальные на самоуверенном капризном лице.
— Ну, а что вы делаете, Казаринова, со своим мопсом, когда уходите на лекции? Берете с собой? Ведь он будет один выть, и хозяйка вас не станет держать на квартире.
— С каким мопсом?—удивилась Казаринова.
— Да с Татаркой. Ведь вы же непременно должны иметь мопса, как у Лесгафта, и назвать его также Татаркой.
Казаринова молча вставала и взлетала на лестницу..
ЛИЗА МАРТЫНОВА
Из всех нас самыми обеспеченными были Верховская и Мартынова. Рядом с обыкновенным, здоровым, хотя и довольно привлекательным лицом Верховской лицо Лизы с его беспокойным выражением казалось оригинальным и тонким.
Лиза была дочерью известного врача, имевшего в центре города комфортабельную казенную квартиру от Государственного банка. Благодушные отец и мать, гостеприимство, беспорядок, граничащий с богемой. Помню, случалось мне бывать у Мартыновых. Самовар и тарелки с закусками с утра до ночи не сходили со стола. Едят и пьют и требуют подогреть самовар все, кому не лень: товарищи братьев, подруги сестры, знакомые родителей и так, шапочные знакомые, зашедшие на перепутье. Кто-то ночует и залеживается поздно утром на одном из многочисленных диванов. В то время как за столом уже идет бесконечный завтрак, с диванной подушки поднимается всклокоченная голова, и добродушный хозяин, небольшой, черненький и приятный человек, шикает на смеющихся младших детей, торопящихся в гимназию:
— Тсс! Дайте выспаться гостю! Может, вчера кутнул, а то дирижировал танцами где-нибудь на вечере… ведь ему не в школу идти, как вам, и не на прием к больным, как мне…
— А кто это, папа?
— Ишь чего захотели, чтобы я знал, кто. Да кому надобно, тот и спит.
Ели, пили, наполняли дом шумом и весельем. Старший брат Лизы кончал в это время Военно-медицинскую академию, был вахлак, в перепачканном всякими химическими снадобьями мундире, растрепанный, рассеянный, любил собак, заводил их в большом количестве; все его звали Костя.
Младших детей как-то приторно звали: дочь — Милочкой, сына — Вавочкой. Оба вечно хворали, ленились и мечтали о всяких удовольствиях.
А Лиза мечтала о славе, и даже не мечтала, а была в ней уверена,— недаром же так твердо постукивали ее каблучки, недаром так высоко была закинута голова с большим эльзасским черным бантом над толстой светло- каштановой косой, придававшим ей больше роста и, как ей думалось, «окрылявшим» ее. А глаза были печальные. И когда она капризно топала ножкой или приказывала, когда над кем-нибудь едко и беспощадно насмехалась, глаза оставались печальными.
Но жила она в свое удовольствие. Способности к рисованию у нее были не слишком большие, но она любила искусство и еще больше среду художников; потому и ходила в рисовальную школу, ходила на дом к Максимову, отцу Ариадны, который устроил у себя нечто вроде маленькой студии, и писала там с натурщиков масляными красками. В этой студии она была центром, притягивавшим молодых учеников Максимова. Она могла ими «швыряться», как выражался ее учитель, могла капризничать сколько угодно и натравливать своих поклонников одного на другого, наслаждаясь бурей в стакане воды.
Максимов о ней говорил:
— Лиза способна… на очень маленькие вещи… с куриный носок… Идет она по меже, встретит кочку или муравейник, и давай их расписывать. Каждый листик выпишет,— тщательность на редкость добросовестная,— ни одной мушинки не забудет, и ежели у божьей коровки крылышко оборвано, будьте спокойны, она его вам в точности со всеми щербинками изобразит… дотошливо, кропотливо… добросовестно… А пейзаж общий — с ним ей не справиться,— не видит!
close_page
СМЕРТЬ ГАРШИНА
Двадцатые числа марта. Классы еще не начались; мы пришли слишком рано и пробрались в музей, где готовилась какая-то выставка. Нам хотелось посмотреть картины на свободе, без публики. Мы притихли и говорили пониженными голосами.
Сидя на круглом бархатном диванчике под фальконе- товским амуром, мы смотрели издали, как рабочие развешивали на темно-коричневом фоне коленкора картины под окрики распоряжавшихся членов жюри. Ариадна, знавшая в лицо всех художников, шептала:
— Видели? Репин! И чего он так рано?
Вдруг беспокойный скрип внутренней лестницы, торопливые шаги — и перед нами высокая черная фигура Казаринппой с бледным лицом и вздрагивающими губами. Резкий голос прерывается от рыданий:
— Слышали, убился… с лестницы… в пролет…
Наша мирная беседа была внезапно нарушена непонятным трагическим известием.
Верховская нахмурилась.
— Вечно эта Маня Казаринова с сенсациями. Прочла в газетах какое-нибудь происшествие, и теперь этот театральный пафос.
— Сенсация? — вспыхнула Казаринова.— Ты просто дура… Гаршин — простая газетная сенсация?.. Боже мой, Гаршин… Он не мог жить… не мог…
Она опустилась на диванчик и сжала голову обеими руками.
Ариадна вскочила.
— Всеволод Гаршин! Это чудная душа…
Лида Зандрок молча отвернулась, чтобы не видели выражения ее лица. Среди тишины раздался уверенный голос Лизы Мартыновой:
— Это возмутительная вина общества! Гаршин больной человек, его надо было энергично, заботливо лечить, не оставлять одного… Отец всегда говорил, что у нас доктора-психиатры бывают небрежны и…
Ариадна закричала:
— Какие тут теперь рассуждения о докторах? Гаршин политически не мог жить… Вы же знаете его «Красный цветок»? И потом он ходил к Лорис-Меликову, заступался за политического преступника… Вы все читали ‘ его рассказы… он…
На нее зашикала Верховская:
— Допрыгаешься ты со своими рассуждениями!
— Да что я сказала?
— О Лорис-Меликове… о политике…— зашептала сердито Верховская.— Вон, видишь, прислушиваются, а тот лысый, распорядитель, кивнул на нас сторожу. Донесут Сабанееву, и нам запретят ходить в музей.
Я взглянул на Лизу Мартынову.
У нее было страдальческое лицо. Она тихо сказала:
— Это ужасно… Но сейчас ему хорошо…
Верховская поднялась.
— Пойти скорее, до занятий, к Аванцо, купить портрет Гаршина да зайти в книжный магазин Вольфа за его сочинениями, а то потом не достанешь, увидите, как на них поднимется спрос. И, знаете, теперь неловко будет не иметь ни портрета, ни рассказов.
Мы все переглянулись.
close_page
БЫТЬ ПЕРВОЙ
Распустилась обаятельно нежная петербургская весна; апрельский воздух томил; камни мостовой сияли, чистые, обновленные дождями. И весна уносила печаль о преждевременно ушедшем от нас Гаршине.
От весны пьянела и все больше и больше нервничала Казаринова. Ее настроение передавалось всей нашей компании.
Казаринова спрашивала меня:
— Вы, Рокотова, довольны своей судьбой? Так и будете здесь тащиться черепашьим шагом? Уж лучше бы пошли к Штиглицу.
Школа Штиглица была конкурентом нашей школы, но отличалась прикладным характером. У нас к ней относились с некоторым пренебрежением.
— От Штиглица отлично можно устроиться на фабрике, например: расписывать фарфоровую посуду.
В тоне голоса Казариновой я улавливала презрительные нотки. Я вспыхивала.
— Что же, честный ремесленник достоин всякого уважения,— заступалась Ариадна.
Я молчала. Я была моложе всех, застенчива, говорила плохо и стыдилась говорить. И мне было часто до слез обидно, что я не могу высказать своих мыслей.
Когда я была девочкой, отец водил меня по музеям, и я знакомилась с русским искусством по картинам старого академического направления, с его «классическими» темами: «Христос, воскрешающий дочь Иаира», «Чудо в Кане Галилейской», «Парис, вручающий яблоко одной из трех богинь» и т. д.
Одно время мне лезли в голову дурацкие мечты, что я непременно напишу замечательную картину: «1 ектор, привязанный к колеснице Ахилла».
И тут же пробуждалась мысль: добьюсь ли я вообще чего-нибудь? Не окажусь ли балластом? Имею ли право на жизнь?
Прозябать не хочу, а быть художницей… Смешно! Какой тут «Ахилл», когда сидишь на геометрических фигурах… Как жить, если тебя толкнула на дорогу, где ты чувствуешь свою полную беспомощность?
И сравнивала запросы окружающих девушек. Воз Ариадна — она ясна, понятна — хочет идти в народ, слиться с крестьянством, учить деревенских детей гpaмоте… Лида Зандрок молчит и обдумывает, где у нее больше дарования.— в рисовании, лепке или музыке. Казаринова мечется и громко, ио-бунтарски кричит:
— Если нет крупного таланта, иди на служение человечеству как врач, как учительница. как. наконец, акушерка, массажистка или простая сиделка! Еще вопрос, останусь ли я здесь, чтобы быть рядовой копинсткой или учительницей рисования. Если не увижу в себе исключительной силы. Ее буду паразитом, не буду пополнять ряды дам, занимающихся прикладным искусством,— буду изучать под руководством Петра Францевича врачебную гимнастику, буду выправлять всяких горбатых, кривых…
Лиза Мартынова слушала с насмешливой улыбкой.
— А вы небось, эстетка, критикуете? Красоты захотелось, а тут вдруг — горбатые и кривые,— окрысилась Казаринова.
Лиза высоко вскидывала голову и пожимала плечами.
— Нет, почему же… Всякий человек вправе выбирать себе дорогу и иметь свой вкус. Но, при всем желании, я не могу видеть удовольствия после торса Антикоя в горбе кобольда…
Голос звучал небрежно, с растяжечкой.
— А вы, Мартынова, вы нашли дорогу и верите, что будете крупным работником искусства?
Лиза рассмеялась.
— Работником? Покорно благодарю! Да я вовсе не хочу быть каким бы то ни было работником! Я ненавижу самое слово «работа», «работник». Я хочу царить, а не рабствовать.
— Царить? — засмеялась Казаринова.— Это вы серьезно?
— Совершенно серьезно. Где бы и в чем бы ни царить. но царить. Даже жить дома без всякого дела и быть первой, любимой. Жить в маленьком домике, где-нибудь вдали от столицы, и чтобы тебя окружали люди, которыми ты… как это выразиться… которыми ты управляешь, которые смотрят на тебя с… обожанием… И когда ты, например, задремлешь или… сделаешь только вид что устала и заснула, а сама тихонечко, сквозь ресницы, следишь, что делается вокруг, как в доме все ходят та цыпочкам и шепчутся, и тот. кто тебя больше всех любит, говорит: «Опа — все для меня».
Раздался взрыв хохота. Верховская вскочила и бросилась к лестнице; за нею фыркнула и понеслась Ариадна. Зандрок смотрела на Лизу исподдобья, внимательно и удивленно, обдумывая ее слова. Казаринова отрезала:
— Психология царицы безделья!
— Нет, поясе нет! — живо отзывалась Лиза.— Я люблю труд, но свободный труд, без принуждения, люблю побеждать псе, что не дается. И чем труднее, тем интереснее,— упрямо тряхнула она головой, щуря свои прекрасные глаза.
Лида Зандрок вставила тихим, глуховатым голосом, застенчиво глядя в сторону:
— Но всегда ли стоит преодолевать трудности?
— Всегда, если… если хочется,— уверенно отозвалась Лиза.
— Вон Рокотова не хочет преодолевать трудности тушевки, считая это скучным,— кивнула на меня Казаринова.
Я вспыхнула и промолчала.
— Мы ей советовали идти по прикладному, к Штиглицу,— сказала Зандрок.
Лиза засмеялась.
— Мило вы ей советовали! Вы мне приписываете психологию царицы безделья, а я хочу защищать прикладное искусство: тиснение по коже, выжигание по дереву, живопись на фарфоре, разные аппликации, художественные игрушки, вышивки, всякую этакую всячинку— и Штиглица, Штиглица! И не постыдилась бы идти первой в этой школе.
— Ну. честь вам и хвала,— насмешливо подхватила Казаринова. — Сделайте ширмочки для выставки дамских рукоделии, и пусть их нарасхват покупают титулованные барыни.
— Что ж, была бы рада сделать такие ширмочки, если под ними ждет кого-нибудь уют и… счастье и если… получу порядочные деньги…
— За работу? — насмешливо спросила Казаринова.
— За вдохновенный труд.
— Ого! Какие пышные слова: «вдохновенный труд»! — смеялась Казаринова.
— Ведь я сказала: «и порядочные деньги». Кончим на этом…
— Все сводится: везде быть первой,— не унималась Казаринова.
— Совершенно верно, везде быть первой…
close_page
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Показалась щеголеватая фигура Павла Александровича Брюллова, племянника Карла Павловича, с его красивым тонким лицом. Он шел впереди группы дам и показывал им музей. Мелькнула серебряная голова Григоровича. Слышался немного манерный голос Брюллова, обращающего внимание своих спутниц на пейзаж с морем и огнями в тумане. Они прошли, и в нашем уголке все стало тихо. У меня билось сердце. Мои подруги были такие сильные, сложившиеся, умные и красивые, а я чувствовала себя и беспомощнее и хуже всех. Но у меня было чувство чести, и я вдруг неожиданно заговорила, заговорила бессвязно, но искренне:
— Нет, я не стану корпеть над тушевкой геометрических фигур и… снимать ее клячкой… Она так глупо хлопает, эта клячка… И к Штиглицу не пойду. Когда я училась в новочеркасской гимназии, я была хуже всех… по рукоделью…
— Что же вы станете делать? — зевая, спросила Казаринова.— Писать роли?
Она знала, что я, когда отец был режиссером в Пскове, расписывала роли для театра и получала десять копеек за восемь страниц тетрадки, зарабатывая в тринадцать лет до рубля двадцати копеек в день.
— Нет! Нет!—прошептала я.—Я буду писательницей.
На меня уставились две пары удивленных глаз.
— Пи-са-тель-ницей?—повторила Лиза.— Но почему именно писательницей?
— Так я думала с детства. Я совсем маленькая сочиняла сказки, читать-писать не умела, а сочиняла. Помню, часто сочиняла о каком-то олене с золотыми копытами.
И вспомнилось, как плыли образы в темноте, все — сказочные герои и чудовища, а потом пошли трогательные истории в рукописном моем «Журнале от нечего делать» и непременно с трагическими концами. Наконец, в двенадцать лет дело дошло до исторического романа на тему «Петр и царевич Алексей» и — до стихов.
Я смотрела на Лиду Зандрок и думала:
«Ее чуткая душа должна быть близка душе Гаршина,— недаром она так его знает и любит,— и во имя Гаршина и чтобы заслужить дружбу этой славной девушки, я должна не лгать пером и писать только то, что передумала и перестрадала».
Лида сказала:
— Принесите и покажите, что вы пишете.
Утро до начала классов. Прихожу, дрожа от волнения, потому что тетрадка со сказками и стихами передана на суд товарищей. Это суд очень строгий. Сгоряча я решительно объявила Лиде Зандрок и Казариновой, что не буду жить, если у меня исчезнет надежда быть писательницей, так как художницей мне, очевидно, никогда не быть. Было решено, что они мне вынесут свои приговор, а кроме того, я обращусь к Я. П. Полонскому.
И вот я у заветной скрипучей лестницы музея. Стою и прислушиваюсь. Знакомые голоса. Громкий смех Ариадны заглушает глухой, тихий голос Лиды; Лиза Мартынова что-то мурлычет; над всем прорываются выкрики Верховской:
— А Весь ареопаг в сборе! Кого судите? Что понимаете?
И опять торопливое бормотанье Лиды и короткие резкие реплики Казариновой:
— Вера, молчи! Довольно паясничать! Тут дело о жизни и смерти.
Я слышу, как Ариадна читает мои стихи.
Весна прилетела в роскошном уборе, Природа в зеленое платье одета;
И реки, и небо, и солнце, и люди — Твердит все: «Простора! Простора и света!»
— Чего вам еще надо?
И опять пониженный горячий голос Лиды, но слов не разобрать… Верховская насмешливо цедит:
— Ах, скажите! Сафо, поэтесса, покончила с собою на острове Лесбосе… Вероятно, красиво покончила.
До меня донесся ленивый голос Лизы Мартыновой:
— Как жаль, что человек не может волшебством перенестись назад… в древнюю Элладу или Рим…
Я представляю, как пожимает плечами ее вечная оппонентка Казаринова:
— Почему вам так понадобилась Эллада и Рим? Ну, Эллада, я еще понимаю, а Рим ? Уж не в травле ли зверями христиан и не в пожарах ли Нерона вы видите очарование Рима? Только, пожалуйста, без банальностей о прелестях Эллады и Рима… Довольно мы наслушались о Фидии. Праксителе, Скопасе и о развалинах Колизея…
— Ну, что ж, и в смерти гладиаторов, и в борьбе со зверями на арене цирка была своя красота, и в грандиозности римского пожара… Это море огня… И жутко и красиво!
И опять резкий голос Казариновой:
— А по-моему, красиво, когда препарирована рука и на ней видна сеть сосудов… и четко — мускулы…
Спор разгорался. Я не решалась идти, боялась, что при мне они не будут свободно высказываться, и в то же время это похоже на подслушивание. Но у меня точно гири привешены к ногам. Я не шевелилась. До меня долетел звенящий, нервный смех Лизы; она передразнивала Лесгафта, как, слышала, его копировали ученики:
— Система, следовательно-с, здесь… и следователъно-с, здесь красив процесс распада… и черви, как проявление жизни в разложении материи… Круговорот природы…
Всплеск хохота и злой голос Казариновой:
— Да, да, и черви!
Но скоро она успокоилась.
Я решительно стала спускаться с лестницы.
— Жаль, что умер Гаршин,— встретила меня Казаринова, крепко пожимая мне руку.— Он бы сказал авторитетно, честно, беспристрастно и справедливо.
Лида кивнула головой. Ко мне подошла Лиза:
— Мы прочли вашу тетрадку, и мне кажется, что вам стоит работать…
Чтобы иметь, как мне казалось, более серьезный вид, я остригла свою большую толстую косу и пошла разыскивать карточку Полонского.
Но Полонский в то время не был популярен. Продавщица в лавочке канцелярских принадлежностей долго не понимала, чего я от нее хочу, и все подсовывала начавшего тогда свою карьеру актера Александринского театра Аполлонского, еще очень юного, необычайно красивого и имевшего множество поклонниц. И только после долгих поисков достала поэта Полонского.
Карточка была, к сожалению, засижена мухами. На ней — старик с прядкой жидких волос, падавшей на большой лоб через лысину, и дряхлыми, морщинистыми веками, прикрывавшими когда-то соколиный взгляд; мы хорошо знали его по молодому портрету.
Компания нашла, что у Полонского лицо мудреца.
Я пошла к Полонскому на Знаменскую улицу, поднялась по лестнице до четвертого этажа, застала поэта дома, но в последнюю минуту струхнула и сунула письмо со сказкой и стихами горничной, а сама постыдно бежала. У меня было предчувствие, что Полонский меня признает бездарностью, и я чувствовала себя приговоренной к смерти.
Казаринова говорила: в психологии отмечается, что ожидание — одно из самых неприятных ощущений. Я бы сказала невыносимых, и испытала я это как раз в те дни на себе.
Я ходила мрачнее тучи. Верховская предлагала верное лекарство:
— У меня есть бесплатные билеты в оперетку. Хотите, пойдем? Вот и не будет лезть в голову всякая чепуха.
Лиза пожала плечами.
— У вас, Вера, колодка башмака одна на все ноги. А я скажу другое: разве можно на мнении одного человека решать вопрос о своей судьбе? И разве человек сам — не лучший судья своего дарования?
Мы собрались домой. И вдруг в раздевальной мне подали трепетно жданное письмо Полонского.
Мягко и просто, как старший друг, поэт раскритиковал символику моей сказки «Человечность», зато стихи похвалил, говоря, что в них «лирический порыв», а в общем — советовал учиться, читать, не торопиться печататься и пророчил, что в конце концов я сделаюсь «настоящей писательницей».
Вся наша компания поздравляла меня; даже Лиза Мартынова сказала:
— Ну что ж? Мнение авторитета все-таки чего-нибудь да стоит.
Верховская по этому поводу предложила:
— Идем в кондитерскую. Я угощаю всех пирожным за здоровье поэта Полонского и во имя будущего Маргариты Рокотовой.
Вскоре расстроились наши «философские беседы» у фальконетовского амура.
Весной заболела Мария Казаринова брюшным тифом; она попала в больницу, а потом уехала к себе на родину, и больше я ее никогда не видела.
Верховская тоже исчезла с моего горизонта; кто-то сказал, что она вышла замуж за офицера.
Лиза Мартынова одно время вместе с Ариадной продолжала работать под руководством художника Максимова и чаровать окружающих. А потом и она куда-то пропала на долгие годы.
Иногда, впрочем, до меня доходили слухи о том, что она ездила на этюды на юг; говорили, что была она и за границей… На вернисажах знакомые встречали ее окруженной художниками…
close_page
ВСТРЕЧА У АНТИКВАРА
Сеяла мелкая снежная крупа, залепляя стеклянный потолок галереи Владимирского пассажа Александровского рынка, прозванного «Америкой». У выставленного на ящиках и лотках разноцветного тряпья: кусков материи, лент, чулок, перьев, батистовых цветов, кружев, меха, пуговиц толкались покупатели, больше женщины… Продавщицы перебегали от лотка к лотку, клялись, возмущались, кричали, зазывали, хватали за рукава и наполняли гамом сумеречную галерею. Из глубины лавочек выходили счастливые обладатели новых пальто, купленных здесь по удивительной дешевке; кое-где начинали мелькать тусклые огоньки, придававшие какую-то особенную, живописную таинственность этому своеобразному уголку столицы.
Я здесь бывала часто по тем же причинам, что и другие постоянные посетители Владимирского пассажа. Я к тому же, когда заводились лишние гроши, со страстью рылась в рухляди так называемых «антикваров», у которых были навалены старые пуговицы и медали, облупленные портреты, бронзовые барельефы, древние иконы, разрозненный старый фарфор. Иногда попадались интересные поделки из слоновой и моржовой кости, резьба по камню, старинные камеи, ювелирные изделия.
У меня был знакомый «антиквар» — татарин. Завелись кое-какие деньги, и я отправилась в так называемую «Америку».
Гесная лавочка татарина была полна покупателей: несколько молодых людей и дама, зябко кутавшаяся в беличью ротонду, перебирали старые картины и что-то искали, о чем-то спорили.
В тусклом свете я не могла рассмотреть их лиц, но до меня долетел нервный, звенящий смех дамы, и мне он показался странно знакомым.
Они что-то купили, расплатились и вышли. Мелькнул профиль под спущенной густой, шерстяной, «оренбургской» вуалью; прозвучал мужской голос:
— Не забудьте, Елизавета Михайловна, что завтра позируете.
И капризный ответ:
— Помню. Мне, знаете, это начинает надоедать…
Шумная галерея скрыла молодую компанию вместе с громоздкими рамами, купленными у татарина.
— Хорошо идет торговля?—спросила я.
— Да нет… приходил за рамами постоянный покупатель художник Браз… Слышали?
— Слышала, как же…
— Он с барышня мал-мала портрет делает. Сердитый барышня… капризный барышня… У-у, капризный… не дай бог такая жена! А тебе камея есть, хорошая, старая… недорого возьму… И ножик — слоновая кость… а ручка — ангел с крыльями… хороший ангел, хорош…
Я купила за гроши камею…
Вскоре мне пришлось услышать от В. М. Максимова отзыв о Лизе Мартыновой:
— Позирует. Браз пишет портрет. У меня почти не бывает. Зачем я ей! Товарищи по студии, студенты мои — по боку… Как же, окружена именитыми художниками… кокетничает с ними вовсю! До старых ли друзей?
— А сама работает?
Он развел руками.
— Вот уж этого не знаю.
close_page
ПОЖАР В АКАДЕМИИ
Прошло четыре года. Я работала над архивом скульптора П. К. Клодта, собирала материал всюду, где могла, и увлеклась, как никогда, изобразительным искусством. В один холодный зимний день я увидела из окна зарево пожара. Кто-то принес страшную весть:
— Академия художеств горит.
Я жила тогда на Петербургской стороне, недалеко от Тучкова моста. До академии не так далеко. Полетела на извозчике к Четвертой линии.
Толпа окружала дорогое сердцу здание, охваченное густой завесой дыма с взвивающимися языками пламени. Сквозь зловещий красноватый свет темным абрисом намечалась на куполе знакомая фигура Минервы с высоко уходящим в небо острием длинного копья. Столпившиеся вокруг зрители толковали:
— Отстоят ли пожарные?
— Рухнет Минерва… прогорит потолок…
— Эх, погибнут знаменитые копии Рафаэля!
— И знаменитое «Преображение» рафаэлевское — копия Брюллова — сгорит… Жалость какая!
Внимание всех было обращено на пожарных; на крыше в ярком пламени ослепительно блестели их каски. Они казались совсем маленькими; нечеловеческими усилиями старались они стащить с купола Минерву. Статуя качалась; ее копье странно чертило пламенный воздух. Кто-то из публики, видимо хорошо знающий академические дела, дал историческую справку.
— У нас в академии, кажется, не было пожара со времен Оленина, с самого тысяча восемьсот двадцать второго года, когда загорелось в натурном классе…
— Смотрите: Минерва подалась…
— Стащат!
— Как-то нелепо… купол без Минервы…
— Да ведь ее приделали к нему не так давно,— в восьмидесятых годах… с основания академии, как рассказывали старожилы, не было никакой Минервы. Лишняя она.
— Елизавета Михайловна, что же, красиво — пожар? Любуетесь?
Я вздрогнула и обернулась. При новой вспышке в толпе передо мной блеснули знакомые голубые глаза, полные ужаса, из которых струились слезы. Стройная фигура куталась в серый мышиный плащ с надвинутым на лоб капюшоном, и в этом капюшоне и плаще Лиза Мартынова казалась особенно маленькой и беспомощной.
Я хотела броситься к ней, но толпа ее оттерла от меня, и она исчезла.
— Берегись! Зашибу!
Что-то летело сверху, почти нам на голову, — Ух, сволокли Минерву!

close_page
«ДАМА В ГОЛУБОМ ПЛАТЬЕ»
Прошло еще три года. Случилось мне быть в Москве. Москва — с ее стариной, с кривыми и косыми улочками, с милым говором врастяжку, с колокольным звоном, сытным запахом черного хлеба и чуевских сухарей, с восторженными разговорами об Ермоловой и аханьями на «сверчков» Художественного театра; Москва — с ее узенькими извозчичьими санками, с которых вот-вот кувыркнешься прямо на рельсы конки; Москва — с ее сутолокой и беспрестанными распродажами закружила меня. С утра до ночи я носилась по музеям, театрам, редакциям, магазинам. И, конечно, прежде всего — в Третьяковскую галерею.
В одном из залов я увидела работы Браза. На одной, помеченной 1896 годом, значилось по каталогу: «Портрет Елизаветы Михайловны Мартыновой».
На меня смотрело чужое лицо, и я не поняла его. Для меня в нем не было ничего характерного, никакого психологического откровения, и вспомнилась капризная фраза у старьевщика-татарина во Владимирском пассаже: «Мне, знаете, это начинает надоедать…»
А после Браза был Сомов. После Браза я увидела то, что меня приковало к месту.
Каталог гласил: «Дама в голубом платье» (портрет Елизаветы Михайловны Мартыновой).
Я не могла отвести глаз от этого полотна. Передо мной была Лиза, но не та, которую я звала когда-то в рисовальной школе, может быть даже подурневшая, «полинявшая», но зато утратившая былую самоуверенность и сознание победительницы жизни. Здесь жизнь победила…
Что сделал художник с этим лицом, с этими когда-то сияющими торжеством глазами? Как сумел вытащить на свет глубоко запрятанную печаль и боль, горечь неудовлетворенности? Как сумел передать это нежное и вместе с тем болезненное выражение губ и глаз? И разве эта Лиза, утратившая свежесть юности, не была в тысячу раз прекраснее той юной, которая кружила головы молодежи? И почему художник писал портрет целых три года?
Грустный взгляд «Дамы в голубом» не давал ответа.
Я ушла из галереи потрясенная. Где же Лиза, жива ли, не затерялась ли где-нибудь в дальних углах России, не бродит ли за границей или, может быть, лежит на одном из кладбищ? И не писал ли ее, скорбную, художник незадолго до кончины?..
Я сразу ничего не могла узнать о судьбе сомовской модели.
ВЕЧЕР У АЛЬМЕДИНГЕНА
В эту зиму мне случилось быть на вечере у редактора — издателя детского журнала «Родник» А. Н. Аль- медингена.
Я не любила званых вечеров, но это, кажется, было какое-то особенное юбилейное торжество, я сотрудничала в журнале и потому решила пойти, заранее чувствуя, что буду смертельно скучать: состав приглашенных был разношерстный, и рядом с сотрудником прогрессивных изданий здесь можно было встретить и нововременского сотрудника и автора бульварных исторических романов «Родины» или комаровского «Света».
Я чувствовала себя одиноко в гостиной Альмедин- гена. Около меня сидел младший сын поэта Тютчева — офицер-пограничник, один из сотрудников «Нового времени», и что-то рассказывал мне из военной жизни; его разговор подхватил другой лихой вояка — полковник Елец, автор биографии героя двенадцатого года Кульнева, и я уж стала подумывать о том, нельзя ли мне как- нибудь незаметно улизнуть с вечера, как вдруг глаза мои встретили знакомую тонкую фигуру в оригинальном костюме «реформ» — сарафанчике из мягкого серого сукна с большим белым воротником и белыми рукавами. Платье ловко охватывало стройный стан, хороша была голова со светло-каштановыми волосами, небрежно, по-юному, спускались они косами на спину, а глаза, глаза были те, что у сомовской «Дамы в голубом платье». Лиза Мартынова!
Сразу стало интересно…
Вопросам не было конца с обеих сторон. Ну да, конечно. мы увидимся скоро; она придет ко мне, я приду к ней. Она живет уже не на прежней казенной квартире, квартирка тесная; отец умер, а брат женился и живет в казармах как военный врач. Он — Костя — все такой же рассеянный и неряха, все так же любит собак. Лай, визг — ужас. На всех креслах охотничьи собаки, но страшно милые, хотя отвратительно пахнут псиной. У Лизы дома бестолочь, как и прежде: мама слабая — какая она хозяйка; Милочка — невеста молоденького офицера, который ищет реверса, чтобы жениться. Вава — юнкер; бедняжка, очень слаб здоровьем… А она рисует ипишет масляными красками. Вон на стене — портрет Аль- медингена — ее произведение.
Портрет был посредственный. Но я так обрадовалась встрече с Лизой! У нее было болезненное выражение лица, и она слабо покашливала.
— Часто простужаюсь. Имела глупость поехать летом в киргизские степи на кумыс, хотя брат Костя меня отговаривал,— я слишком привыкла к влажному петербургскому климату. Так и вышло: сухая степь вызвала у меня катаральное состояние легких… вот и кашель… Но это пустяки, приходится только кутаться и беречься… Слышите: зовут ужинать. Мы сядем вместе. Только…— Она понизила голос и прошептала немного смущенно: — Если вас будут спрашивать обо мне, не говорите, что я старше вас… и… вообще… не говорите о летах… и не смейтесь над этой моей маленькой слабостью. Идем.
За ужином мы вспоминали старых друзей. Об Ариадне Лиза кое-что знала: она жила с мужем в Сибири и работала там не то в школе, не то в библиотеке. Казаринова и Верховская пропали с горизонта, а о Лиде Занд- рок я рассказала ей обыкновенную и, с моей точки зрения, грустную повесть.
Все мечтания этой одаренной девушки куда-то пропали, растаяли. Она стала женой и матерью трех детей, дальше своего гнезда никуда не заглядывая. Впрочем, дети были очень милы, квартира комфортабельная, но из- за границы, куда послан был муж Лиды, она вывезла изречения на немецком языке, и со всех стен смотрели золотые буквы на черном фоне, говорившие всем известные истины, что сильно портило квартиру.
— Жаль,— сказала Лиза, тряхнув головой,— жаль… Я бы так жить не могла. Я — перелетная птица. Люблю, как сумасшедшая, искусство и потом… люблю перемену впечатлений… разнообразие жизни… Ну, теперь будем часто видеться; у нас найдется, о чем поговорить!
close_page
ГОРЕ «ДАМЫ В ГОЛУБОМ ПЛАТЬЕ»
Мы виделись часто, много говорили и радовались тому, что нашли друг друга. Лиза бывала у меня, я бывала у нее, снова видела бестолковую, только теперь очень тесную и стесненную в материальном отношении жизнь; видела никчемных дворянских отпрысков — младших Мартыновых, доброе лицо матери, беспомощной и слабой среди этой рано осиротевшей семьи. Лиза мне показывала свои альбомы,— все симпатичные наброски, но ничего выдающегося.
Она часто заявляла, что любит жизнь; она много путешествовала и еще поедет… В путешествиях бывают интересные встречи. И в этом году предстоит восхитительное лето в Крыму… Она уедет ранней весной, чтобы застать миндаль в цвету…
На губах ее блуждала нежная улыбка.
— А приеду —- за труд, не за работу, а за труд и, если хотите, возьмусь за иллюстрации к вашим книжкам.
Мартовские сумерки. Резкий ветер с моря кидает в лицо острые иголки изморози. Весна приближается, но зима не хочет уступать ей место и злится, злится… Вся обледенелая, возвращаюсь к себе в низенький деревянный дом. Скорее, скорее горячего чая и согреться у печки голландки. Вхожу, слышу голоса. Низкий голос мужа с мягкими нотами. Кого-то утешает. И бессвязные фразы, отдельные слова, прерывающиеся сквозь рыдания:
— Нет… все это непоправимо… и так ужасно…
Лиза Мартынова! Маленькая, хрупкая, она вся съежилась и потерялась в мехе беличьей ротонды в углу большой тахты.
— Не угодно ли,— говорит муж,— не слушает никаких доводов, твердит свое и не хочет даже снять шубки. Закоченела вся, зуб на зуб не попадает, дрожит… Уговори ее хоть ты.
Я бросилась к Лизе. Она как-то странно взмахнула руками и упала ко мне на грудь с заглушенными рыданиями.
— Что с вами, Лиза, милая, что случилось?
Эта беспомощность так не вязалась с властной, самоуверенной Лизой.
Увела ее к себе в комнату, усадила на кушетку и, присев рядом, стала гладить маленькие худые руки.
— Что случилось? Может быть, все это не так ужасно, может быть, наконец, все можно исправить?..
— Исправить?—Новый взрыв рыданий; потом каким-то отчаянным жестом откинув назад растрепавшиеся волосы, она резко сказала: — Ну, хорошо, слушайте. Скажите, когда человек от тебя уходит и лжет, можно ли заставить его вернуться?
— Голубчик, так нельзя… Что ответить? Судить можно, только зная все.
— Пусть будет так… Костя… Константин Андреевич,— поправилась она,— сговорился провести со мной лето в Крыму… И я сегодня, сегодня пошла к нему узнать, сколько осталось времени… для сборов… и вдруг… мать его… мне говорит, что Костя через неделю едет на Кавказ…
— Кто это Константин Андреевич?
— Да Сомов же…— прошелестел ее голос.
Перед глазами моими встала «Дама в голубом платье», удивительно схваченный внутренний облик, эта хрупкость, эта теплота… Он знал ее всю, знал глубоко, он писал ее с любовью. И она, своевольная, капризная женщина, склонила свою непокорную голову, раскрыла сердце.
В ухо мне бился горячечный шепот:
— Ведь я верила… Я думала, это продолжение того счастья… когда он рисовал меня… Понимаете, как бы создавал заново… и все не кончал портрета, все был не доволен, писал три года… Я думала, вспыхнуло снова счастье. Он говорил, и я видела весну, цветы, море…
И мы в Крыму… Все разом рухнуло…
— Лиза,— твердила я,— но ведь вы же этого не слышали от него самого, вам сказала мать, может быть, она перепутала место поездки и не знает, что он сговаривался ехать с вами…
Она покачала головой, отчаянно повторяя:
— Нет, нет, я видела на столе приготовленную им для отправки открытку с точным адресом гостиницы, где он остановится. Я нашла в себе силы сказать матери: «Передайте, что я желаю Константину Андреевичу счастливой дороги на Кавказ… и что я… я слышала, будто он едет в Крым… пусть меня известит, куда же он в конце концов едет».
— Мать ему передаст?
— Непременно. Она очень точная, аккуратная.
— Что же, он должен вам сказать. Может быть, он решил ехать с вами не в Крым, а на Кавказ?
— Нет, нет! Мы много раз говорили, что поедем в Крым; он знал, что на Кавказ ехать я не хотела… Так мучительно было узнать, что тобой… пренебрегают… Я бродила до бессилия, пока не окоченела, и не знаю, как очутилась у вашего подъезда…
Путешествие по улицам Васильевского острова под мартовской изморозью не прошло даром: Лиза свалилась с воспалением легких.
Когда прошел кризис и ей стало легче, она захотела меня видеть.
Я застала ее в постели, всю в кружевах, тонущую в белоснежных подушках. Вокруг бледного, осунувшегося лица змеились локоны длинных светло-каштановых волос. Огромные глаза смотрели с мягкой грустью. В этом прелестном лице было много того, что запечатлел Сомов в «Даме в голубом платье». Она улыбнулась, кивнула мне и от этого движения закашлялась.
Вот видите… А вы скажите: нравлюсь ли я вам? Правда, похожа на Травиату? Только не в исполнении Кавальери, конечно… Но зрелище все же приятное…
Она вынула из-под подушки зеркальце и кокетливо в него посмотрела, потом шепотом сказала:
— А знаете… он уехал, не написав мне ни одной строчки… Я тоже скоро уезжаю, как только чуть-чуть поправлюсь, но не в Крым, а дальше… Доктора требуют серьезного лечения в заграничном санатории…
В хмурое зимнее утро в передней раздался звонок: я открыла и увидела худенькую пожилую женщину в глубоком трауре — мать Лизы.
Мы сели рядом на тахте, где еще совсем недавно сидела Лиза… На меня смотрят голубые, в мелких морщинках глаза, полные слез.
— Она как будто поправлялась. Но туберкулез — предательская болезнь. Ей вдруг стало нехорошо; она точно покатилась с горы в пропасть. И тогда,— губы матери дрогнули горькой усмешкой,— врачи заторопили наш отъезд. В санаториях не любят, когда умирают больные. Врачи твердили всякий вздор: что Лиза нервничает, что она тоскует по России, что в России она лучше поправится, а когда я говорила о суровом климате и опасности осенних дождей и туманов, называли мягкий климат Крыма. Но при одном слове «Крым» Лиза приходила в необычайное волнение и не хотела о нем слышать. Нас в конце концов просто выстаьили из санатория. Как я везла ее, бедную, угасающую, как только везла!.. По дороге домой, в Петербург, пришлось сделать остановку… Мы жили там очень недолго… Это была длительная агония… Я привезла ее тело в Петербург. Адрес ваш я потеряла, а потому не дала знать о похоронах. Но я знаю, что Лиза вас любила… что в последнее время,— и тут голос ее дрогнул,— вы были особенно близки ей. И я привезла вам ее карточку, снятую незадолго до смерти. Вот возьмите…
Она протянула мне карточку, с которой на меня смотрело лицо умирающей Лизы.
— Кто был на похоронах? —спросила я.
— Немногие родные, кое-кто из художников.— Она помолчала и докончила шепотом: — Константин Андреевич Сомов прислал большой венок из белых роз…
close_page
АРТИСТКИ
ПРОПАГАНДИСТКА ГЛИНКИ
Александра Александровна Сантаганно-Горчакова бывала у нас в дни моего детства и юности довольно часто.
Мне не пришлось знать ее в провинции и в таких больших городах, как Одесса и Киев, где ее закидывали цветами на оперных сценах, где молодежь выпрягала лошадей парного извозчика и везла ее на себе, утопающую в цветах; мои родители рассказывали мне о ее триумфах.
Помню ее небольшую фигуру, всегда в черном шелковом платье, с причесанными на пробор вьющимися черными, уже с проседью, волосами и увядшее лицо с выразительными огромными глазами. Было в этом лице с крупными губами и неправильным, укороченным носом что-то экзотическое, напоминающее типы мулаток, но было обаяние вечной, неугасимой молодости духа.
Она двигалась уверенно, говорила спокойно, в суждениях высказывалась твердо. С матерью она была на «ты».
Сидя на диване, близко-близко, они отдавались воспоминаниям, разглядывали альбомы со старыми фотографиями, улыбались и говорили без конца, радостно, порою перебивая друг друга и смеясь. Киев… Очевидно, обе они крепко любили этот город, или, вернее, любили свою молодость, которую в нем провели.
Когда Сантаганно-Горчакова ушла, мать, проводив ее в переднюю, вернулась и сказала мне: — У нас сейчас была замечательная женщина и большая артистка. Она с ума сводила публику своим пением.
И полились перечисления всех партий, которые Сантаганно пела в опере: и Наташа в «Русалке», и Антонида в «Жизни за царя», и Людмила в «Руслане», и Виолетта в «Травиате», и Розина в «Севильском цирюльнике».
Я поняла, что и голос у нее был обширного диапазона, но главное, чем она побеждала публику,— это необычайная экспрессия и драматический талант.
— Как хороша она была в Розине,— говорила мать,— сколько грации, сколько блеска! А в Наташе? До какого трагизма доходила она в сцене с князем, когда из груди ее вырывался полный отчаяния и горькой насмешки вопль сердца:
Вот видишь ли, князья не вольны
Жен себе по сердцу брать…
Должно им всегда расчету Волю сердца покорять.
А вольно ж им было клясться…
И какая безысходная, хватающая за сердце тоска была в ее песенке за сценой:
По камешкам, по желтому песочку…
— А голос у нее был очень хороший?
Легкая тень пробежала по лицу матери.
— Голос… он был настолько хорош, что она славилась как исполнительница партии Антониды, а прежде часто пробовали голоса певиц на обширность диапазона в трио:
И миром благим процветет…
Мать была настроена особенно мечтательно. Мы оставались в этот вечер с нею вдвоем; отец еще не скоро должен был вернуться из театра; сестре нездоровилось, она ушла раньше спать, и матери, видимо, хотелось рассказать о любимом друге лучших дней своей молодости.
— Мы познакомились в Киеве, когда она служила у Бергера, и тогда она мне все рассказала. Пройдут годы, и жизнь заметет ее следы, а жаль,— она стоит того, чтобы о ней вспомнить. Она была дочерью старого военного фон Ховена. За нею ухаживал крупный чиновник с состоянием — Горчаков, но Александре он не нравился, и она отказала ему, когда он сделал ей предложение. На ее несчастье, отец в это время тяжело заболел и, думая, что умирает, позвал к себе дочь и потребовал, чтобы она поклялась выйти замуж за Горчакова,— только тогда он может умереть спокойно. Александра привыкла, что воля отца — закон, а тут это была воля умирающего. Она поклялась, и скоро была устроена свадьба. Ее обвенчали с ненавистным ей человеком, а отец выздоровел и прожил еще несколько лет. Жить с мужем Александра Александровна не могла; она сознавала, что навеки несчастна.
Надо сказать, что у нее был изумительный, огромный голос, который бы в другом кругу составил богатство для девушки, но Ховены, по понятиям их круга, могли петь только в салонах, услаждая слух своих гостей; сцена и эстрада были для них закрыты как нечто унизительное для дворянского достоинства. Александра ушла от мужа. В своем несчастье она винила отца, потребовавшего этого брака.
Знатоки советовали ей посвятить себя пению; отец уже не препятствовал, понимая, что сломал ей жизнь. В конце концов было решено, что Александра поедет в Италию усовершенствовать голос.
За окном выл ветер и стучал заслонками в трубе.
Мать кивнула головой на окно:
— Был такой же унылый вечер, с изморозью и ветром, когда она, неопытная и одинокая, в сотый раз проверив скромную сумму денег, полученную от отца, с небольшим чемоданчиком отправилась в путь, через Вену в Италию.
— Но как она решилась на такой смелый, по тогдашним понятиям, шаг?
— Если бы ты вгляделась хорошенько в это лицо, со страстными глазами, то поняла бы, какой у нее был пылкий характер. Страсть к сцене развил в ней еще больше трагик Олдридж, приехавший в Россию на гастроли и пленивший своей игрой молоденькую Ховен. В конце концов он даже просил ее сделаться его женой.
Мать засмеялась.
— Рыбак рыбака видит издалека, и, наверное, пылкому негру Олдриджу показалась близкой как по облику, так и по внутренним артистическим качествам эта большеглазая смуглая девушка с ослепительной улыбкой, а голос ее пленил его. Но ее страшил брак с ним… Теперь, оставив мужа, Александра вспомнила советы трагика и отправилась в Италию.
— Воображаю, как она была счастлива в этой стране искусства!
— Она обещала написать о своем пребывании в Италии, и нам, русским, эти воспоминания особенно дороги,— из них мы узнаем, какие испытания приходилось выносить певцам и певицам, прежде чем они окончат «отделку» голоса. Она рассказывала мне, каких страшных затрат — и моральных сил и денег — стоили ей уроки у итальянских маэстро и через какие страдания прошла она. То был путь сплошных взяток. С ней в Италии жила молоденькая девушка, какая-то Паша, которая не хотела оставить ее на чужбине и живет с нею до сих пор преданным другом. В старое время многие известные актрисы и певицы имели таких преданных женщин, посвятивших им всю жизнь. Но Паша, экономившая каждый грош, чтобы дать возможность своей «диве» отшлифовать голос, не смогла удержать ее от краха; не хватило бы никаких сбережений, чтобы наполнить прожорливую пасть знаменитых маэстро. Эти маэстро давали в то же время возможность русской певице испробовать силы на итальянских сценах, но как только она затруднялась заплатить за рекомендацию чудовищную сумму, назначенную открыто, без стеснения, двери театров перед нею немедленно закрывались. Голод и нищета в чужой стране подкрались незаметно. Но моя Александра Александровна выносила все мужественно: продав свои ценности до последней булавки, она продолжала идти намеченной дорогой. И пела в Риме, в Милане, в других итальянских городах, вызывая восторги экспансивных итальянцев особенно присущим ей высоким драматизмом исполнения. Вернулась она в Россию уже законченной артисткой.
— Вот тогда ты и узнала ее?
— Не сразу. Когда мы познакомились, она уже заслужила известность и в России. В Киеве ее носили на руках. Но, что всего замечательнее, эта большая артистка сама обрубила сук, на котором сидела.
Я смотрела на мать недоумевая.
— Если бы ты могла перенестись в Киев и взглянуть на эту веселую, пылкую и прелестную женщину, всегда полную всяких затей, с серебряным, рассыпчатым смехом!.. Это была душа общества, и где бы она ни появлялась, за нею неслись смех и радостные крики. На празднике — первая, на работе — первая, и там, где надо открыть сердце для доброго дела,— тоже первая. Об этом знали киевские товарищи, об этом знали киевские студенты.
Она пододвинула ко мне карточку испанки в нарядном кружевном костюме. Кокетливая, улыбающаяся Розина из «Севильского цирюльника».
— Но при веселье и кажущемся легкомыслии она была сильная, очень сильная женщина. Раз после какого-то ужина в ресторане веселая компания восхищалась ее пением, остроумием, красотой. Не смейся: именно красотой. Это как будто по чертам некрасивое лицо находили благодаря его выражению прекрасным. Оно постоянно менялось: то все сияло задорной безудержной улыбкой, то дышало негодованием, то в нем была восточная лень и нега… И при этом, представь, глубокие, идущие от сердца звуки мягкого голоса… Пирушка была в полном разгаре, рояль раскрыт; ее просили петь, и вдруг она резко захлопнула ноты и вся точно погасла, побледнела, стала серьезна и молчалива. Я спросила ее, что с нею. Обещала сказать потом, завтра. Я так хорошо помню этот вечер. Настроение Сантаганно передалось всем: разом исчез праздник, стало скучно, и мы разъехались.
— Что же случилось?
— Утром Александра Александровна зашла ко мне и сказала: «Куропаточка,— она так меня всегда смешно называла за мой маленький рост и мелкие шаги в походке, ты знаешь, я решила бросить сцену». Я не поверила: «Зачем? Ты недовольна условиями? Тебе надоел Киев?» Она покачала головой. «Мне ничто не на доело, и я по-прежнему страстно люблю искусство». Она подперла голову обеими руками и, глядя большими глазами в одну точку, как будто там что-то читала, медленно заговорила: «Боюсь, что тебе это будет непонятно. Я хочу уйти в полном блеске,— она указала в окно,— как там, когда оно садится… Что может быть печальнее и ничтожнее, когда артист уходит со сцены потому, что у него нет сил… Случалось ли тебе присутствовать при последних спектаклях знаменитости, которую щадит публика? Певец выходит. Его встречают шумные аплодисменты. Он поет, а за оркестром его не слышно; он поет фистулой и на высоких нотах поднимается на цыпочки. Вы не узнаете этого голоса, когда-то такого прекрасного; но жалостливая, милосердная и благодарная за прошлое публика награждает его аплодисментами; к его ногам летят цветы… Что здесь действует еще, кроме милосердия и благодарности? Массовый гипноз, гипноз имени. «Фора! Фора!» И вдруг один свисток, свисток — дерзкий, пронзительный, достигающий до самого сердца, буравящий мозг… Вот он, наконец, смертельный приговор… Один человек из всей публики не поддался гипнозу, но этого довольно,— он принес певцу приговор. Я не могу пережить этого ужаса, я хочу сама себе выбрать конечный путь. Никто не заметил еще, но я сама заметила начало разрушения. Это будет еще не так скоро… Я внимательно стану следить, чтобы разные предательские «до» и «до-диез» звучали у меня чисто, и как только замечу, что приблизилась к краю обрыва, удержусь и отойду».
— Какая оригинальная женщина! — вырвалось у меня.
— Какая сильная к тому же женщина! Она тут же и сказала, видя, как во мне одновременно бурлили чувства восхищения и негодования: «Тебе нечего возмущаться. Я же говорю, что это будет не сию минуту. Ты думаешь, я уйду на покой? Нет, это будет совсем другое… Нынче ночью я не могла спать и подсчитала все свои сбережения, все полученные подарки. Набралось немало, спасибо публике. Я обращу все свои брильянты в деньги, продам все золотые вещи, опять заберу свою Пашу и марш в Италию!»
— Чтобы под влиянием мягкого итальянского климата улучшить и как можно дольше сохранить голос?
Мать засмеялась.
— Какое детское представление о всемогуществе Италии! Нет, она уехала для того, чтобы там пpoпагандировать русскую музыку и, в частности, Глинку. Ведь теперь за границей еще имеют кой-какое представление о нашем Чайковском, о Римском-Корсакове, о Глинке, но тогда для Европы, а тем более для Италии русские певцы должны были черпать свое искусство только из иностранных сокровищниц, особенно Италия считала себя на недосягаемой высоте. И вот моя Сан- таганночка с неподражаемой манерой выступает в миланском «La Scala», распродав все свои драгоценности, организует оперную труппу, знакомит итальянцев с «Жизнью за царя» и показывает, что в России есть что слушать и на что смотреть. Это было великой ее заслугой. Когда средства стали подходить к концу, она уехала, завоевав в этой стране, колыбели искусств, прочное положение нашему великому русскому композитору.
— И, вернувшись в Россию, она уже не вернулась на сцену?
— Нет. Изредка выступала в концертах, в случайных сборных спектаклях, но в опере уже не пела. Она променяла пение на педагогическую деятельность и теперь считается одной из лучших преподавательниц. Кроме того, она написала либретто к «Кармен».
После этого разговора я смотрела на Александру Александровну с особенным интересом и симпатией. Драма ее жизни была раскрыта передо мной.
Мне хотелось поймать в ней хоть когда-нибудь черточку зависти. Она живо интересовалась восходящими звездами русской и иностранной оперы и всегда беспристрастно верно давала им оценку. Пылко относилась она к своему делу, гордилась учениками и ученицами, терпеливо работала с ними по методу, изученному ею в Италии.
Впоследствии она была одно время учительницей пения Л. В. Собинова.
Когда у нас к ней приставали, прося что-нибудь спеть, она в конце концов соглашалась и пела арии и романсы из старого репертуара; голоса уже не было, но фразировка осталась удивительная.
Тогда, готовясь к экзамену экстерном за гимназию, я искала параллельно работы, и Александра Александровна давала мне переписывать свои оперетки. Не знаю, где они шли, но либретто Горчаковой к «Кармен» много лет держалось на сцене.
Потом она была замужем за каким-то чиновником, жила в последние годы в Гатчине.
После смерти моей матери в ее вещах остались неоконченные записки Сантаганно-Горчаковой, которые та дала ей когда-то для просмотра. Там была история юности Александры Александровны и ее жизни в Италии.
close_page
САВИНА
Был жаркий летний день 1891 года. Гатчинский дворцовый парк. «Приорат» казался особенно ярко- зеленым после дождя. Я остановилась у пруда, любуясь лебедями. Одни плыли с важно выгнутыми шеями и, опуская клювы в воду, вылавливали брошенные мною крошки; другие, вдали, распустив крылья, неслись по зеркалу пруда, задевая перьями воду, и под их крыльями она сверкала всеми цветами радуги.
Я шла к Александре Александровне сказать ей, что мать нездорова и не может сегодня к ней прийти, как обещала.
Мы жили в это лето в Гатчине на даче, главным образом чтобы быть ближе к Горчаковой, с которой мать в последнее время снова особенно сблизилась. В этот день Александра Александровна устраивала у себя завтрак, на который к ней обещал приехать кто-то из петербургских друзей.
Мне не хотелось идти к Александре Александровне. Я стеснилась встретить у нее незнакомых гостей, оттого и тянуло меня к кормлению лебедей в «Приорате». И пришла, когда Сантаганно-Горчакова уже сидела за завтраком на просторной террасе, обвитой диким виноградом. Издалека слышались оживленные голоса, старческий— мужа, приятный, мягкий — Александры Александровны и еще чей-то очень знакомый, своеобразный, с капризным говорком слегка в нос.
Я остановилась в смущении у ступенек террасы, оглядывая себя… Мне казалось, что я буду пятном: нехороши туфли, нехорошо платье из серенькой холстинки и нелепа эта серая шляпа с глупыми топорщившимися ромашками.
Здесь же все так изысканно-изящно. И в сущности ничего особенного — все просто, но главная прелесть во вкусе, в живописности, в гармонии. Дачная шведская мебель, такая изящная в этом полдневном освещении, вся в золотых солнечных бликах, пробивающихся сквозь изумрудную листву винограда, ослепительной белизны стол, на котором блестит хрусталь и серебро, рубинами всех оттенков переливается в стаканах красное вино, и манит крупная земляника «виктория» в низкой хрустальной вазе. И такие нарядные фигуры за столом: сама Александра Александровна, помолодевшая, со своим оригинальным смуглым лицом в рамке серебряных волос, вся в белом. И та, другая, от голоса которой у меня сильнее забилось сердце, тоже вся в белом, в легкой индийской кисее, простая и элегантная, что бросается в глаза при первом на нее взгляде. Сколько раз, видя ее на сцене Александрийского театра, я не могла отвести от нее глаз, ловя каждое движение, каждое слово. И вдруг она здесь, передо мной…
На меня смотрели со снисходительной улыбкой все сидящие за столом. Они, конечно, поняли мое смущение. Александра Александровна, со свойственной ей милой манерой, постаралась сейчас же вывести меня из неловкого положения.
— А! — сказала она, издали кивая мне головой.— Вот и наш сорванец! Прошу любить и жаловать, Марья Гавриловна! Это дочь моей Аглаи Николаевны и Владимира Дмитриевича Рокотовых. Когда-то ты играла «Сорванца», а тут у нас свой, в жизни.
Но от этих слов я еще больше смутилась. С кем она меня сравнивает! С Савиной, которую я в первый раз видела в этой роли!
Ко мне протянулась красивая рука в кольцах.
— Ну, так здравствуйте, тезка сорванец.
А Александра Александровна добавила, добродушно улыбаясь полными губами:
— Ну, ну, поближе… Знаешь, Марья Гавриловна, она твоя самая горячая поклонница. Во всех ролях тебя пересмотрела.
— Поклонница?—протянула Савина.— Что же вам во мне нравится?
Я вспыхнула.
— Ах, все, все!
Савина засмеялась.
— И даже голос? — протянула она снова капризнонасмешливо.
— И голос! — восторженно отозвалась я
Она пожала плечами.
— Могу сказать, что у вас плохой вкус.
— А где же мама?—спросила Горчакова.— Нездорова? Как жалко! Но ничего, надеюсь, серьезного? В таком случае садись на ее место ты. Знаешь, Марья Гавриловна, она ведь в Киеве почти на моих руках родилась. А жаль, что мама не пришла,— мы собирались составить партию в винт. Придется тебе, Паша, сесть с нами четвертой. А пока поухаживай за гостьей, положи ей всего побольше.
И Паша, тоже светлая и нарядная для этого праздничного дня, захлопотала у моего прибора, а Марья Гавриловна, улыбаясь, пододвигала мне тарелку с земляникой.
Она промелькнула передо мной в тот летний день как светлое виденье, и, когда я сказала, что мне все в ней нравится, я не солгала. Я смотрела ее во всех ролях, в которых она радовала петербуржцев, начиная от «Сорванца», «Трактирщицы» и «Девичьего переполоха» и кончая «Рабочей слободкой», «Симфонией», «Родиной» и, наконец, потом уже, значительно позднее, «Холопами», и всюду она приводила меня в восторг. Я смотрела ее по нескольку раз и каждый раз улавливала что-то новое в нюансах игры.
Я восхищалась и Комиссаржевской и Стрепетовой, несмотря на то, что в то время публика разделялась на два лагеря: поклонниц Стрепетовой и Савиной,— я восторгалась обеими. На меня не действовали и ходившие по городу слухи о том, что Савина сживает со сцены всех даровитых актрис,— я не переставала глубоко любить этот большой талант. И недаром у меня в памяти сохранилась более пятидесяти лет ее фраза:
— Что же вам во мне нравится? И даже голос?
Этим она сказала, что знает свои недостатки.
Она была не только даровитая, но и необычайно умная артистка. Савина была и образцом хорошего вкуса: в Петербурге, помню, светские дамы специально ходили смотреть, как одевается Савина. Она говорила своим ученицам:
— Никогда не следует одеваться экстравагантно, ловя последний крик моды. Лучше немного отстать, чем перегнать. Это будет лучший тон.
О ней говорили много дурного, говорили об интригах, которые она раскинула будто бы сетью на сцене. Люди, чернившие Савину, не знали ее исстрадавшегося сердца… Много лет спустя случай свел меня с ее дублершей Ильинской, соперницей, за мужа которой, Молчанова, Савина вышла замуж.
Я встретилась с Ильинской в зале гимназии Шаффе. на гимназическом вечере. Она захотела познакомиться со мной, обратив внимание на декламацию моей дочери, тогда еще гимназистки.
— Металл в голосе… учиться надо… и я с удовольствием занялась бы с нею… ведь, говорят, она мечтает о спене.
Она ею и занялась очень скоро и была так внимательна, так добра к ней, что. когда дочь моя прихворнула и не пришла на урок, Ильинская приехала к ней сама, несмотря на дальнее расстояние и ужасную погоду. За свои уроки она ни за что не хотела брать денег.
И. несмотря на всю симпатию мою к этой милой, обаятельной женщине, у меня не поколебалось восхищение Савиной.
Как много надо знать, чтобы судить»,— думала я и вспоминала рассказы об отзывчивости Савиной, об отношении ее к ученицам, полном внимания и заботливости.
Я знала, как она помогала Кузьминой, как она делала театральное приданое своим ученицам.
До Молчанова Савина была за красавцем офицером гвардии — Никитой Всеволожским.
Художник В. М. Максимов рассказывал мне о нем приблизительно следующее:
— Я был учителем рисования у этого Никиты, когда он был еще мальчиком. Ленивый и наглый, он уже и тогда подавал «блестящие надежды». Помню такую картину. Вечер у его родителей: ужин, а после ужина — недопитые рюмки и стаканы. Их много за длинным столом… И когда столовая пустеет, а сонная прислуга еще не явилась прибирать, из-за портьеры показывается фигура подростка, на цыпочках подкрадывается к с голу, оглядываясь воровато во все стороны, и быстро, с жадностью начинает опустошать содержимое рюмок и стаканов, не брезгая опивками… Я увидел это случайно и, поймав мальчика на месте преступления, стал стыдить. Он замахал на меня руками: «Молчите, не выдавайте!» Я угадал его будущее, когда задумал на эту тему картину… Я написал к ней этюды… Сюжет примечательный и психологический: будущий кутила.
Максимов угадал судьбу Никиты Всеволожского: он был яростным прожигателем жизни, бросавшим деньги на цыган, на кутежи в шикарных ресторанах, на кокоток, на карты… И Никита Всеволожский очутился в таком положении, что ему оставалось или пустить пулю в лоб, или отдать карточный долг, а заплатить было нечем.
На несчастье Савиной, тогда уже прославленной артистки, он покорил ее сердце своей редкой красотой. У нее были роскошные брильянты — подношения публики. Она, не задумываясь, продала их, заказав предварительно поддельные по их рисунку, чтобы обмануть как близких людей, так и публику, а деньги отдала прокутившемуся офицеру.
Всеволожский женился на Марье Гавриловне, хотя жениться на актрисе считалось мезальянсом для гвардейца; ему. кажется, даже пришлось выйти в отставку, так как Марью Гавриловну могли не принять в его кругу. Женился и устроил из жизни Савиной ад…
Все это отец и мать знали не только из рассказов Сантаганно-Горчаковой, но и от самой Марьи Гавриловны…
В последний раз я встретила Савину в Харькове мельком в конце августа 1915 года, незадолго до ее смерти. Она была там проездом, чтобы взглянуть, как работают ее ученицы в труппе Н. Н. Синельникова; среди них была и моя дочь.
В это время у режиссера А. П. Петровского умер отец, и вся труппа ходила провожать его на кладбище. Была ранняя осень, выдался холодный дождливый день. Дочь рассказывала, что Савина провожала гроб до могилы и стояла возле нее до самого конца. На ней были тонкие прюнелевые туфли, и она очень зябла.— может быть, чувствовала себя уже нездоровой, простудившись в дороге. Через неделю телеграф принес изве
стие о ее смерти…
Вероятно, о кончине прекрасной артистки, кроме публики, пожалели многие из ее учениц и учеников, пожалели и обитатели убежища ветеранов сцены, о которых она заботилась, и малыши, находившиеся в отделении малолетних, которых она всегда очень баловала. Ее приезд в убежище был праздником для всех его обитателей. Не
даром же ее и похоронили под кровом убежища.
Мне хочется здесь еще рассказать о последнем свидании моей матери с Марьей Гавриловной.
Это было уже после смерти моего отца. У него была другая семья, было двое маленьких детей. Мать моя
хотела для этих детей получить за отца пенсию. Она поехала хлопотать об этом через Савину.
Отец в Александрийском театре прослужил двенадцать лет. По закону, для пенсии этого оказалось мало. Вместо пенсии было выдано жалованье за год.
Впрочем. Савана, чтобы поправить дело, при помощи своего мужа Молчанова определила детей в убежище.
В разговоре с матерью она вспомнила прошлое,
часы, проводимые у общего друга А. А. Сантаганно- Горчаковои и разговорилась:
— Говорят, немало слез проливалось из-за меня на сцене и в жизни. А кто думал, что я слезы утирала? Ну, что ж, надо было делать добро, не думая о честолюбии… Но человек ведь редко делает добро, не думая об искусстве акробатики: как бы отличиться от других. Широкая помощь без мыслей об эффектной позе редко кому удается; люди обыкновенно становятся в позу. А жизнь до ужаса или до горького смеха проста. Шесть ступеней я прошла: ребенком, обиженным и робким, девушкой — с первой любовью и первыми грезами о творчестве; несчастной женой с задавленной мечтой об истинном искусстве; на вершине славы — безумие любви к человеку без сердца, потом одинокая жизнь звезды, которую признавали, но не любили, и которую не грел собственный блеск и маленькие отступления в погоне за лаской тоскующего, утомленного и не верящего ни во что сердце. И, наконец, настанет покой достижения и довольства земными благами, без проблеска любви, без надежды, без желаний, с одним стремлением — закатиться в ореоле славы почета,— но, боже, какой холод одиночества!
Мать вспоминала, что когда Савина это говорила, на глазах ее были слезы. Она закончила тихо, почти шепотом:
— Я любила многих, но получала удары, и это меня приучило к осмотрительности. От ран юности остались рубцы на всю жизнь. Приходится смотреть на многих— как на пешек, а на себя — как на фигуру…
КОЛЕСО ЖИЗНИ
Савина и Кузьмина были ровесницами или почти ровесницами. Вся семья Кузьминых — театральная: отец — известный комик Александринского театра времен Каратыгина — Алексеев, оставивший записки. Сестры тоже пошли по сценической дороге: одна, Матро- зова, известна как хорошая провинциальная актриса, а другая, младшая, Мария Александровна, была режиссером провинциальных театров.
Но Кузьминой не повезло. И у нее не было ни большого ума, ни образования, была она воспитанницей императорского театрального училища.
Она много рассказывала нам о нравах театрального училища. Они любопытны, и многое станет понятно при оценке того или иного явления в театральном мире прошлого, когда знакомишься с ними.
Могу судить, более или менее, только о женском отделении этого училища. Принимали туда девочек совсем маленьких, лет шести, по «подведомственности»,— детей актеров, актрис и всяких служащих в ведомстве императорских театров, вплоть до сторожей и швейцаров. Экзамен на пригодность был таков: заставят пробежаться девочку по залу, а комиссия смотрит, правилен ли и легок ли бег. Если замечена неуклюжесть или кривизна, экзаменующаяся забраковывается.
В театральной школе учили наукам очень мало; история, например, сводилась почти исключительно к мифологии античного мира, так как атрибуты к истории древних богов часто фигурировали в балетах.
Кончали курс девушки совершенно невежественными, но весьма компетентными в некоторых сторонах жизни. Они в совершенстве знали моды, марки заграничных духов и кремов; марки как русских, так и иностранных вин; мечтали о ресторанах «Кюба» и «Медведь», чудесно разбирались в формах гвардейских полков, в чинах и орденах, знали, какая сумма нужна для «прожиточного минимума», чтобы жить в столице «прилично», имея свой выезд, ездить к Ментону и получать головокружительные удовольствия в Париже. Все это они постигали твердо на двенадцать баллов к моменту окончания курса.
Интересен был этот момент окончания курса. К нему готовились девочки несколько лет подряд. Их еще маленькими брали на спектакли балета и оперы, где они изображали пастушков и пастушек, амуров и гениев, жучков, мотыльков и стрекоз, чертенят и всякую малолетнюю нечисть, роли детей-статистов в уличной толпе. Хорошенькие девочки переходили в театре с рук на руки и слушали посулы успехов на сцене и в жизни среди будущих поклонников из «света». Возвращаясь в училище, они, возбужденные за кулисами, получали обильный полночный ужин, причем на этом ужине часто присутствовали представители знатных фамилий из золотой молодежи и великие князья. Девочек подпаивали дорогим вином; им дарили дорогие духи и конфеты; великие князья тут же дурачились и выскакивали из-за стола, изображали всевозможные па:
— Вот вам «батман»!
— Хорошо я делаю «антраша»? Заказывайте еще!
— «Па де де!» — кричали, хлопая в ладоши, девочки.
Воспитанницы театральной школы твердо усвоили, что те, кто не имел частицы «де» и «фон» при иностранных фамилиях и у кого в гербе не было княжеской или графской короны — люди второго сорта. Красивые девушки метили на «покровителя» из великих князей.
Живя в училище, школьницы мало знали дом и родных. Когда в приемные дни приходили их навещать матери в скромных косыночках и заштопанных платьях, они подавляли в себе остатки естественной родственной любви; косились на их убогие гостинцы, помня, какие роскошные подарки дарят им добрые и красивые молодые люди и пожилые «дяди» ночью, после спектакля. «Косыночки» из кожи вон лезли, чтобы угодить сколько-нибудь хоть лакомством привередливым дочкам.
А в будние дни воспитание было жесткое. Холод в дортуарах и классах; форменное платье, сшитое для всех на одну мерку; скудная пища; грубое обращение. Старшим классам давалось право держать в подчинении младшие; эти старшие были беспощадны: они издевались, жестоко «цукали» маленьких и делали их своими служанками.
Выпускали к семнадцати годам совершенно «отшлифованную», знающую себе цену девицу в кордебалет на жалованье пятьдесят рублей в месяц. Из этих пятидесяти рублей нужно было еще делать себе балетные туфли, давать одевальщице на чай и. кажется, иметь свое трико. Возвращаясь в лоно семьи, часто к бедным труженикам, девица сразу падала с неба на землю и проклинала день и час своего рождения.
Немногие, с выдающимся драматическим талантом, как Левкеева и Кузьмина, пошли в драму; для большей же части естественной дорогой был балет.
И тут происходили часто большие ошибки. Так, на знаменитую Преображенскую, некрасивую собой, в свое время в школе положили штамп негодности, а впоследствии она заняла положение прима-балерины.
close_page
Характерную картину представлял собою школьный муравейник накануне выпуска. Все эти девушки заранее умоляли родителей сделать им «шикарное» белое платье, в котором они бы могли упорхнуть из своей клетки, и просили, чтобы за ними приехали «как можно приличнее», то есть в карете.
Даже дочь Кузьминой Нина, которую мать боготворила, неглупая и сердечная девушка, не выдержала тлетворного влияния школы и робко просила мать о «шикарном» выпускном платье и, конечно, о… карете, нанятой напрокат. Впрочем, она сейчас же взяла просьбу о карете обратно, как только увидела у матери жалкий испуг в глазах, но платье ей было сделано,— помогла Марья Гавриловна Савина.
Как только она узнала о предстоящем выпуске Нины, она призвала к себе Надежду Александровну и сказала:
— Вот что, Надюра, я сделаю твоей Нине необходимый гардероб,— ты об этом не беспокойся. Давай потолкуем, что ей нужно.
А нужно было все, от чулок и туфель до рубашки, пальто и шляпы. Кузьмина никогда не умела даже сносно устраиваться, и Нина много лет спустя, уже будучи пожилой, вспоминала, как они с матерью делили поровну к чаю один копеечный розанчик и как ей было стыдно, когда в детстве, проголодавшись, она раз отломила от материнской порции половину.
Нина стала честно зарабатывать свой хлеб в кордебалете и уроками танцев. Но многие из воспитанниц театрального училища поступили иначе. Балерина Трефилова, очень хорошенькая и способная, сделала «блестящую» карьеру: за нею в школу приехала карета великого князя, одного из Владимировичей, и увезла в роскошно обставленную квартиру.
Числова была выбрана заранее, в последнем классе, великим князем Николаем Николаевичем. Сильного характера, расчетливая, Числова вертела великим князем, как хотела, и, чтобы чего-нибудь добиться у Николая Николаевича, нужно было» «задобрить» Числову.
Его шталмейстер выбрал себе одноклассницу Числовой Е. А. Андрееву, но женился на ней. Она ненавидела школу, из которой вышла, и, прямая, резкая, называла ее «узаконенным заведением для подготовки девиц в великосветский публичный дом». Она говорила с отвращением:
— Если бы моя воля, я бы срыла эту школу до основания.
Савина протянула руку помощи Кузьминой и вытащила ее на александрийскую сцену, когда Надежда Александровна совсем погибала.
У меня случайно сохранилось письмо Кузьминой к матери: правда, оно без даты, но как будто относится к девяносто первому году. Письмо наполнено жалобами на тяжелую жизнь, заботами о Нине. Уехав в Москву на заработки, она поручила моей матери навещать ее в училище. Стоит привести из него маленькие выдержки:
«Спасибо, что навестили моего чижика. Вот беда… ей нужны калоши, иначе ей домой нельзя на праздник… Я же, бедная, за три месяца заработала 100 рублей. Живу так экономно, потому приходится и к спектаклям то платочек, то перчатки… да сделала платье черное шелковое за 55 рублей в кредит, без (него) мои роли немыслимы».
Вот в такое-то мучительное время Савина устроила Надежду Александровну на петербургскую казенную сцену. Кузьмина играла там уже старух.
Несколько раз мне приходилось видеть ее в ролях старых ключниц в Островском и в современных пьесах тогдашнего репертуара. И мне, так любившей прежде эту актрису, теперь было жалко на нее смотреть: передо мною двигалась все еще молодая, изящно-стройная фигура, в нарочитом старушечьем гриме, в чепце или повойнике, с нарочитой интонацией и нарочитыми движениями, с молодым, нежным и мелодичным голосом Офелии и Луизы.
Она «старалась», и ничего из этого не выходило. Не знаю, слишком ли рано переменила она амплуа или ее дарование было так узко, что она должна была закончить на молодой героине,— бог весть, но в Александринский театр ее согласились взять только на роли старух.
Савина в это время еще и не думала бросать героический репертуар, а они, повторяю, были или ровесницы, или почти ровесницы.
Савина сама, незадолго до конца жизни, перешла на роли пожилых и блестяще сыграла в «Холопах» княгиню, говорят, для нее написанную.
Кузьмина умерла рано, в безвестности и бедности, умерла, забытая публикой, от грудной жабы и была похоронена в Петербурге на Митрофаньеэском кладбище. Только фойе харьковского синельниковского театра сохранило громадный ее портрет, изображающий ее в лучшую пору жизни, когда Владимир Иванович Немирович-Данченко посвятил ей свою пьесу «Шиповник».
В последние годы жизни Кузьмина любила погружаться в воспоминания, часто ездила в убежища ветеранов сцены и рассказывала о грустных встречах.
— Ты знаешь,— говорила она мне,— твой кумир ИваноВ’Козельский в убежище. За ним ухаживает преданная ему девушка, бывшая гимназистка, поклонница…
— Он очень плох,— вздыхала Кузьмина и выразительно показывала на лоб,— все это последствия его привычки… Нельзя было так много пить. Он бросил сцену как-то странно, уйдя внезапно, среди действия, из театра… А раньше сколько раз являлся, не в силах произнести связно двух фраз… Это было где-то там, на юге…
Мне стало грустно, даже больно слушать, и невольно вырвалось:
— Такой талант!
— Да, голубчик, кто же из нас не знает, каков у него был талант? А теперь — конец. К нему ездят, привозят гостинцы, как маленькому… Он очень любит варенье. Я купила у Бликгена и Робинзона и свезла баночку. Он меня узнал сразу и улыбнулся, а на варенье жадно накинулся.
— Козельский никогда не вспоминает о сцене?
— Как же, как же! Иногда требует свой сундук, в котором у него хранятся грим, парики, роли, даже кои-ка- кие костюмы. Сядет у зеркала и долго возится с пуховкой и заячьей лапкой, часами себя рассматривает, а потом вспомнит роль и начнет говорить…
— Как прежде?
— Иногда будто и как прежде. И этот его голос, знаешь, этот его за душу хватающий голос… И вдруг забудет или вспомнит кусок из другой роли. Смешает Гамлета с Отелло, а то еще хуже,— знаешь, дружок,— возьмет и подбавит к сцене с черепом часть монолога Белугина… ей-богу… Потом спохватится, пробует поправить… жалко смотреть… на лице отчаянная мука, бросится вперед, сжимая кулаки, кричит нетерпеливо, теребит своего кроткого ангела, ухаживающего за ним, и спрашивает настойчиво: «Что, как я это сказал? Как сказал? Если бы это слышала публика? И зачем я здесь сижу, среди этих убогих калек, зачем?» И начнет буйствовать, а потом в полном изнеможении заплачет, как маленький. Хочешь поехать к нему?
Я решительно отказалась. Не могу видеть этого актера. Когда-то, пятнадцатилетней девочкой, я пересмотрела Козельского во всех ролях во время его гастролей в Петербурге весной 1888 года, а после «Уриэль Акосты» не спала несколько ночей и, стоя на коленях, клялась, что отныне буду стремиться превратить свою жизнь в подвиг… И мне было тяжело увидеть этого артиста безумным.
А Кузьмина, полная нежного участия к старому товарищу, продолжала его навещать и как-то раз сказала:
— С бедным Козельским скандал. Марья Гавриловна прислала в убежище ложу для ветеранов на свой бенефис и хотела, чтобы в ней был и Козельский. Он поехал, обрадовался, а среди действия разошелся, пришел в восторг, стал громко аплодировать и кричать, подхватил чей-то монолог и давай его продолжать… Его унимают, а он не слушается… Едва увели, и после был такой припадок, такой страшный припадок… Говорят, его хотят увозить в больницу для душевнобольных.
Но вскоре разнесся слух, что Козельский плох, а потом я узнала о его похоронах на Смоленском кладбище…
Они постепенно сходили со сцены жизни, эти дорогие мне люди.
close_page
МУЧЕНИК СВОЕГО ТАЛАНТА
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Мать — высокая, крупная женщина со следами былой красоты, в духе русских девушек Венецианова, но большие, несколько выпуклые глаза смотрят робко и в голосе какие-то нотки извинения, виноватости и чопорности. Кажется, что человек обиделся на жизнь, и от этой обиды ему никогда не избавиться, и стыдится он своей обидчивости.
У Ариадны — смазливенькая сестра Лида с личиком хорошенькой булочницы и ямочками на розовых щеках,— полная ей противоположность. У нее — кокетливо завитая челка. Есть еще два брата: один — лет шестнадцати, несколько угрюмый, похожий на отца,— Вячеслав, другой — лет одиннадцати, беленький мальчик, похожий на мать,— Ювеналий.
У молодежи устраиваются немудреные танцы. Студент-медик Вукотич, серб, большой друг Василия Максимовича, затевает хоровое пение — сербские национальные песни. У Василия Максимовича — прекрасный слух; слухом и недурными голосами обладают и все в его семье. Сербские песни красивы и легко воспринимаются.
Меня знакомят с «самым ученым студентом» А. П. Нечаевым, с которого художник Михаил Петрович Клодт писал Пушкина. Я нахожу, что он действительно может служить для Пушкина моделью.
Вот он, Михаил Петрович, слева от отца,— сын знаменитого скульптора. Он сейчас, вероятно, будет плясать.
Я вижу невысокую фигуру с серебряной головой и красивым лицом, напоминающим лицо гугенота из оперы Мейербера. Редкая наружность.
«Лицо гугенота» мгновенно преображается. Сняв пиджак, засунув руки за жилетку, он выделывает мелкими шажками какие-то уморительные па и что-то бормочет, становясь удивительно похожим на финна. Это набор бессмысленных слов, которые подхватывает Василий Максимович, и получается своеобразный дуэт; мелькают знакомые названия финляндских дачных местечек:
— Перкярви… Териоки… Мустамяки… Куоккала…
— Куоккала… Перкярви…— подхватывает забавно Максимов.
— Пожалуйте ужинать,— приглашает хозяйка с тем же обиженно-виноватым видом и с мелодраматичной дрожью в голосе: — Простите… разносолов у нас нет…
А их и не надо! — весело перебивает жену Максимов.— Дети, собирайте молодежь. И то: ужин состряпать — не мутовку облизать. А у нас мамица-лапица мастерица стряпать — из ничего сделает такое, что язык проглотишь.
Усаживаются за столы разных размеров, составленные вместе и накрытые старинной домотканной скатертью. Сервировка сборная, посуда часто с отбитыми краями, с облезлой глазурью. Вилок и ножей хватает далеко не для всех. Угощение простое: самое дешевое подслащенное вино, пиво и водка, дешевые колбасы, голландский сыр, студень из телячьей головы и компот из сухих фруктов да еще пироги.
Нельзя сказать, что Лидия Александровна мастерица стряпать, как уверял неприхотливый художник; впоследствии я в этом окончательно убедилась. Она была уверена, что обладает талантом выбирать особенно дешевые продукты высокого качества, даже деликатесы, и покупала тощих синих кур, сомнительную рыбу с бледными жабрами и впалыми глазами, апельсины и лимоны «с пятнышками». Конечно, к этому обязывал ее скудный бюджет.
Молодежь уплетает угощение с большим аппетитом, под взрывы дружного смеха. Снисходительно относится к неприхотливым блюдам и Клодт, любящий французскую легкую кухню. Он связан и дружбой и профессией со старым товарищем, ему есть о чем с ним потолковать.
У них образовалась за столом особая группа пожилых людей: несколько педагогов, несколько молчаливых сереньких людей, достоинства которых были известны одному только Василию Максимовичу, Клодт и серб Ву- котич — этому студенту-медику перевалило уже за тридцать. Из компании «стариков» выделялись в разговоре два голоса: спокойный голос самого хозяина, так и сыпавшего образными сравнениями, пословицами, поговорками, словечками, которыми так богата наша родная речь, и низкий голос Вукотича, медленно, с акцентом пережевывавшего русские фразы. Он рассказывал о народных обычаях Сербии, и все удивлялись патриархальности сербских и черногорских нравов.
— А давайте споем сейчас. Радаван Вукославлевич,— предлагает Максимов, который слегка навеселе.— Ну, как это?
Милкина майка ор ди та, Милкина брача лютита, Та не каих не ксу любиты, Они мою милку любили…
Вечеринка окончена. Гости расходятся шумно; хозяева радушно провожают их в тесную переднюю.
Я в восторге. В обстановке этой жизни для меня столько нового, привлекательного, отличного от моей однообразной жизни в семье, где обиход диктуется вечно больной, раздражительной сестрой…
close_page
ПАМЯТНЫЕ БЛИНЫ
Приближалась масленица. Ариадна очень хотела познакомить свою семью с моей и наконец пристала к моей матери:
— Я знаю, что вашему мужу, как актеру, очень занятому, трудно выбрать время приехать к нам, а моих домоседов еще труднее вытащить. Вы свободны. Приезжайте к нам запросто на блины в пятницу; мама такая мастерица их готовить. Смотрите же, не опаздывайте: к трем часам. Она вас ждет. Будут друзья — Острогорские. Чудные люди. Профессор — писатель Виктор Петрович Острогорский; знаете, конечно. И отец покажет свою новую картину, которая скоро появится на выставке передвижников. Смотрите, блины не терпят опоздания.
Мать очень любила блины; она была общительна и потому сейчас же согласилась.
Утром в пятницу Ариадна прислала с напоминанием о блинах брата Вячеслава.
Извозчик трусит на Петербургскую сторону. Далекий путь из Коломны… Мороз щиплет уши; перемерзли ноги; все мы заледенели… Знакомая лестница, знакомая темная передняя. Сразу бьет в нос запах блинов, и в передней стоит легкая сизоватая дымка, прорвавшаяся из кухни.
Лидия Александровна выходит к нам в большом переднике. Вид у нее недоумевающий. Она говорит мне:
— Ах, вы, вероятно, к Ариадне? А ее нет, но она, кажется, скоро придет. С кем имею честь?
Я вспыхиваю. Очевидно, нас здесь не ждали.
— Это моя мама…
— Очень приятно.
Мы замерзли. Лидия Александровна снисходительно просит раздеться.
Входим в столовую. За столом компания — сам Максимов и еще двое: маленький седоватый и раскосый человек с длинными волосами и седоватой козлиной бородкой, с дряблым лицом, и полная, крупная женщина в скромном черном платье, с лицом монгольского типа, с маленькими, но умными, серьезными глазами.
Максимов вскакивает:
— А, милые гости! Очень рад, очень рад… Ариаднина подруга и ученица. Забыл имя… Очень рад… Вы, должно быть, ее мамаша? Очень рад…
Он жмет руки и рекомендует:
— А вот мои друзья: профессор Виктор Петрович Острогорский и его супруга — милейшая Елизавета Яковлевна…
Маленькая фигурка профессора поднимается; он с повышенной горячностью жмет нам руки.
— Острогорский. А это — моя Лилька, правая рука, поддержка, спасение и вдохновение старого писателя и старого учителя, друга молодежи, Виктора Острогорского.
Максимов обнимает Острогорского и, смеясь, припевает:
Острогорский Виктор. Вот боа констриктор…
Это про Острогорского написал какой-то остроумец к его юбилею.
На столе — вино, водка, пиво. Художник говорит жене:
— Жаль, что мы не знали о приходе дорогих гостей и не подогнали к нему блинов. А блины были славные: мамица-лапица у нас мастерица стряпать. Послушай, а нет ли там у тебя свеженьких?
У Лидии Александровны несчастное лицо.
— Василий Максимович! — взывает она трагически.— Да ведь и плита погашена и остатки все я отдала прачке.
— Ну, на нет и суда нет,— разводит руками Максимов.— Не обессудьте. Зато я вам покажу свою картину. Мы картину-то с другом Викторушкой сейчас и вспрыскиваем. Не угодно ли с нами пивца? Настоящее Вальдшлесхен!
Мать бормочет сконфуженно:
— Не беспокойтесь, пожалуйста… я ничего не хочу… А картину… это очень хорошо… Я очень рада…
— Ну, вот и чудесно. А дочке остался пряничек — коврижка печатная с миндалем.
Стакан за стаканом наливают светлый золотой Вальдшлесхен. Друзья целуются и потчуют пивом мать. Оно булькает у нее в пустом желудке.
Наконец-то художник подводит нас к мольберту. На мольберте «Все в прошлом», впоследствии самая популярная его картина. Я останавливаюсь очарованная. Глубокой грустью веет от картины. Властная помещица погружена в воспоминания; в стороне виден старый забитый дом, где прошла вся ее жизнь, а служанка примостилась на ступеньке флигелька, куда судьба загнала ее барыню.
Здесь все старо, от вольтеровского кресла, скатерти, самовара и фарфора до ковровой шали на плечах помещицы.
И все это на фоне весеннего пейзажа, на фоне цветущей сирени…
Я услышала глубокий вздох матери. У нее вырвалось из души:
— Когда-то я так же интересовалась работами Агина.
Агин — магическое имя. Со всех сторон послышались вопросы:
— Разве вы знали Агина?
— Он при вас работал над иллюстрациями к «Мертвым душам»?
— Давно вы его знали?
— Как же не знать? Он даже мой кум — крестил вот Маргариту,— указала мать на меня,— значится в ее метрике. Кроме того, он был гримером в киевском театре.
Мать делается предметом всеобщего внимания, кстати, из-за Агина и я. Мать должна рассказать про покойного художника, рассказать обо всех его оригинальностях и чудачествах, которые вызывают у слушателей большой интерес.
В это время слышится звонок: приходит Ариадна и восклицает с нескрываемым изумлением:
— Вот здорово-то! Неожиданная встреча, дружище! А видела картину отца? Правда, крепко написана?
Очевидно, она совершенно забыла о своем приглашении.
Пока мать рассказывает и пьет пиво, мы располагаемся в комнате Ариадны на сундуках и корзинах, покрытых плахтами: Ариадна, Лида и я.
Перед нами Нечаев, оторвавшийся от занятий с Вячеславом, которого репетирует. Он рассказывает о своей статье, помещенной в детском журнале: «Гибель Помпеи и Плиний-младший».
Ариадна шепчет:
— Нечаев — замечательный человек. Он познакомил отца со своим товарищем студентом Генераловым, который делал покушение на царя. Генералов даже, кажется, ночевал у него накануне покушения или только заходил, точно не помню.
Пора было уходить.
И Василий Максимович и Виктор Петрович крепко жали нам руки и благодарили мать за воспоминания об Агине.
Острогорский вместо туша запел надтреснутым высоким голосом свою любимую песенку Беранже:
Из чужбины дальней В замок феодальный Едет наш маркиз…
И, обнимая жену, перешел на игривый мотив:
Из-под соболя ресницы
Смотрят глазки на меня…
Прочь, сомненья, прочь, невзгоды, У-улыбнись повеселей!
— Полно, Виктор, отмахивалась Елизавета Яковлевна,— какие там собольи ресницы? Поедем-ка скорее домой.
«ЛЮБША»
Было решено, что я поеду на лето за известную плату в имение Максимовых «Любшу».
Поездка на пароходе по каналу от Шлиссельбурга, потом на маленьком пароходике двенадцать верст по Волхову от Новой Ладоги к Старой,— и мы в «Любше».
С мостков так называемой «Богатыревской пристани» поднялись в гору, к усадьбе.
Густой, запущенный сад, сбегающий по горе к Волхову, не особенно большой, с фруктовыми деревьями и ягодными кустами, но эта запущенность придает ему особую прелесть. Дом двухэтажный, новый, пахнет смолой и свежевыстроганными бревнами. В нем все не докончено, кроме мастерской художника; эта мастерская с окнами на север, в нижнем этаже, светлая, просторная. Рядом — столовая, спальня и комната мальчиков. Две «девичьи» комнаты вверху; к ним ведет крутая лестница, как на чердак. В одной из них, предназначенной для меня, балкон.
Здесь, в «Любше», разница между дочерьми Василия Максимовича особенно резко подчеркивается всем обиходом. Кокетливая Лида, похожая, как говорят, на бабушку со стороны матери — Измайлову, унаследовала ее мягкость в обращении, гибкость, покладистость, хозяйственность и любовь к уюту и вещам. Она — любимица обоих родителей. У нее все вещи от бабушки — «родовые», всякие сувениры, которые ничуть не занимают Ариадну.
Ариадна — грубоватая, плохо одетая и плохо причесанная, представительница другого берега, копия с отца. Она любит есть с рабочими, плясать на посиделках, работать на сенокосе, полоть гряды в огороде.
Ариадна часто спорит с ласковой и покладистой сестрой, с матерью, хлопает дверьми и запирается наверху, крича, что не может выносить пошлости.
Отец для нее—что-то высшее; ему она не смеет перечить и угрюмо молчит, если не соглашается.
Я несколько раз заводила с ним разговор о ее призвании.
— Вы помните, что сказал про нее Репин, Василий Максимович?
— Помнить-то помню, да что из этого? Чтобы быть художницей, надо много положить труда; это, матушка, не мутовку облизывать,— повторял он свою любимую поговорку.— а доброй матерью может быть всякая хорошая, честная женщина, как и хорошей женой. Разве мало делает моя жена? Она мне и помощница, и друг, и мать моих детей, и стряпуха, и несменная натурщица. Зачем искать синицу в небе, когда журавль в руках? А вот что Ариадна по посиделкам любит таскаться — это не дело, не доведут ее парни до добра. А хочешь родной деревне пользы,— иди в сельские учительницы или в фельдшерицы.
Репин в самом деле находил у Ариадны большие способности к живописи. В городской квартире Максимова на стене, среди его этюдов, висел этюд ржи работы Ариадны. Рассматривая полотна Василия Максимовича, Репин заметил маленькую картинку, прикрепленную к обоям кнопками, и его поразила яркость красок и свежесть солнечного пейзажа.
— Слушай, брат Вася, а ты здорово шагнул.
И показал ему на рожь.
Максимов усмехнулся:
— Да ведь это не я, а моя дочка Ариадна широко шагает.
— Отлично. Превосходно. Она далеко пойдет.
Но Ариадна пошла очень недалеко. У нее не хватало выдержки, усидчивости, плана, и я поняла это очень скоро. Иногда, много дней подряд, не выходила она из мастерской Василия Максимовича и писала под его руководством натюрморт или свой портрет в зеркале, счищала всю работу, переписывала вновь, кричала, что нет хороших «колонковых кистей», а краски пожухли, что выражение глаз ей не удается… А то вдруг надолго бросит работу и бежит с граблями на сенокос и, возвращаясь к портрету или этюду, снова кричит, что работа никуда не годится.
Меня радовали и Волхов, и свет, и ладожские просторы, и нежная северная природа, и древние стены Старой Ладоги, и мелодичный звон монастырских колоколов, и соловьи по ночам, а ко всему этому молодая компания и жизнь под кровом известного художника. И поражал простой быт, а меня добродушно высмеивали, копируя какую-то жеманницу, будто я сахар беру на вилку, отставляя мизинец в сторону. Но все это были шутки, не вызывавшие никакой обиды, и мы все между собою прекрасно ладили.
Василий Максимович вел себя как радушный хозяин и терпеливый учитель. В противовес Ариадне у меня не было никакого таланта к рисованию, и я по ошибке попала в школу Общества поощрения художеств. Но Максимову хотелось найти в каждом человеке хоть искру таланта, тем более у подруги дочери и крестницы Агина, и он требовал, чтобы я показывала ему свои работы, внимательно рассматривал бездарную мазню и говорил снисходительно-добродушным тоном:
— Ну, вот тут переложили малость охры, голубушка. Надо бы ослабить. А эта тень к чему? Где вы ее рассмотрели в натуре? А уж «черненькие» головки из «Нивы» перефразировать на масло вовсе не годится. Какой в этом толк? И вообще копии? Знаете, друг мой, копии приносят мало пользы. Надо работать с натуры, все равно что: цветы, горшок, кружку, кочан капусты, курицу или человека,— у кого какой хватит охоты и умения. Но только непременно с натуры. Надо начинать, понятно, с более легкого. Что ж, если у вас не выходит, а все-таки тянет, упражняйтесь, рисуйте, хотя бы только для себя. Громадное удовольствие доставляет человеку отдых в искусстве, в красках или звуках. Так-то. И еще знайте, что человек труда и дерзания никогда не пропадет. Не умеешь шить золотом — бей молотом. А все-таки мне показывайте свои работы, да и Ариадну в консультанты запрягите,— она вам может помочь и в рисунке и в умении видеть краски.
И Ариадна, после совместной работы с отцом, уходила из мастерской какая-то радостно возбужденная, сияющая, переполненная жаждой творчества.
Настали дни, впечатления которых навеяли художнику картину «Опять буянит».
Как-то летом, в сенокос, приехали в «Любшу» гости: Виктор Петрович Острогорский с молодым доктором- горловиком Анкиндиновым; Анкиндинов, вопреки приговору знаменитостей, спас Острогорского от полной потери голоса; тот с ним всячески носился и, наконец, уговорил поехать отдохнуть на лоно природы к своему приятелю художнику-передвижнику.
Если Анкиндинов спас Острогорского от потери голоса, то жена спасла Острогорского от полного падения. Елизавета Яковлевна Симонова, молодая курсистка, отдала ему всю жизнь, ходила за ним, как нянька, и помогала работать. Но старая привычка пить не покидала Острогорского; Анкиндинов от него не отставал, а потом начали дружескую попойку втроем: гости и хозяин.
Острогорский, этот человек с длинными седеющими кудрями, воспитал целое поколение учителей, он был хорошим редактором детского журнала, умел будить у молодежи лучшие чувства, знакомя ее с образцами классической литературы, популярные его лекции привлекали массу слушателей.
И становилась понятной близость этих двух людей — Максимова и Острогорского. Оба — одинаково преданные искусству, легко возбуждающиеся, оба — надломленные жизнью,— Острогорский потерял единственную страстно любимую дочь, Максимов чувствовал себя обойденным, недооцененным обществом…
Все тихо в нижнем этаже, когда мы спускаемся с лестницы, чтобы выйти в сад, на берег Волхова. В открытую дверь спальни видна на кровати фигура художника. Он лежит ничком и бубнит сочиненный им каламбур на художника Лемоха:
С Ивановым бороться хочешь ты Теплом и светом животворным… Коль ты умен, оставь свои мечты И будь по-прежнему художником придворным.
close_page
НИЩЕТА
На другой день после попойки все было по-старому. Но войти в обычную колею сразу Максимов не мог; в полуоткрытую дверь мастерской виден был завешенный холстом мольберт, а художник строгал что-то стамеской. Он позвал меня с каким-то виноватым видом:
— Вот посмотрите… не видали? Я ведь не только промышляю красками, я — резчик по дереву. На все руки, что называется: и швец, и жнец, и кузнец. Люблю резать по дереву и собираюсь сделать в подарок Лидии Александровне блюдо для хлеба. Резьба выпуклая, вроде деревянного барельефа. В руке эта работа кровь будоражит. Размах есть…
Вокруг художника лежало несколько кусков дерева для резьбы: яблоня, орех, клен.
Картина «У своей полосы» вызывала во мне особенно умиленное настроение выражением любви старой крестьянки к земле. Здесь мне нравилось все, и колорит цветущего льна не казался тусклым. А она оставалась заброшенной то ради блюда, то ради ножа или табуретки, а тс ради сельского хозяйства, в котором он мало понимал.
В августе я уехала с Лидой и ее братьями в Петербург. Василий Максимович с женой и Ариадной остался еще поработать над картиной и кончить работы в поле.
Мне пришлось несколько дней прожить у Максимовых на городской квартире, и тут я убедилась в жестокой бедности, можно сказать, в нищете художника.
Поздно осенью вернулся в город Василий Максимович. Он привез с собой этюды к картине «Лихая свекровь». В холодной, неуютной квартире началась работа над этой картиной; работа сильно его захватила. Я бывала у Максимовых почти каждый день, и Василий Максимович делился со мной творческими замыслами.
Живя в «Любше», я знала многих из его натурщиков и натурщиц. Он к ним привыкал; он даже крепко привязывался к ним и был доволен, когда они его навещали в праздничные дни на досуге. Тут разговорам и воспоминаниям не было конца. Приходила Юдишна (рассказчица сказок в картине «Бабушкины сказки»), приходил «Кря- чок» — охотник, позировавший когда-то для попа в «Колдуне», и, наконец, Вавилишна, старушка из деревни Лопина. Эта Вавилишна служила моделью для «Лихой свекрови». Казалось, мудрено было сделать из добродушной старушки ведьму: тогда художник пустился на хитрость.
— Уж и позлил я мою Вавилишну,— рассказывал он.— Начну вспоминать всякие ее деревенские обиды; она мало-помалу зажигается гневом, а мне то и надо. Мускул-то на лице сократился, я его хвать — и на полотно.
— А трудно научить деревенских позировать? — спрашивала я.
— По этой части у меня мастерица Лидия Александровна,— с гордостью отвечал Максимов.— Специалистка. С другой бестолковой моделью бьется, бьется, и так и этак,— не понимает да и все тут, тогда она сама станет в позу, и натурщица ей подражает. Всяко бывало. А вы посмотрите: какой этюд вам больше понравится, где больше экспрессии?
И долго еще толкуем об этюдах…
Холодно. Художник сидит, закутавшись в старый плед, который мало греет. У него лицо желтое, измученное.
— Занедужил…
В восьмидесятые годы, в конце зимы, отправляясь на лошадях из Петербурга в деревню, Максимов попал в промоину и долго находился в воде, удерживаясь на перекинутом перекладиной ружье. Это положило начало его тяжелой болезни.
Сидит художник, съежившись под пледом, нахохлившись, как сыч, и мрачно смотрит в одну точку. На пороге появляется Лидия Александровна.
— Ты что, мамица?
— Денег у тебя нет ли… хоть немного?
Голос робкий, вид несчастный.
Василий Максимович роется в кошельке, достает какой-то пустяк и говорит с досадой:
— Вот и кончай тут серьезную картину, когда жрать нечего. А у меня их сколько разом начато… Посмотрите.
У него начата еще картина «С дипломом». Мне она не нравится, но я не решаюсь высказаться, не хочу огорчить

С фотографии конца 90-х
художника, не хочу и выслушать резкую отповедь, что такая критика — не моего ума дело. Это семейный портрет Лидии Александровны и Ариадны. Мать сидит на стуле почти спиной к зрителю, а приехавшая дочь, стоя на коленях, с улыбкой достает из раскрытого чемодана диплом об окончании гимназии.
Для этого портрета Максимов замучил и мать и дочь, сердился, бранился, кричал, всячески нервничал.
Однажды я увидела странное превращение: картины и этюды отставлены, на мольберте — доска с начатой иконой.
— Вот,— мрачно заговорил Максимов,— за старое ремесло принимаюсь. Левкасец приготовил,— все как следует. Вспомнились старые словечки в мастерской богомаза, где я работал еще мальчиком: «где припорох»; «готова припись»; «покрыть надо лучше»; «тебе долишна и разделка». Сварил клей для грунтовки досок. Теперь масло прочь, теперь нужна вода и яичный желток. Краски для икон разводятся не на масле, а на воде и яичном желтке.
В мастерской пахло столярным клеем и тухлыми яйцами.
— Яйца свежие Лидуша бережет для кушанья, а мне жертвует попроще… для бога…— лукаво усмехнулся Максимов.
Лидия Александровна возмутилась:
— И не стыдно тебе, Василий Максимович? Что только говоришь?
— Мне-то чего стыдиться? А вот тебе — другое дело. Ты же у нас известная богомольница, а бога писать даешь мне тухлые яйца. Ну, да на тебе грех, как говорится. Сейчас пишу икону для деревенской церкви. Купец один давно заказал своего ангела на родину. Да что- то не могу вдохновиться… А надо—это верные деньги. После ангела за его собственную физиономию примусь; тоже деньги верные и подороже, чем за святого,— за грешную свою образину купец всю сотнягу отвалит. Ему надо, чтобы всегда приказчики и конторщики устрашение имели, как из-за рамы этакая-то фигура глядит… А рама солидная, толстая, золотая… Эх, разбалакался я тут, а время бежит. Да постойте,— лицо его приняло лукавое выражение,— вот возьмите свою потеряшку,— все забивал отдать.
Он вытащил откуда-то пару старых черных дырявых чулок.
— Ваши чулочки, забытые в «Аюбше».
Я смущенно взяла сверток.
Глаза Василия Максимовича смеялись.
— Ну, ничего, бывает со всяким. А заштопать чулочки еще, пожалуй, можно; я разглядывал дырки.
Сквозь мрачность у него всегда проглядывал юмор.
close_page
ПОД ГОРУ
В Петербурге Максимов не написал ни одной большой серьезной картины. Он перебивался с хлеба на квас то иконами, то портретами с фотографий, то копиями со своей популярной картины «Все в прошлом» и любил писать эти «повторения»; по счету Лидии Александровны, им было сделано сорок два «повторения».
Жить становилось все труднее: здоровье заметно сдавало. Как-то в одно лето (точно даты не помню) Василий Максимович ездил с Острогорским в имение Пушкина Михайловское и на могилу поэта. Результатом поездки явился альбом акварелей с текстом Острогорского. Потом у него была поездка в Псков и древний Печорский монастырь— в двенадцати верстах от Пскова; он привез оттуда целый ряд интересных набросков, фигурировавших потом на одной из передвижных выставок.
Но жизнь заметно шла под гору; здоровье Василия Максимовича ухудшалось с каждым днем.
Года через три после нашего знакомства в его семье разразилась трагическая история. Ариадна бежала из дому с работником.
Работник доставил ее к своей тетке в деревню, чтобы она окончательно привыкла к быту и научилась сельским работам, а потом уж хотел на ней жениться. Чтобы добыть кое-какие документы для венчания, Ариадна приехала в Петербург, загорелая, с огрубевшими руками, одетая, в подражание деревенской моде, в какое-то яркое платье с бусами на шее. Потом исчезла. Отец стал ее разыскивать, нашел и привез насильно домой.
После этого Елизавета Яковлевна, жена Острогорского, уговорила Максимова доверить ей дочь, «взяла на поруки», поселила у себя и посоветовала поступить в учительскую семинарию. Ариадна, окончив курс, уехала на Урал, но уже не полоть гряды и жать, а преподавать в народной школе.
Вячеслав пропал без вести, Лидия давно вышла замуж и уехала в Польшу. Старики остались только с Ювеналием и Леночкой, воспитанницей — подростком из Ладоги.
Переселились они на Олонецкую улицу, угол Б. Белоозерской, возле Сытного рынка, в квартиру на четвертом этаже из трех комнат, сырых и тесных. Платили двадцать восемь рублей в месяц. Здесь художник провел двенадцать последних лет жизни, уезжая только летом в разные места, но уже не в «Любшу», куда ездить ему было особенно тяжело.
Болезнь разрушала медленно, но упорно измученное тело. Этому по-прежнему помогала сырость и жалкое питание. Обеды Максимова были очень скудны: селедка, солонина, картошка во всех видах, квашеная капуста с подсолнечным маслом и соленая треска сомнительной свежести.
У Василия Максимовича развилось малокровие, а скоро и резкое худосочие, кончившееся цынгой.
Помню его, как сейчас, бледного, точно бумага, завернувшегося в вечный старый плед, дрожащего от холода.
— Скверное мое дело,— говорил он.— Вот нарывы пошли по голове.
— Отчего?
— А кто их знает! Был в бане у Лидуши в Польше, может там какую дрянь подхватил, ну и истощение к тому же.
Случалось, Лидия Александровна не знала, на что они завтра пообедают, и. несмотря на тяжелую нужду, Василий Максимович, как и его жена, находили возможным чем-нибудь помочь всем, кто в них нуждался.
Никогда не отказывал Василий Максимович в совете начинающим художникам и радовался, когда в ком-ни будь встречал задатки; никогда не отказывал нуждающимся в материальной поддержке, порой деля с ними последние крохи.
Все, кто близко знал семью Максимовых, помнят фигуры детей и взрослых, внезапно появлявшихся в их тесной квартирке. Иногда эти «пришельцы» спали на плите в кухне. Вечно Максимовы хлопотали об устройстве то того, то другого бесприютного ребенка, обиженной судьбой женщины, и среди этих «питомцев» было немало деревенского люда.
Сытный рынок давал Лидии Александровне богатый материал для ее заботливости. Она приводила оттуда беременных женщин, случайно встреченных ею где-нибудь возле возов, лавок и лотков; иногда у нее они и рожали. Отрывая от себя самое необходимое, она шила малышу пеленки и потом нянчила его, когда мать уходила на поиски работы.
Ей говорили:
— Вот видите, до чего доводит ваша филантропия. Подкинет вам баба ребенка — и нянчитесь.
— Нельзя так рассуждать и нельзя везде видеть мошенников. Она — несчастная женщина, но вполне честная и ребенка любит. Коли же подкинет, как-нибудь выращу.
Максимов говорил:
— Где двум есть кусок, там и третьему найдется.
На меня художник сначала смотрел как на пустую девчонку: такую рекомендацию мне давала дружба с неуравновешенной Ариадной; он считал, что мы дурно друг на друга влияем.
— Каждая врозь — ничего, вместе — никуда не годится.
На мои первые шаги на литературном поприще — стихи — он безнадежно махал руками.
— Ну, матушка, под Надсона жарите… Надоел этот плакса. Гражданскую скорбь все воспевает. Некрасов эту самую гражданскую скорбь всю нам на ладошке вот как показал. Стоит, ей-богу, высмеять всех этих декадентов: Надсона, Фофанова, Фруга и написать пародию на пародию Владимира Соловьева:
На небесах горят паникадила,
А снизу — тьма…
А черта мне в том, куда она ходила, эта крокодила. Черта нам в этих декадентах. Скулят, скулят, а образа нет. На цыпочки становятся, а до пятки Пушкина не дотянутся.
Позднее, когда я стала писать прозу и мои биографии замечательных людей начали печататься, Максимов сказал:
— Удосужился я прочесть ваше кое-что, взял у Ариадны; ничего, понравилось. Занятно и детям и взрослым. И личности выводите замечательные.
С тех пор он стал читать все, что я писала, и всегда давал мне хорошие, здоровые советы, именно здоровые, потому что в его литературных суждениях всегда была в корне здоровая народная правда.
close_page
ВРАЖДА
В Василии Максимовиче крепко жила закваска деревни. Он любил деревенские кушанья, деревенскую речь, простоту обхождения, ощетинивался, сталкиваясь с церемонностью, жеманством, позой.
У Острогорских по вторникам собирались. Собиралась молодежь, писатели, профессора, педагоги, актеры и художники. И, конечно, появлялась неизменная выпивка Вечера бывали оживленные, веселые, а главное непринужденные.
Помню милую, трогательную декламацию стихотворения о синичке, которая хотела подпереть небо и не дать разразиться грозе. Декламировала комическая артистка Александринского театра, любимица публики, знаменитая Стрельская. Как сейчас, вижу ее маленькую кругленькую фигурку за роялем. Продекламировав «Синичку», она начинает комический романс о султане, сама себе аккомпанирует и поет слабым, надтреснутым голосом, но с экспрессией:
В гареме нежится султан — тан-тан…
Она поминутно откидывается назад и поворачивает к нам милое маленькое личико, все в мелких морщинках, с одним ей свойственным добродушным лукавством и серьезностью.
Ученица Острогорского, Анненкова-Бернар, утешает общество или декламацией из классического репертуара («Мария Стюарт», «Леди Макбет»), или читает отрывки из своего нового произведения, так как она и актриса Александринского театра и писательница.
За столом знакомая всем своеобразная фигура Мамина-Сибиряка, и рядом нередко можно видеть маленькую девочку, его дочку Аленушку, которой он посвятил свои сказки. Он — скуластый, больше под хмельком; она — тоненькая, болезненная, одни только большие черные глаза, грустные и пугливые, как у дикой козочки. Отец позволяет ей все, и она часто капризничает, заливается истерическим плачем и теребит его за рукав:
— Пойдем домой, папка. Надоело… Кричат-кричат, говорят-говорят… надоело.
Тут же темноволосый, небольшой Чернышевский, сын великого писателя.
Завсегдатаи вторников — брат и сестра Озаровские. Брат—режиссер и актер Александринского театра, известный коллекционер, создавший в здании Соляного городка маленький музей быта петровской и елизаветинской эпох, неприятный, вечно хихикающий и какой-то скользкий человек; сестра—известная впоследствии рассказчица и исследовательница Севера. Она изумительный имитатор, подражающий всем известным актрисам» ведет комические сценки. Каждый раз, уступая просьбам окружающих, Озаровская рассказывает смешную северную сказку «Кобылья голова», подражая голосу, языку и наивной манере древней деревенской сказительницы.
Раз Озаровские явились с актрисой того же Александрийского театра Мусиной. В скором времени эта Мусина стала женой Озаровского.
Мусина была вдова инженера Глебова, урожденная графиня Мусина-Пушкина; Глебов — видный инженер, с большими средствами, старой дворянской фамилии. Жили Глебовы широко; эту жизнь продолжала Мусина и после смерти мужа. Ее слияние с артистической богемой вызывало негодование в аристократическом кругу, а когда она пошла на сцену и «запачкала» родню, оставив по сцене часть девичьей фамилии «Мусина», восстали все родственники.
Покойный Глебов был когда-то учеником Максимова.
Изящная, обаятельная, любезная, она познакомилась у Острогорских с Максимовым, вспомнила, что ее муж брал у Василия Максимовича уроки живописи, и сказала художнику, улыбаясь:
— Мне так приятно с вами познакомиться, Василий Максимович. Я так много о вас слышала от моего покойного мужа. Он любил и уважал вас… Скажите, почему вы никогда не были у нас запросто, почему мы до сих пор с вами не встречались?
Они составляли интересную группу своим контрастом — эта грациозная, прелестная женщина в черном изящном платье и невзрачный, с взъерошенной шевелюрой художник. Их обступили со всех сторон.
Около Мусиной увивались ее поклонники, и впереди всех Озаровский.
Максимов давно на взводе. Острогорский зовет его к столу:
— Вася… друг… Василий Максимович… медведя с ершом…
«Медведь» — это смесь всяких вин: водки, коньяка и пива. «Ерш» — закуска к нему, смесь самых несмешиваемых вещей. Мамин-Сибиряк уже начинает готовить «ерша», смешивая все, начиная от рыбы, горчицы и ветчины и кончая тортом и вареньем.
Глаза у Максимова налиты кровью — нехорошие глаза. Кажется, что вот-вот вспыхнет какой-нибудь скандал.
А Мусина смотрит ласково, умильно.
— Почему? — спрашивает она.
— По-че-му? — растягивает слово Максимов.— А потому, что вообще я хожу только к самым близким. По-че- му? — повторяет он.— Потому что я старше вашего мужа и на поклоны не хожу.
Актриса растерялась, даже побледнела.
— На какие поклоны? И какие счеты, Василий Максимович?.. Ну, мы могли бы прийти к вам, если бы вы позвали…
— По-звал? — опять с растяжкой повторяет он.— Ну нет, не из одного горшка щи хлебали…
У Мусиной совсем несчастный вид.
— Ах, нет, почему же… мы с радостью… муж так вас любил…
Кругом нее замешательство. Некоторые предвидят скандальчик и стараются отойти. Не отходит Озаровский.
А Максимов смотрит на нее в упор маленькими сверкающими стальным блеском светлыми глазами и раздельно, резко выговаривает:
— В самом деле, почему мне было вас не позвать из вашей шикарной квартиры?
Мусина молчит и не двигается, точно пригвожденная к месту. Озаровский что-то ей шепчет на ухо. Можно догадаться:
— Вы видите, он пьян.
А от стола слышатся возбужденные голоса:
— «Ерш» готов на славу, Василий Максимович, что же вы?
— Иду-у… К чему мне в самом деле перебирать старые дрожжи и толочь воду в ступе? Иду-у…
close_page
ПОСЛЕДНЯЯ ВСПЫШКА
Повторяю: за последние годы Василий Максимович не создал ни одной большой, значительной картины. Изнемогал от нищеты, от слабости, от болезни, его подтачивала бередящая мозг мысль, что он не нужен, забыт, не идет в ногу с временем. Василий Максимович говорил, что теперь успех имеют Бодаревский с выставкой декольтированных плеч, шелка и бархата, Лемох с изо- ражением лакированной избы, конфетного крестьянского ре енка с пальчиком у губ, что художественную карьеру можно сделать только угодничеством и подхалимством.
н не лю ил декадентского направления в искусстве, оно ызывало в нем враждебное чувство, даже как будто чувство личного оскорбления.
О Петрове-Водкине говорил:
— Рисунок у него хорош, а зачем понадобилось лошадей красить в розовый цвет?
Не нравился ему, как он говорил, «манерный» Сомов, урлянисе с его симфониями говорил с ужасом, так же как о новаторах в поэзии — декадентах и символистах. Он сердился, когда кто-нибудь хвалил картины, появлявшиеся на выставках «Союза» и «Салона». Особенно возмущался художниками, использовавшими для своих картин кусочки блестящей жести и фольги.
Судьба слишком поздно пришла на помощь Максимову, да и какая в сущности это была жалкая помощь. В 1907 году ему была назначена так называемая «гри- горовичевская пенсия» в размере… сорока девяти рублей пятидесяти копеек в месяц. Эта пенсия образовалась из ежегодного капитала в три тысячи рублей, назначенного казной писателю Д. В. Григоройичу, директору Общества поощрения художеств, и после смерти последнего разделенного на части для поддержания более старых и заслуженных художников. Одна из частей досталась Максимову.
Сыро, холодно было в неуютных, полупустых комнатах его квартиры. На столе облупленные тарелки или миски. По всей лестнице несется удушливый запах жареного цикория, и Лидия Александровна извиняется, что цикорий подгорел. Потом пьют какую-то бурду с жидким молоком или халвою.
Выгадывалась буквально каждая копейка,— когда требовались больному художнику фрукты, покупался брак с гнильцой, а сахарный песок употреблялся желтый и плохо очищенный, который был что-то копейки на две дешевле.
Художник сидит целыми часами на кровати, завернувшись в одеяло или в плед.
— Балуюсь опять, третья дочка, портретами с фотографий,— встречает он меня горькой усмешкой.— Жрать надо. Разве не знаете, какие у нас, художников, бывают приработки? Кто прирабатывает этикетками, рекламами, картинками для конфетных коробок или на табачную фабрику. Вон Михаил Петрович Клодт, тот специализировался на табачных этикетках, а ему куда легче жить, чем мне: он получает порядочную пенсию за отца и имеет приличное место в Эрмитаже.
Максимов скоро стер почти оконченный и хорошо написанный аксессуар — большой стол, обильно уставленный яствами купеческого пиршества.
Не желая задерживать понадобившуюся академии мастерскую, Максимов перевез начатую картину к себе на Олонецкую, и она разом загородила всю его тесную комнату так, что в ней трудно было повернуться. Еще труднее было работать. Бессилие охватило художника; он чувствовал, что ему не справиться с задачей, что придется бросить работу, и страшно тосковал. А тут еще нужда давила со всех сторон…
КОНЕЦ
Я хорошо помню обычную позу Василия Максимовича в этот период: завернувшись в плед, сидит он со спутанной шапкой седеющих кудрей, смотрит в одну точку стеклянным взглядом и молчит. Кисти и палитра валяются на художественной резной табуретке собственного изделия.
— Что ты, Василий Максимович? Нехорошо тебе? — спросит Лидия Александровна.
— Тоска, Лидуша, смертельная тоска.
Эта смертельная тоска была одним из самых существенных симптомов болезни художника.
Когда перевезли Василия Максимовича в больницу на Пятнадцатую линию Васильевского острова, я была нездорова и не могла его навестить, да и боялась утомить. Собралась, когда мне сказали, что он умер, и это тогда меня очень терзало…
— Несмотря на хороший уход,— рассказывала мне Лидия Александровна о последних днях мужа,— несмотря на отдельную комнату, несмотря на заботливое лечение, бедному Василию Максимовичу становилось с каждым днем все хуже. Не помогали впрыскивания камфоры и мускуса; сердце его сильно ослабело. Он находился все время в сознании, был кроток и тих, терпеливо переносил свои страдания и беспрекословно подчинялся больничному режиму. Только одно его раздражало: требова ния, чтобы он ел. Еда была ему противна. Дома его мучила бессонница; днем и ночью видела я его постоянно сидящим на постели молча, обернувшись к стене и устремив в одну точку унылый взгляд. В больнице благодаря подкожным впрыскиваниям он постоянно дремал. Боли в груди утихли, удушья не было; он стал говорить, что ему легко. Но я видела, что он гаснет… с каждым часом гаснет… Несмотря на слабость, больной радовался, когда его кто-нибудь навещал. Радостно встретил он жену своего товарища Марию Федоровну Позен, навестившую его накануне смерти. Жаль, что вы ни разу не навестили его.
Я молчала. Мне было очень тяжело это слышать. Го было трудное для меня время, да и не думалось, что состояние здоровья Василия Максимовича так безнадежно…
Он скончался в ночь на 18 ноября 1911 года.
— Василий Максимович умер тихо, во сне,— говорила Лидия Александровна,— между двенадцатью и двумя часами ночи. Я заснула неподалеку, думая, что ему лучше, а когда проснулась, у него уже застыли руки.
Не забыть мне никогда отпевания Василия Максимовича. В небольшой церкви Академии художеств собралась тесная группа товарищей покойного. Мало кто вспомнил об этом глубоко честном и несчастном человеке да многие и забыли уже, что это был крупный художник, до конца жизни верный своим задачам.
Когда я видела его, незадолго до больницы, сидящим в оцепенении, мне казалось, что перед его сознанием проходит вся его тяжелая жизнь, начиная с детства: бедная изба, монастырь, мастерская богомаза, академия и, наконец, мучительная нужда, на которую он себя обрек, когда, блестяще окончив академию, отказался от поездки за границу, к которой стремился каждый начинающий художник, отказался, чтобы не отдалиться от родного крестьянства…
При сложившихся условиях быта жизнь художника оставалась такой тесной, такой бедной. И он относился подозрительно к богатым и знатным и выпускал, как ежик, иглы.
Случай с Мусиной у Острогорских может служить иллюстрацией такого отношения. Он не любил щеголь ства. Вспоминая о Шишкине, которого высоко чтил, он всегда с досадой говорил:
— А отчего умер? Любил до смерти пощеголять ботинками. Покушал узкие-преузкие. Раз натер пятку, сделалось заражение крови и умер.
Богданова-Бельского он считал хорошим художником, но всегда сердился:
— Шаркун. Белье носит от Артюра, с Невского, самое парижское. Так его и тянет от родной деревни на Английскую набережную, в особняки. Что хорошего?
Вот почему, вероятно, старые товарищи, жившие иной жизнью, забыли колючего отшельника, иногда путавшего культуру с роскошью.
Церковь была почти пуста. Принесли жиденький венок «от товарищей*, но товарищей почти не было налицо.
Гроб понесли по залам, где в то время была выставка. Публика с изумлением смотрела на торжественное шествие. Но художнику не везло даже после смерти. Администрация академии сначала почему-то не соглашалась позволить пронести гроб с останками своего бывшего воспитанника через главный вход, и был момент, когда он застрял в одном из поворотов узкой лестницы, ведущей на черный ход, в классы.
Впоследствии я слышала от Лидии Александровны подробности похорон на родине, возле Старой Ладоги. Приходилось перевозить тело через Волхов, а лед был еще тонок и кс мог бы выдержать тяжести лошадей. Крестьяне впряглись в дровни и с опасностью для жизни проводили своего художника в его последнее убежище. Провожавшие шли осторожно, вразброд, с палками.
Односельчане зарыли могилу и убрали ее сосновыми ветками. После смерти в бумагах покойного нашлись его автобиографические записки, которые он успел довести только до конца 1867 года; они были помещены на страницах «Голоса минувшего» (апрель — июль 1913 года). Товарищество передвижников, во главе с Репиным, который дал предисловие, поручило мне написать очерк, охватывающий дальнейшую жизнь художника, для того же «Голоса минувшего». Очерк был краткий.
close_page
СОРОК ЛЕТ НАЗАД*
ИЩУ ИЛЛЮСТРАТОРА
Зима 1899—1900 года памятна для меня во всех отношениях.
В эту зиму у меня умирал от чахотки в тяжелых условиях отец; в эту зиму я мучилась, не имея паспорта; проблеском явилась возможность напечатания в двух издательствах моих книг, и, схватившись за эту соломинку, я стала обдумывать, кому бы поручить иллюстрирование моих рассказов.
Проще всего было просить В. М. Максимова и М. П. Клодта, близких мне людей. Клодт согласился и взял один из рассказов; В. М. Максимов наотрез отказался:
— Ненавижу я делать эти иллюстрации. Для художника они не клад, ничего не дают ни уму, ни сердцу, а для кармана — и того меньше. Вон я раз сделал для Девриена рисунок, а он мне выложил… пять целкачей серебром. Я ему их тут же оставил на выручке.— Он со смаком произнес это слово «выручка», чтобы подчеркнуть торгашеский характер издателей.— Им что нужно, этим Девриенам? Чистенько-гладенько. Для этого существуют специальные ил-лю-стра-то-ры, числом поболее, пеною подешевле. Они рисуют особенно: где сдерут с «Нивы», где с иностранного журнальчика. Вырежут головку с кудряшками, наклеят, а сверху пририсуют платочек, наклеят честь честью и сарафанчик, и выйдет у них русская пейзанка, а если уж приклеят еще сбоку корову, лошадь или овцу, получится русская деревня. А издатель подпишет: «Наконец-то Машутка нашла свою Буренку». Так будет совсем «рюсс». Вот и Репин иллюстрировал, да бросил. Не годимся мы, тяжеловесны.
— Дядя Вася, а я все-таки хочу настоящего художника.
— Настоящего? — махнул он рукой.— Ну и поищите.
— Дядя Вася, я хотела обратиться к Богданову-Бельскому.
Максимов усмехнулся.
— К Богданову-Бельскому? Ну что же, может быть он вам и сделает. Он человек мягкий, художник хороший и не нуждается. Если есть досуг, сделает, быть может, но только не из-за интереса.
— А адрес Богданова-Бельского?
— Николая Петровича я вам живо по каталогу выставки сыщу. Вот, получайте: Невский, пятьдесят четыре, меблированные комнаты, если он не уехал к себе в деревню, в Смоленскую губернию. Подите, подите, желаю успеха.
На другой день я отправилась по указанному адресу. Хорошо известный дом против Александринского театра, где помещается лучшая частная библиотека и издательство О. Н. Поповой, где печатается одна из моих книг. Меблированная комната № 28. Обыкновенный темноватый коридор. Стучу. Дверь чуть приоткрывается и сейчас же захлопывается.
— Подождите, пожалуйста, минутку…
Скоро я вхожу в большую комнату, довольно хорошо обставленную золотистой плюшевой мебелью. Большое венецианское окно. Трюмо. Комфортабельный письменный стол с трафаретным прибором серого мрамора. В зеркальное окно, похожее на витрину магазина, виден сквер с памятником императрице Екатерине, белое здание Публичной библиотеки, Гостиный двор… Солнечная сторона. Внизу двигаются без конца экипажи; слышны звонки конки; течет густая толпа по Невскому и Садовой. Бойкое место. Комната, видимо, одна из лучших в меблирушках. но всюду холостяцкий беспорядок. Коридорный вносит кипящий самовар.
— Простите, что заставил ждать. Вчера поздно вернулся и заспался.
Он поймал мой взгляд в окно.
— Пожалуй, самое шумное место в городе. Ужасный грохот, если выставить рамы. Мешает заниматься, мешает думать. Да я здесь и мало работаю, в Петербурге. У меня мастерская в деревне.
Он стоял передо мной какой-то рыхлый, несмотря на свои тридцать лет. с довольно большой лысиной, с расплывчатыми чертами лица, но в элегантном костюме, и грубое «г» (х) неожиданно выдавало его провинциальное происхождение.
Я была разочарована. Обстановка и костюм не вязались с этим выговором, как не вязалась упитанность с произведениями художника.
Я помнила у передвижников картину Богданова-Бельского «Будущий инок», сделавшуюся гвоздем выставки. О ней говорили без конца, около нее останавливались толпы, автору пророчили блестящую будущность…
Картина представляет внутренность бедной избы; на лавке перед столом слева сидит старик странник с сумон и горячо рассказывает что-то мальчику. Мальчик жадно слушает рассказы о далеких землях, о чужой природе и чужих обычаях. Он в лапотках и рубашонке, худенький, но что за лицо! Художник сумел выявить глубоко схороненный. задумчивый внутренний облик ребенка.
Я была тогда молода, мне минуло двадцать семь лет; у меня сохранились еще остатки романтических взглядов, привитых воспитанием, и мне было грустно, что творец «Будущего инока» тяжеловат, упитан, живет, «как все», в довольно пошлой обстановке и одет, как все обеспеченные люди. Особенно подчеркивало разницу сравнение с В. М. Максимовым, другим певцом деревни, живущим более чем скромно.
Но когда я взглянула пристально в глаза художнику, впечатление смягчилось: я увидела серые глаза, такие простодушные, ласковые и искренние, такие не вяжу щиеся ни с Невским проспектом, ни с щегольским костюмом, ни с плюшевой мебелью. Было в них что-то еще неуловимое, какой-то внутренний свет, который роднил его с мальчиком деревни, жадно слушавшим рассказы странника о чудных городах, монастырях, лесах и реках… Да, маленьким мальчиком он был, конечно, худенький и так же внимательно-проникновенно слушал зашедших в деревню странников о чужих краях, и такой же огонек мог светиться в этих серых простодушных глазах…
— Чем могу служить?
Я смешалась.
— У меня выходит книга… рассказы из детской жизни… И мне так хочется, чтобы вы иллюстрировали… Я принесла книгу… Вот… вы можете выбрать, что хотите…
Я чувствовала, как краснею. А вдруг он откажется и обдаст насмешкой или холодом? Ведь он— «модный» художник. Параллельно с сюжетами из деревенской жизни он пишет портреты знати. А я к нему лезу с какими-то иллюстрациями к моей жалкой детской книжонке!
И неожиданно:
— Я в сущности никогда не занимался иллюстрациями. Вам скоро надо?
— О нет… а впрочем, чем скорее, тем лучше…
— И вы много от меня хотите иллюстраций?
— Чем больше, тем лучше!
Вероятно, тон голоса слишком искренний и потому глупый. Богданов-Бельский улыбается, и улыбка сразу делает простым и добрым это лицо.
— Я очень много не могу. А если немножко?
В его тоне лукавство.
— Я за все буду благодарна.
— Ну, хорошо, дайте мне вашу книжку, а еще лучше — выберите сами два-три рассказа, которые вы считаете для меня подходящими. Зайдите… ну, скажем…— Он задумался.— Ну…
И назначил число.
— В котором часу? Удобно утром?
— Конечно, удобно.
Я оставила ему журнальные оттиски двух рассказов, распрощалась и ушла торжествуя.
ПРОГУЛКА
Первый рисунок карандашом был готов. Он мне не понравился. Мой герой, чуткий и интеллигентный мальчик, был изображен каким-то напыщенным, с одутловатым, отталкивающим лицом. Он сидел на скамейке, явно позируя, и поза была надуманная. В рисунке чувствовалась какая-то напряженность, вымученность. Николай Петрович оправдывался:
— Это первая моя иллюстрация, и никогда никому больше не буду делать рисунков.
Я пробормотала из вежливости какую-то благодарность. Через несколько дней был готов второй рисунок. Интеллигентный мальчик опять не удался; стоял какой-то деревянный, с неестественно сдвинутой на затылок шляпой и был похож скорее на куклу. Зато совсем другой оказалась фигура деревенского босоногого мальчугана. Она дышала правдой и в позе, и в выражении, и освещение было славное, солнечное.
Художник обрадовался, увидев на моем лице улыбку удовольствия, и просто принял эту радость.
— Вот и отлично, что понравилось! Да вы не присядете ли, выпили бы чайку.
За чаем он сказал, что исполнилось десятилетие его художественной деятельности. Я тут же передала ему просьбу писателя Ясинского дать портрет и автобиографию. Он обещал сняться.
Помню, что, пока готовились карточки, Николай Петрович захотел мне подарить группу передвижников, где внизу, в полулежачей позе, был снят он, совсем молодой, еще не отяжелевший. И тогда мы отправились с ним за группой в фотографию Деньера, к началу Невского.
Эта прогулка с художником хорошо запала мне в память. Прошло много лет, а я помню ее, как сейчас.
Хороший, светлый день. Зима собралась уходить; уже хочется надеть что-то полегче, освободиться от шубы и шапки.
Мы идем по солнечной стороне. Мне неловко, я чувствую себя очень смущенной в своей кофточке рядом с этим франтоватым господином в цилиндре и в пальто с иголочки с бобровым воротником. И это чувство неловкости борется с чувством гордости, когда моему спутнику кланяются на каждом шагу.
Около четырех часов. Как раз время, когда <весь Петербург», то есть вся знать, высыпает на Невский и на Большую Морскую для прогулки. Катят сани с толстыми кучерами, экипажи с английской упряжью и точно застывшими фигурами на козлах, в цилиндрах, с длинными бичами в неподвижных руках, с лакеями в ливреях на запятках; мелькают красные, синие и зеленые сетки на рысаках; мелькают блестящие кивера прогуливающихся пешком по Морской офицеров гвардии; повсюду — блеск погонов, выставка дорогих мехов. Нарядные люди раскланиваются друг с другом, точно улица — это их гостиная, где они встречаются изо дня в день, шлют друг другу улыбки и приветствия, беспрестанно раскланиваются и с моим спутником, а он едва успевает отвечать на поклоны.
— Боже мой,— вырывается у меня,— какой вы! Вас все знают!
Он пожимает плечами и снисходительно отвечает:
— Приходится сталкиваться… пишу много портретов… Здесь столько моих моделей…
Подходим к фотографии.
— Вы, Николай Петрович, говорили, что очень сильны, что гнете пальцами монеты, что хорошо бегаете, а сейчас вы выступаете так медленно, как старик. Да, впрочем, что же я,— ведь одни поклоны задерживают шаг.
Он улавливает в моих словах задор и насмешку и оправдывается:
— Разве в этой толпе возможно быстро двигаться? А вот хотите: взбежим по лестнице наперегонки?
Фотографы прежде, когда не работали при свете громадных электрических ламп, имели свои ателье высоко, в верхних этажах, и Деньер помещается не то на четвертом, не то на пятом.
Мы бежим рядом, разом хватаемся за звонок, смотрим друг на друга и смеемся.
Нам открывают. Николай Петрович спрашивает группу передвижников. Ему дают.
— Четыре рубля.
— Пожалуйста.
Он передает мне группу. Я в восторге. Получить группу из рук того, кто написал «Будущего инока»!
— Остальные рисунки не знаю, когда кончу, а вы и без них заходите поболтать.
— Конечно, конечно… спасибо…
В этот день я показываю группу Максимову и весело вспоминаю о прогулке к Деньеру.
Он смотрит на меня исподлобья своими маленькими умными глазами и насмешливо говорит:
— Та-ак… По Невскому-с изволите с Леонардо да Винчи разгуливать под обстрелом взглядов титулованных… А мой титул — только титулярный советник, и если я пойду по Невскому с вами, то мне мало кто поклонится. Этак вы, пожалуй, ко мне и дорогу забудете?
Во мне все еще трепещет радость, и мне не обидно, а только жалко, что он так обо мне думает. Я хватаю его за руку.
— Дядя Вася, милый, да разве я могу забыть к вам дорогу? Разве я когда-нибудь изменю вам?
close_page
КАК РОС ХУДОЖНИК
Самовар весело шипит на столе с наваленными в беспорядке книгами, письменными и рисовальными принадлежностями, картонкой с воротничками и галстуками. Из вазы заманчиво выглядывают великолепные фрукты.
Николай Петрович доканчивает рисунок и рассказывает.
Сколько часов я провела уже за этим столом и как знаю здесь каждую вещицу! И как люблю рассказы художника! Но трезвая мысль ставит проклятые вопросы, и впечатление раздваивается.
Вот Богданов-Бельский говорит о деревне, и я вижу эти немудреные избы, вижу полянки с красными огоньками земляники и глубь лесную, слышу рожок пастуха… И вдруг глаза падают на картонки с галстуками и воротничками. Их так много! Их слишком много… И самых лучших фирм. Николай Петрович как-то проговорился, что отдает стирать белье в шикарный бельевой магазин французу Артюру, а я сказала с легкой насмешкой, что слышала, что княгиня Абамелек-Лазарева, портрет которой он недавно писал, отсылает стирать белье в Париж. И опять он заметил:
— Экая вы задира!
Он поставил рядом с чашкой дымящегося чая шкатулку с фотографиями. Здесь, средн светских дам и мужчин, он сам в безукоризненном фраке. Есть фотографии и его смоленского имения Татева, с его мастерской; есть фотографии деревенских друзей и его воспитателя Сергея Александровича Рачинского.
Мастерская огромная, обставленная, впрочем, довольно шаблонно. Оригинальностью является дверная арка в мавританском стиле.
— Что это?
— Это изделие нашего тульского самородка — крестьянина. Она была на выставке в Чикаго, а я ее купил для моей мастерской.
— А это? Почему?
Вопрос нелепый, и он краснеет. Он понимает, каким диссонансом для меня является его портрет в группе разряженных дам и военных, в центре которой старая императрица Мария Федоровна. У меня вырывается:
— Леонардо да Винчи — придворный художник.
— Среди своих заказчиков,— поправляет Богданов- Бельский.— Я тогда писал портрет государыни, и вы не можете себе представить, как я не люблю эти официальные портреты. Но я за них получаю очень большие деньги. Вот и приходится приезжать в Петербург, набирать заказы у богатых и знатных людей и, обеспечив себя, возвращаться в деревню работать над тем, что по сердцу.
— Но мне кажется, в ваши портреты вы тоже вносите много характерного.— говорю я.— Вот, например, портрет министра Воронцова-Дашкова. Вы показали эту самодовольную сытость богатого помещика, окруженного своими великолепно возделанными полями!
— Я совсем не собирался воплотить эту идею,— раздается голос художника.— Я очень хорошо отношусь к князю. Он прекрасный человек.
Я молчу…
— А над Леонардо вы не смейтесь. Я сейчас объясню. Леонардо меня прозвали не только потому, что я гну монеты и работаю кистью, но и потому, что я пою, у. меня приличный баритон…
Приличный! Это сказано скромно. У Николая Петровича прекрасный голос, он выступал на многих благотворительных концертах.
В это время раздается гулкий удар церковного колокола. Еще и еще… Звонят близко, в Казанском соборе. Вместе со свежим воздухом в чуть приоткрытую форточку врывается гул многих колоколов…
Сегодня канун благовещения; кончается всенощная.
— Я очень люблю этот вечер,— говорит Николаи Петрович.— Он мне напоминает детство, нашу простую церковь и простую жизнь.
И опять в глазах его появляется мягкое, ясное выражение.
— И пение церковное люблю. Я пел дома в церкви с деревенскими товарищами…
Колокол гудел. В окно смотрело бледное небо, и, закрыв глаза, можно было особенно ярко почувствовать мартовскую свежесть подтаявшего снега и близость весны.
Звон колокола будил в художнике воспоминания. Николай Петрович говорил тихим, задушевным голосом.
— Вы знаете мою историю? Я ведь — от земли. Отца не видал: я незаконнорожденный сын бедной^бобылки, оттого Богданов, а Бельским стал от имени уезда. Был пастушонком, и не очень-то меня баловала жизнь. 1 олько и видел радости — у бабки. Славная старушка, сказочница. Приласкает, небылиц наговорит всяких, присказок, сколько песен споет! У нее и выплачешься вволю. На дорогу меня вывел вот он,— художник указал на бритое лицо старика на одной из фотографий,— Рачинский. Удивительный человек, учитель жизни. Я всем, всем ему обязан.
Он задумался.
— У вас Рачинский фигурирует на картине,— сказала я, вспомнив «Воскресное чтение в школе».
— Да… Сергей Александрович — богатый человек, владелец большого поместья и в то же время ученый, профессор ботаники. Он заколотил часть дома и живет очень скромно. На свой счет выстроил школу и, отказавшись от кафедры, плотно засел в деревне, посвятив себя делу народного образования. Из таких, как я, бездомни- ков он собрал обитателей для своего общежития. Ведь многие ходили в его школу из дальних деревень, а это очень трудно, особенно в осеннюю и зимнюю стужу. И как же меняется сухое на первый взгляд лицо учителя, когда детвора окружает его со всех сторон и забрасывает вопросами: «Будем заниматься или станете рассказывать?», «Будем задачи решать?», «Мне дайте задачку!», «Мне упражнение на именованные числа!», «Мне деленьице!», «Мне на сотни!», «А мне на тысячи!» Глаза так и сияют у ребят, и у Сергея Александровича улыбка радостная, простодушная, совсем как у ребенка. Хоры устраивает; в теплице ведет беседы о растениях… Он — наша совесть. В его присутствии в деревне ни один из нас не решится на какой-нибудь дурной поступок. Мы, ученики, при нем очищаемся от наших пороков, мы становимся чистыми детьми…
Он говорил восторженно:
— Я всем ему обязан, и тем, что сделался художником. Маленьким мальчиком в школе я нарисовал на пробу нашу колокольню. А потом дьякона. Сказали: «И дьякон и колокольня совсем как настоящие». Тогда Сергей Александрович задумался, не следует ли меня учить специально живописи, и, после долгого размышления, тринадцатилетним мальчиком отдал в иконописную мастерскую при Троицко-Сергиевской лавре.
— В монастырь?
— В монастырь.
— Но зачем же непременно в монастырь?
— Сергей Александрович религиозен. И нас воспитал в религиозном духе. Он даже сам совершал с нами, школьниками, паломничество в Нилову пустынь, на озеро Селигер.
— На Селигер? — встрепенулась я.— Отлично знаю эти места. Там я жила два лета у тетки в имении Неприе, только в четырех верстах от монастыря.
— Знаю и Неприе. На берегу озера дом бордо, с заплетенными виноградом террасами, а в палисаднике — розы и пионы, такая масса, что, когда проезжаешь на пароходе мимо, издали чувствуешь аромат. Красота! Озеро — красиво, монастырь — красив. Белый-белый, над серебряной бескрайной гладью… И всюду островки зеленые, мурава бархатная… Я тогда уже был любимым учеником Рачинского, когда мы туда ездили. Учитель написал об этой поездке воспоминания, даже издал их. Они у меня есть,— да вот они, возьмите, если хотите, прочитайте. Эта поездка — как свежий сладкий сон.
Он протянул мне книгу. Я перелистала. Со страниц беспрестанно мелькало имя Николя.
— Кто это Николя?
— А это я. Он меня всегда так называет.
— А что же было дальше, Николай Петрович?
— Дальше мой путь? Думаете, я прямо от Троицы да на выставку попал? — засмеялся художник.— Дело было сложнее, гораздо сложнее. В монастыре я писал иконы, но писал и портреты монахов. По два рубля платили. И стали меня расхваливать. Говорят — талант. Ну, тогда Сергей Александрович опять задумался: нельзя же оставить меня богомазом, если я талант. И поместил меня в Школу живописи и ваяния в Москве.
Он разговорился; слова лились плавно, легко, свободно, точно он хотел во что бы то ни стало высказаться-
— Вы небось удивляетесь, что я так все сразу вам и выкладываю? Ах, голубчик, это потому, что мне очень просто с вами. Я вам сейчас расскажу и то, как я сделался художником деревенской бедноты, художником школьной бедноты. Ведь я должен был стать или маринистом, или пейзажистом. К тому шел. А в душе было что-то другое.
Он замолчал, точно заглядывая в глубь прошлого.
— За свои наброски я получал в школе первые номера, что означало большой успех. Но я думал, что все это не то, не то… Глядя на свои этюды русской природы, которыми кругом восхищались, я думал, что в них нет главного — души. И мне казалось, что я еще не нашел своей настоящей дороги. Уныло смотрел я на подрамники с начатыми работами. Случалось, мне говорили, что часто сам художник не может быть судьей своих произведений. Некоторые пейзажисты высказывались так: «Чего стоит жизнь кучки людей перед могучей жизнью природы?»

С картины М. П. Богданова-Бельского. Масло.
Наступили последние месяцы моего пребывания в школе. Товарищи спрашивали: «Что ты готовишь для окончания?» А я отвечал всегда одно и то же: «Не знаю». Они думали, что я рисуюсь, а я говорил правду. В моей голове не родилось ничего значительного. Я решительно не знал, что напишу. В душе все время звучал назойливый голос: «Все это не то… все не то… во всем, созданном мной, нет души». Меня тянуло в деревню. Мне казалось, там я напишу что-то значительное, нужное. И я уехал… Учитель встретил меня радостно; родная деревня, приветливая, своя, казалось, согрела мне сердце, но темы я не нащел. Я смотрел на природу, на людей, а темы не было. Тот же звон детских голосов в школе, то же кипенье, что в пчелином улье: «Мне, Сергей Александрович, задачу на деленьице!», «Мне на умножение!» Я смотрел в оживленные детские лица, в задумчивое лицо учителя, а темы не находил. Рачинский понял мое состояние со свойственной ему чуткостью. И раз сказал: «А ну, попробуем». Он и натолкнул меня тогда на тему «Будущий инок». Это было такое знакомое, такое близкое… Странники с их рассказами о далеких селах и городах постоянно заходят в крестьянские избы на ночлег и рассказывают без конца. Сам я не раз заслушивался этих рассказов. А проникновенность выражения мальчика была такой естественной… Есть у нас этакие мальчики-мечтатели. Я и сам был таким. И учитель помог во всем — в обстановке, в выборе натуры. Как я стал работать! Как страстно стал работать! В душе воскресало все, чем я жил долгие годы детства и отрочества в деревне, что было для меня необходимо. Перед концом работы у меня сделался даже обморок…
Он помолчал, вспоминая:
— Когда деревенские друзья мои увидели картину, похвалам не было конца. И учитель смотрел именинником. Еще бы, картина была обязана своим появлением всецело ему. Но я приуныл. Как вернуться с жанровой картиной в школу? Как выставить жанр, когда от меня ждут пейзажа? И сразу картина поблекла, потускнела в моих глазах. Я ничего не сказал Сергею Александровичу, когда собрался ехать, уложив тщательно упакованного «Будущего инока» в сани; лошадь тронула, и я в последний раз увидел дорогое лицо учителя, кивавшего мне с подъезда на прощанье: «Счастливый путь, Николя!» А я думал о несчастном пути. Я думал, как было бы хорошо, если бы картина погибла. Разве не бывает случайностей? Дорогой сани могут налететь на что-нибудь, и холст разорвется; вынимая из саней картину, можно повредить иначе; наконец, в вагоне ее могут украсть, или может случиться еще что-нибудь невероятное в этом роде… И, как бы угадывая мои мысли, картина выпрыгнула из саней и осталась на дороге.
— Выпрыгнула?—засмеялась я.
Он тоже засмеялся.
— Именно выпрыгнула. Кто ее знает, как она выпала из саней. Одним словом, мы ее потеряли, и пришлось возвращаться довольно далеко. И все-таки нашли и благополучно доставили на место. Ну и началась в школе кутерьма! Ну и было и удивление и возмущение! Но все- таки картину я выставил. Ее купили; мне тут же заказали два повторения… Картину вы знаете. Ох, и заболтался же я… А сделать — ничего не сделал. Знаете, мне, по правде сказать, легче было бы написать ваш портрет, чем делать эти рисунки. Не умею я иллюстрировать. Никогда ничего не иллюстрировал. Вы сказали, что моя картинка «За книжкой» по типу подходит к вашему рассказу «Фигурка»; ну, я добросовестно и ходил для вас на передвижную выставку, пока не было публики, и рисовал с нее карандашом. Честное слово, для вас вставал в семь часов… А вот когда вы мне принесли снимок из «Нивы», где я должен срисовать своего же мальчика в сенном сарае за слушанием сказок,— это уж, извините, сложнее. Беда в том, что я не умею рисовать без натуры, не могу ничего создать на память, и это мне мучительно. Посудите сами: в сарае мельник сидит, подавшись вперед. Поза естественная, когда прислушивается. А к тексту это не идет. Выходит какой-то горбатый… Нужно оправдать обстановкой, а где я ее возьму? По вашему заказу позади я сделал пень, а кругом — траву, и посмотрите, какая дрянь получилась. Я сейчас разорву…
Он сделал движение, чтобы разорвать рисунок. Я вскочила.
— Николаи Петрович, что вы делаете? Прошу вас!
Он засмеялся.
— Хорошо. Я потратил на этот рисунок весь вечер, но раз дело дошло до таких огорчений, я не разорву его, хотя с условием, что в печать он не пойдет и останется у вас на память.
Я взяла рисунок. Я благодарила.
Часы пробили два раза. Два часа ночи! Это с семи часов до двух мы просидели, и я не заметила времени.
— Прощайте, спасибо. Как поздно!
— Я провожу вас. /
— Не надо, пожалуйста, не надо, у подъезда — извозчики. Пожалуйста… не надо!
Я рассказала об этом вечере Максимову.
Максимов говорил:
— Так-то лучше, когда окунешься в воспоминания о деревне. Чище будешь. Художник он талантливый, что говорить, а человек… слабый. Как он забывает хорошую русскую пословицу: «Не в свои сани не садись». А то — императрица, а то — придворные дамы, а то — галстуки и фраки! Я знаю доподлинно: он купил себе книгу «хорошего тона», изучал ее и по ней учился танцевать и шаркать в гостиных.
close_page
МЕЧТЫ
Это была тяжелая полоса моей жизни. Разойдясь с мужем и оставшись с маленькой, грудной дочкой на руках, я осталась в то же время без средств и без документов,— главное, без документов. У меня не было бумаг не только об образовательном цензе, но даже паспорта. Мало этого: муж требовал меня по этапу… Я подавала всюду прошения о паспорте; дело мое тянулось около шести лет; я жила по полицейским трехмесячным отсрочкам и должна была являться на допрос в участок, «почему и отчего», прежде чем получить новую отсрочку, сопровождаемую всегда угрозами отправить насильно к мужу. Приходилось биться с жестокой нуждой; я не могла по ступить без документов на службу и жила ручной перепиской у частных лиц (пишущих машинок тогда еще не было), а в промежутках между работой писала свое и не успела еще завоевать положения в литературе. Сборник биографий, который в это время был взят для издания О. Н. Поповой, являлся первой большой книгой и одним из значительных этапов в моей жизни.
Параллельно я переживала тяжелую драму с отцом, умиравшим от злейшей чахотки на руках у грубой и некультурной женщины, с которой он связал судьбу.
Раз я зашла к Николаю Петровичу тотчас же после посещения участка в совершенно растерянном состоянии. На его расспросы, что со мною, не могла молчать и поведала ему все свое горе. Он в волнении заходил по комнате.
— Это все уладится, уверяю вас. Паспорт получите. Я же могу предложить вам выход, простой и отличный выход. Вы отдохнете от всех перипетий вашей жизни. Вы никогда не были за границей?
— Нет. ~
— Знаете, подождите. Я устрою вам поездку. Это совсем нетрудно…
— За границу! Какие для этого нужны деньги!
— Пустяки. Вы вот писали биографию Микель- анжело, вы интересовались Италией. Можно вас устроить в Италии, и совсем недорого. С дочкой, конечно. Для этого мне надо будет поработать только две недели… взять заказ портрета… и поездка ваша обеспечена.
— Николай Петрович, с какой стати я поеду на ваш счет?
— Не на мой счет, а за счет моего труда, способностей, которые я не сам создал, а создала природа. Голубчик, надо смотреть на жизнь проще… Ну, а если бы я был ваш брат, что бы вы тогда сказали? Ведь по существу я вроде как ваш брат. Мы так сдружились за это время. И не смейте раздумывать! — И неожиданно сразу: А знаете… Сергеи Александрович очень любит поэта Хомякова.
— Славянофила?
Да. Он меня, научил одному романсу. Я вам спою. Это кстати. Слушайте.
И своим мягким баритоном он запел:
Подвиг есть в сраженье, Подвиг есть в борьбе; Но самый высший подвиг В терпенье, в любви, в мольбе…
— В терпенье, слышите! И не смейте унывать!
Я не решилась просить его похлопотать у власть имущих в «высших кругах» о выдаче мне постоянного паспорта.
Он точно угадал мои мысли, но повернул вопрос в другую сторону.
— А если долго будут тянуть с паспортом, я вас укрою у себя в Татеве, в моем имении. Кто вас там найдет? В самом деле, у меня давно родилась мысль устроить в Татеве культурный уголок, поставив ряд домиков для друзей. Вы и начнете поселок. Я вам выстрою славную избушку-пятистенку. Довольно будет места для вас с дочкой? Можно будет поселить с вами мою старушку бабушку. Какая она занятная! Какая сказочница! Будет чему поучиться насчет смоленского фольклора. Она вас станет развлекать, и вы полюбите друг друга. В моем доме будем сходиться за беседой, за чтением, будут музицировать, кто во что горазд. В часы досуга я спою хорошие вещи. У меня довольно большая библиотека. Накупим еще книг… Славная будет жизнь, а, сестренка?
Мне казалось, что все это сон, прекрасный, но несбыточный. Разве просто выполнить такой план? Я помнила, как в первый год после разрыва скрывалась от мужа возле Луги в деревушке и как меня тогда извел урядник, требуя «документа на право жительства». Как жить без паспорта?..
ПАНИХИДА
Отец умер. Умер в ужасных условиях, замученный и одинокий. А полиция грозила, что я в последний раз получаю отсрочку…
В самом мрачном настроении пришла я к Богданову- Бельскому. Он ахнул, увидев на мне глубокий траур.
Я была, как в бреду, говорила бессвязно, в чем-то, кажется, извинялась и, не в силах удержать слез, убежала.
Что я говорила? Что жить невозможно, что жизнь жестокая, бессмысленная каторга…
От Богданова-Бельского я поехала на вечернюю панихиду по отцу. Там было много народу; съехались все родственники, которые при жизни избегали отца и теперь говорили со вздохом, как всегда, о «чудаке», ушедшем из аристократического круга в театральную богему. Родственники снисходительно косились на простой гроб и вертевшихся возле двух маленьких детей; брезгливо косились на их мать, которая нарочно громко выкрикивала, не стесняясь посторонних, упреки покойнику, а он лежал такой неподвижный, и ему незачем было уже защищаться от ее нападок. Тут же стояла моя мать, смотря кротким взглядом на человека в гробу, бурная натура которого сломала его и ее жизнь.
Возгласы священника и дьячка, «вечная память», клубы кадильного дыма… В синей мгле движется монашенка со свечами, приглашенная читать псалтырь… Принесли венок от товарищей по сцене, актеров Александринского театра. Все говорят здесь шепотом…
Панихида кончена; священник с дьячком ушли; монашенка занимает свое место у изголовья и листает псалтырь. Начинают прощаться и знакомые. Завтра похороны…
Вдруг сильный звонок у двери. Я слышу знакомый голос, произносящий мое имя. Сожительница отца с поджатыми выразительно губами появляется на пороге и объявляет:
— Какой-то господин вас спрашивает… и очень расстроенный…
Это заявление производит сенсацию. Такую бы сенсацию произвел, наверное, полицейский, если бы он объявил, что пришел меня арестовать. Я слышу кругом перешептывание, из которого мне ясно, что присутствующие шокированы.
Но еще больше все возмущаются, когда слышат голос явившегося «господина», в самом деле очень взволнованный:
— Я вас очень прошу сейчас же ехать со мной…
— Куда?
— Ко мне, конечно, ко мне. Я вас очень прошу.
И, к ужасу окружающих, я не протестую против этого «сумасбродного» приглашения, я послушно одеваюсь и, ни с кем не простившись, ухожу.
Николай Петрович не сумасброден. Он только не считается с условностями, когда дело идет о чем-нибудь серьезном в жизни. В такие минуты все наносное слетает с него, как ненужная шелуха: он забывает о светских гостиных и о «хорошем тоне»…
— Извозчик ждет. Я нанял его по часам.
— Боже мой, как вы узнали, где я? Как узнали адрес отца?
— Когда вы ушли, я смотрел в окно, и мне показалось, что вы пошли к Казанскому собору. Я подумал, что это, может быть, связано с похоронами, а потом, потом думал другое… У вас был такой вид! Голубчик, такой вид, как у человека, который решил покончить счеты с жизнью. И я подумал: а что, если, доведенная до отчаяния, она наложит на себя руки?! Как могу я до этого допустить? Тогда я и бросился за вами… Я знал ваш адрес и полетел к вам, а у вас уже мне сообщили, что вы на панихиде, и указали где. Вот и все. Голубчик, вам нельзя в такое время оставаться одной. Я должен вам доказать, что жизнь еще имеет цену… Едемте. Извозчик, поторопись, пожалуйста, скорее! Все минует, все минует, право, и жизнь вам еще улыбнется…
Наконец знакомый дом, знакомый подъезд. Какой уютной, родной показалась мне эта шаблонная меблированная комната… Как чудесно шипел самовар… И сколько сердечных слов утешения я слышала в этот апрельский вечер!..
Николай Петрович утешал меня, как взрослый утешает обиженного ребенка. Он старался даже смешить, надевая на голову какие-то шарфы, вроде чалмы, и говоря о путешествиях в далекие жаркие страны. Он пел, опять рассказывал о своем Татеве, о своем детстве…
— Пора домой,— сказала я, наконец, и поднялась, вздыхая.— Завтра похороны.
— Смотрите, будьте бодры…
close_page
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
Рассказывать дальше трудно. Жизнь надломила меня. Я смертельно устала и от борьбы и от терпения. И, вспоминая слова любимого романса Богданова-Бельского, чувствовала, что не могу и не хочу совершать подвиги терпения.
Я заболела тяжело и мучительно, заболела нервно сразу после похорон отца, потом уехала отдохнуть на Волгу, а когда осенью вернулась, Николая Петровича уже не было в Петербурге.
Встреча с ним дала толчок написать повесть для юношества «От земли», в которой под именем художника Николая Бобыльского или «Бобылька» я вывела Богданова-Бельского.
Мы не виделись несколько лет. Я слышала, что он женился, был очень несчастлив и разошелся с женой, и вспоминала невольно, как он, смеясь, говаривал:
— Знаете, я сегодня видел ужасный сон — будто я женился…
«Ужасный» сон сбылся наяву…
На выставках появлялись полотна Богданова-Бельского, и я без волнения не могла на них смотреть, не могла не желать ему горячо успеха. Впрочем, меня не удовлетворяли его работы. Мне казалось, что он не оправдал надежд, что он утратил свежесть ранних своих картин, что он повторяется, впадает в шаблон.
Потом тематика резко переменилась: появились «профили», «спинки», обнаженные женские фигуры…
В последний раз я видела Николая Петровича приблизительно в 1908—1910 годах. Мне хотелось дать заработок одной нуждающейся женщине, у которой, на мой взгляд, было интересное лицо. Я написала Богданову- Бельскому, прося меня принять.
Он сейчас же откликнулся. Записка ко мне была на великолепной английской бумаге с шероховатыми краями.
Не помню точно, где он жил: что-то в районе Кироч ной, Захарьевской, Сергиевской — в одном из аристократических кварталов.
Изящная горничная провела меня в мастерскую-кабинет. Полотна на стенах, на мольбертах. Много «спинок». Этюды. Прекрасная, комфортабельная комната. На письменном столе, возле которого я сидела, набросано много почтовой бумаги с начатыми заголовками писем. Знакомый размашистый почерк. Письма были ко мне: бросилось в глаза мое имя. Очевидно, он не знал, как начать, как выразить свою мысль, начинал и не кончал. Он вообще плохо владел пером.
Вышел ко мне Николай Петрович сильно постаревший, обрюзгший, с усталым лицом человека, которому надоела жизнь. Пригласил меня в столовую.
Столовая в русском стиле, всюду резьба. Претенциозно и неоригинально. Подали чай. Изящный сервиз, изящные салфеточки. Невольно вспомнилась большая квадратная комната — «меблирушка» на Невском проспекте и разнокалиберная чайная посуда, принесенная неряшливым коридорным.
Поговорили о деле, которое привело меня к нему. Он взял адрес натуры и обещал использовать ее для будущей работы. У него как будто намечалась картина, где нужна такая модель.
Художник вежливо спросил меня о моей жизни, о занятиях. Я спросила с интересом о Татеве.
— Ах, я туда больше почти не езжу,— отвечал он кисло и, чуть помолчав: — Вы знаете, в меня стреляли крестьяне.
— В вас?
— В меня. В окно. Это было после девятого января…
— Почему же в вас стреляли?
— Аграрные беспорядки. Конечно, не свои стреляли, а чужие, из чужих деревень. Чужие приходили к нам, наши шли в чужие уезды. Так ведь было во многих местах.
Я больше не спрашивала. Мне больше не о чем было спрашивать…
КЛОДТОВСКИЕ ЧЕТВЕРГИ
— А не разберем ли мы вместе с вами архив отца? — обратился ко мне раз художник Михаил Петрович Клодт.
— Я мечтала об этом, только… какой же я архивный работник?
— Такой же, как и я,— с комическим вздохом отозвался Клодт,— а сделать это надо. Отец мой все же величина приметная.
Он стоял передо мной, маленький, с седой головой и красивым лицом маркиза. Пиджак был снят; два пальца засунуты за проймы жилета; грудь неровно поднималась. Он только что кончил смешной «чухонский» танец.
— Правду, Васенька, я говорю, а?
— Правду, Мишенька… Райвола, Териоки, Муста- мяки, юмалака, ака, ака. ака… стоп!—бормотал бессвязно именинник Василий Максимович Максимов.
Это были знакомые бессмысленные якобы финские слова, перемешанные с названиями станций Финляндской железной дороги. Максимов порядочно-таки нагрузился. На столе в беспорядке стояли тарелки с остатками закусок, в стаканах золотилось недопитое пиво.
— Перкярви, юкки, ярви, ярви… стоп! Дай, Мишенька, я тебя поцелую! Все гости удрали, один ты остался дольше всех! Ты—верный друг, а что ты хо чешь мою «третью дочку» Маргариту приблизить к хорошему делу, одобряю и благословляю!
И Максимов снова полез к Клодту целоваться. Кудрявая, чуть тронутая сединой русая шевелюра Максимова отбрасывала огромную тень на белые обои бедно обставленной комнаты. Максимов сделал широкий жест рукой и немного пафосно докончил:
— Я тебя, Миша, ценю. Ты не то, что все эти модные художники, а я не научился набивать себе цену и выгодно продавать данное мне от природы мужицкое дарование. Ты вот видишь все мое этакое… сермяжное, а сам живешь в чудесной квартире и не брезгаешь есть из наших облезлых тарелок…
— Перестань, Василий Максимович, прибедняться,— с дрожью в голосе остановила художника жена.— Кто тебя не признает? Откуда ты это взял?
Клодт обернулся ко мне:
— Так по рукам?
Я протянула ему руку.
— Вам удобны четверги? Вечерами по четвергам я свободен; приходите ко мне в эти дни… вот адрес…
Михаил Петрович много лет уже жил на Васильевском острове в нижнем этаже солидного дома Елисеева и занимал большую квартиру с окнами на набережную Невки. Меня с ним разделял почти только один Тучков мост.
В первый же четверг я была у Клодта. Открыла мне старушка прислуга и проводила в кабинет Михаила Петровича.
Квартира была комфортабельная, но несколько мрачная, обставленная старинной мебелью. Со стен смотрели полотна исторических картин Клодта, как я потом поняла, не нашедшие подходящего покупателя, и рамки всевозможных форматов с рисунками, фотографиями, акварелями; множество силуэтов. От всей обстановки веяло далеким прошлым.
Послышалось шлепанье туфель, и в дверях показалась знакомая фигура с острой французской седеющей бородкой, в старенькой опрятной куртке.
— Ишь какая аккуратная,— сказал он с улыбкой, приветливо протягивая мне руку.— Вижу, и папочку с бумагой принесли, а карандаши не доставайте: у меня найдутся, и в изрядном количестве, к тому же хорошо очиненные,— ваш же крестный отец, а мой учитель рисования, готовивший меня в академию, Агин, научил артистически их чинить. Располагайтесь, как вам удобнее, и будем беседовать. Осматриваете обиталище одинокого вдовца? Пустынно и просторно, слишком просторно для одного. Хожу из комнаты в комнату и прислушиваюсь к своим шагам. Навещают, впрочем, иногда друзья и сын с дочкой, а больше все один со своей старухой,— тишина и скука. Неизменны только старые товарищи труда и досуга — все эти вещи. Каждая имеет свою памятку, свою историю и дорога мне потому, что, взглянув на нее, я сразу переношусь за много, много лет назад, когда в этих комнатах кипела молодая жизнь и звенел смех, когда дочка весело вальсировала на наших доморощенных вечерах и я советовался с женой о ее будущем… И еще раньше, когда она и сын малышами требовали от меня веселых картинок и разбрасывали по всем столам свои игрушки… Ах, все это давно уплыло! А теперь вот принимаемся за еще более старое прошлое, всколыхнем жизнь отца, которому сейчас было бы около ста лет,— ведь он родился в тысяча восемьсот пятом году…
Художник открывал один за другим ящики старого темного бюро и вытаскивал пожелтевшие бумаги, письма, клочки исписанной бумаги с поблекшими строками, наброски пером и карандашом, силуэты людей, еще чаще силуэты лошадей; на колени Клодту упал небольшой альбом в переплете, в нем мелькнули акварели. А со стены на меня смотрел карандашный рисунок — мужское лицо с густыми, как у Михаила Петровича, бровями, но некрасивое, хотя симпатичное и выразительное, с растрепанными короткими волосами ежиком и большими темными глазами. Человек этот был одет весьма небрежно в белую рубашку и жилетку.
— Вот мой отец,—сказал Михаил Петрович —Он никогда не был щеголем и всегда ходил дома в этакой жилетке, проклиная судьбу, когда приходилось одеваться, как подобает «персоне». Такая неказистость или скром ность — назовите, как хотите,— была причиной многих курьезных случаев с отцом, из которых мне вспоминаются сейчас два.
Он помолчал, задумчиво глядя на портрет, и продолжал с мягкой улыбкой:
— Не помню, в каком это году случилось, но отец тогда был уже известным скульптором и имел всякие знаки отличия. Другой был бы преисполнен невесть какой важности, только не он. Он так же скромно одевался и часто носил куртки с заплатами на локтях, стол имел такой же простой и ходил со мной в такие бани, где бывали люди самого среднего достатка. Раз, помню, мы встретили в раздевальной этой бани двух мелких чиновников, оживленно разговаривавших о «знаменитом скульпторе Клодте». Один с апломбом говорил другому: «Знаю я, хорошо знаю этого самого барона — очень важная, представительная особа, действительный статский советник, работает в своей мастерской всегда при всех орденах и в вицмундире». Отец и глазом не моргнул, только тихонько подталкивал меня, а я давился от смеха,— ведь эти чиновники не хотели даже подвинуться, чтобы дать место, и отец скромно одевался, сидя на краешке скамейки.
close_page
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ЧУДАЧЕСТВО
Михаил Петрович засмеялся и мягко, каким-то умиленным голосом продолжал:
— А то припоминается другой характерный случай. Отец устанавливает с плотником и кузнецом в мастерской железную основу для памятника Николаю Первому, того, знаете, что у Исаакия, у Синего моста. Жили мы в Академии художеств, и в мастерскую вела лестница прямо со двора. Мы находились в мастерской с братом Александром, а с нами наш сверстник и товарищ Павел Александрович Брюллов, сын архитектора. Стоим в сторонке и посматриваем, как прилаживается «скелет» для скульптуры. Вы пишете?
— Пишу, Михаил Петрович.
— Ну вот и пишите… Вдруг — скрип лестницы. «Кого это бог дает?» — шепчет Павел Александрович, и мы с братом переглядываемся, потому что знаем, что он думает, да и сами мы это думаем: неладно, что отец стоит, как всегда, в своей «безрукавке»; рубашка с засученными рукавами в глине и пыли, а ноги тонут в бесформенных панталонах, из-под которых выглядывают неуклюжие сапоги. Что, если это поинтересовался его работой кто-нибудь из власть имущих, может быть даже из царской фамилии? Слышим, звенят шпоры… женский легкий смех, французская речь… Ну, так и есть… Советовать отцу, чтобы привел себя в порядок, бесполезно: ни для кого из гостей он не нарушал своих привычек и никогда не переодевался в таких случаях, говоря: «Есть мне когда этим заниматься! Я человек рабочий, не до китайских мне церемоний!» Ну вот, дверь открывается, и на пороге — блестящий гвардейский офицер под руку с дамой. Тогда в большом свете было в обычае посещение студий знаменитостей, и придворный офицер приехал с женой к отцу. Нарядная дама, опустив лорнет, недоуменно посмотрела на своего спутника и разочарованно спросила: «Туда ли мы попали, мой друг?» Вместо ответа офицер спросил нас, молодежь: «А где же барон?» Мы давились от смеха. Павел Александрович сказал: «Барон устанавливает каркас». Офицер пожал плечами и наклонился к даме: «Какие неуместные шутки!» «Говорят, академическая молодежь отличается дерзостями!»— подхватила дама. Мы скорее ретировались и, уходя, видели, что отец заметил гостей и крикнул, выглядывая из-за каркаса: «Простите, вы, кажется, хотели видеть меня, скульптора Клодта? Я сейчас, только покажу рабочим, как еще подвинуть основу».
Михаил Петрович рассказывал эту историю с улыбкой. Он был очень привязан к отцу.
— Отец был чудак, но какой милый чудак! Недаром же его так любили все, кому приходилось с ним сталкиваться. Не любили только нечестные люди и интриганы.
Художник достал из бюро пачку писем и бумажек, вынул один листок и добавил:
— Здесь вся наша родословная. Дома разберете, только потом, голубчик, не забудьте мне вернуть. Это может пригодиться как материал для полной биографии моего отца, но сейчас не будем копаться в датах родословных— это немножко скучно; лучше вспомним другое…
Я подхватила:
— Да, да… может быть, я не совсем права, но меня в таких случаях занимают не даты и часто даже не столько внешние события, как образ, переживания, быт, психологическое развитие личности выдающегося человека… Может быть, я не права, но…
Художник дружески положил руку мне на плечо.
— Не так страстно высказывайте эти положения. Они не всегда верны. Как не ставить в угол зрения даты и события? Цифры часто играют большую роль. Это, матушка, своего рода математика, и от этих цифр, от особого «промера» часто зависит судьба художественного произведения, особенно у скульптора. Вон отец мой раз выиграл «художественный» спор только благодаря математическим вычислениям, когда императору Александру Второму приближенные умники доложили, что восковая модель памятника Николаю Первому, которую он привез показать во дворец, никуда не годится, имея опору только на двух ногах, что она не может держаться, а мы ее и сейчас видим, эту статую, благополучно украшающую Исаакиевскую площадь. И если бы отец не доказал тогда своими вычислениями, сделанными совместно с братом- артиллеристом и племянником, император, наверное, забраковал бы модель.
Он засмеялся и, слегка прищурив большие серые глаза, лукаво-добродушно добавил:
— Но, по правде сказать, я, подобно вам, не очень большой поклонник этой самой «цифири», и, когда вспоминаю о прошлом, мне гораздо ближе сердцу милые картинки быта, где ярко встают образы, которые я любил и которые ушли навсегда…
Он задумался.
— Ах, что, бишь, я хотел рассказать? О «наследственных чудачествах»? О чудачествах и простоте деда? Пожалуй, стоит рассказать… Он с бабушкой Елизаветой Яковлевной жил очень патриархально, был довольно образован по тому времени, умел чертить и рисовать, играл на виолончели и чувствовал склонность к математическим наукам. От своих предков он унаследовал необыкновенное спокойствие, терпение и хладнокровие, а о флегматичном его характере ходило немало забавных анекдотов. Не раз в детстве я слышал от отца рассказы о том, как во время французской кампании, ночью, когда денщики торопили деда поскорее одеваться, потому что приближается неприятель, дед продолжал спокойно застегивать мундир на все пуговицы, потом напился кофе и, когда французы были уже совсем близко, сел на лошадь под неприятельскими пулями и невозмутимо ускакал.
— Это доказывает его бесстрашие, но вы хотели провести параллель между его простотой и небрежностью во внешности,— сказала я.
— Сейчас, сейчас, имейте терпение.
На пороге появилась его пожилая домоправительница. — Чай готов, Михаил Петрович… пожалуйте… Художник поднялся.
— Надо идти. Во-первых,— он указал вслед домоправительнице,— она устала за день и законно хочет на боковую, а во-вторых, она очень строго держит у меня порядок и не любит, когда стынет самовар.
— Давно она у вас живет?
Он вздохнул.
— Ох, много лет и знает все мои привычки… Хорошая женщина, но все же мне вдвоем с нею в этакой-то квартирище бывает до смерти тоскливо. Пойдемте пока пить чай, а там «повоспоминаем» еще.
Большая уютная столовая старого типа. Так и кажется, что откуда-то раздадутся детские голоса, женский смех, и большая семья усядется за стол под висячую светлую лампу.
Самовар пел свою однообразную песню; посуда блестела; рядом с сухарницей, наполненной печеньем и сладкими булками, стояло блюдо с бутербродами, а в сверкающем граненом кувшине под крышкой пенился квас.
— Садитесь, похозяйничайте,— сказал Михаил Петрович,— дайте вспомнить время, когда здесь сидела моя дочка, которая давно вылетела из гнезда. И кушайте. Да не хотите ли квасу? Моя домоправительница большая мастерица делать квас, а я большой любитель русского хлебного кваса и ни одного дня не пропускаю, чтобы его не было на столе…
После чая мы опять вернулись в кабинет. Проходили через темную мастерскую. В открытую дверь врывался свет из столовой, смутно намечались полотна больших картин, мелькали черные клобуки, разноцветные древне* русские кафтаны и ферязи; мелькали колеты, камзолы и плащи эпохи Возрождения. Я не останавливалась и не расспрашивала: еще от Максимова мне было известно, что у Михаила Петровича много непроданных картин, что порою он очень нуждается, хотя и занимает место реставратора Эрмитажа и получает, кроме того, майоратную пенсию за отца. Я слышала даже, что потихоньку от товарищей Михаил Петрович берет заказы на этикетки не то из конфетных, не то из табачных фабрик. Максимов говорил: «Для себя бы у него хватило жалованья и майората, а вот избаловал сына и дочь, особенно свою Лялечку — куколку, нарядницу… Вышла замуж, а мужниного достатка не хватает…»
— Вы еще можете «повоспоминать» хоть немного? — спрашивает меня Михаил Петрович.
— Могу, хотя уже поздно.
— На чем мы остановились? Ах, да, на простоте и чудачестве деда, переданных по наследству отцу. В тысяча восемьсот пятнадцатом году дед жил на Петербургской стороне, на площади, там, где теперь Большой проспект пересекается Каменноостровским, в старом деревянном зеленом доме Копейкина. Раз в неделю ходил Карл Федорович в чертежную Генерального штаба, а остальное время проводил дома. Здесь он рисовал и чертил в засаленном сером сюртуке, небритый и нечесаный.
— У вас нет его портрета? —спросила я.
— К сожалению, нет, но я ясно представляю себе его, зная хорошо отца. Они были похожи. Одна забавная история крепко засела у меня в памяти. Как-то летом дед вышел за ворота и видит: женщина с бранью ведет под руки пьяного чиновника, а тот бормочет заплетающимся языком: «Сам знаю, матушка, я — пьяница и срамец, хуже… хуже вот этого господского человека!» И он указал на неказистую фигуру Карла Федоровича. Дед любил пошутить, и эта сценка доставила ему немало веселых минут, когда он о ней вспоминал в семейном кругу.
Художник опять прищурился, улыбаясь.
— Непрезентабельная наружность помогла деду устроить одну шутку. Он завел знакомство с соседним будочником, выдав себя за своего крепостного, несколько дней его морочил, а потом прошел в полной парадной форме мимо своего нового приятеля: «Узнаешь ли ты меня?» — спросил он, смеясь, вытянувшегося во фронт солдата.
Михаил Петрович смеялся:
— Нет, вы только вообразите выражение лица будочника! Жаль, что ваш крестный отец Агин не был современником моего деда, а то — попадись ему такая фигура под карандаш… и другая… барона…
Я живо представила смешную сцену и расхохоталась.
Часы в столовой гулко пробили башенным боем одиннадцать часов. Было поздно…
— Пора домой,— всполошилась я,— а то у нас не дозвонишься дворника.
— До свидания… В следующий четверг придете? Дапринесите проверить запись и верните листок всяких рождений, чинов-орденов, всяких производств… Постоите, посвечу — в подъезде темно… Моя домоправительница уже спит…
Мягкие туфли зашлепали к двери: колеблющееся пламя свечи в руках художника осветило ступеньки идверь подъезда…
close_page
И ОКРУЖАЮТ ЧУДАКИ
— Ну, я рад, поработаем!
И Михаил Петрович пододвинул мне стул к столу, накотором уже лежали в порядке великолепно очиненные карандаши.
— Сегодня перед вашим приходом я припоминал в детстве отца, по его рассказам, и о том, почему он сделался как бы «специалистом» по лепке лошадей, и как к чудаку отцу подобрались чудаки приятели, начиная с Агина, который предпочитал голодать, только бы «не торговать искусством», как он говаривал, и спокойно обходился вдвоем с братом одним костюмом. Об Агине подробно я вам, может быть, расскажу позднее, а сейчас давайте погрузимся в дебри старого-старого прошлого, в дни моего детства…
Он задумался; лицо его приняло особенно мягкое выражение и сразу помолодело.
— Сначала о лошадях. Кто первый, как не дед, вдунул в отца моего, будущего творца знаменитых групп Аничкова моста, эту страстную любовь, а впоследствии и мастерство в изображении лошадей? Карл Федорович не признавал готовых игрушек и, стремясь развить в детях самодеятельность, давал трем сыновьям — Владимиру, Константину, а также и отцу карандаши, клей, ножницы, краски, давал воск и глину,— делайте, дескать, себе сами забаву. Дед недурно рисовал и очень хорошо вырезывал силуэты, часто этим забавляя детей. Отец рассказывал, что дед из турецкого похода посылал в письмах к бабушке для своих детей вырезанных из игральных карт лошадок в разных позах, и отец, тогда еще крошечный мальчик, заметил, как бабушка радуется, получая эти письма… Вот тут-то и была, очевидно, заложена первая искра любви к лошади: ребенок стал думать, что радость, удовольствие, счастье — все это олицетворяется лошадкой. А потом, когда дед вернулся, пошли разные самодельные картонные игрушки, и первое место среди них занимала, конечно, лошадь.
— Отец рано осиротел,— продолжал Михаил Петрович после маленькой паузы,— ему едва ли минуло семнадцать лет. Дед умер почти скоропостижно, скошенный оскорблением жестокого и грубого начальника, и бабушка, оставшись без всяких средств, поместила трех сыновей в Петербургское артиллерийское училище. Отец через три года кончил его, выйдя прапорщиком. Это доказывает, каким захудалым бароном был дед. Если бы у бабушки было положение, наверное чины посыпались бы на ее детей, как из рога изобилия. Тогда дворянским детям часто давали чины еще в колыбели, и знаменитый наш меЗаметив улыбку на моем лице, художник сказал:
— Не удивляйтесь. Почитайте побольше мемуаров — не то еще узнаете. Выплывет столько курьезов, а часто и нелепостей быта… Чего стоят обычаи во время моего детства, бог ты мой! Отец был от природы веселый человек, как и дядя Владимир. Они поселились вместе на Выборгской стороне, в жалкой квартире, окна которой находились почти на одном уровне с тротуаром. Денег не хватало на покупку занавесей,— невелико жалованье артиллерийского офицера,— и окна приходилось от нескромных взглядов прохожих закрывать бумагой. Юмористическая жилка и природное дарование подсказали братьям изобразить на бумаге всевозможные карикатуры, и нередко прохожие, останавливаясь, узнавали в смелом шарже себя или своих соседей.
— Вашего отца увлекала военная карьера? — спросила я.
— Какое там! Он гораздо больше, чем муштровкой солдат и военными чертежами, увлекался другим: карандаш и перо чертили ему фигуры людей и животных. Доставая то тут, то там куски дерева, он с увлечением резал из них фигуры, первое место между которыми отводил, конечно, любимой лошади. Недолго ему пришлось носить офицерский мундир; непобедимое искусство тянуло, как всесильный магнит, и года через полтора он вышел в отставку, впрочем, еще раньше поступив в академию, как когда-то и Федор Петрович Толстой.
— И что же, сразу заметили его дарование?
Михаил Петрович весело меня перебил:
— Какое там сразу! Сразу-то голодовка, нужда, черный хлеб и селедки; тесная, убогая квартира на углу Академического переулка и Пятой линии, в доме Шпанского. Но какая бешеная, какая вдохновенная работа и какое всегда веселое, довольное настроение! Вам не приходилось читать записки Николая Ивановича Греча?
— Нет. А чем они замечательны?
— Греч — двоюродный брат моего отца, по бабушке. Он рассказывает, что нередко видел, как отец в те поры нужды рисовал с натуры лошадей. Введет к себе в тесную квартиру лошадь, поставит, а самому уже негде поместиться; сядет, съежившись, у ее задних ног и рисует или режет из липового дерева, не боясь, что она его лягнет.
— Он не только был чудак, но и смелый чудак, Михаил Петрович!
Клодт рассмеялся.
— Чудачество — впереди. Чудачество и простота были в нем и во всем, что его окружало. И я вырос среди всяких чудачеств и удивительной простоты.
— Самовар на столе,— раздался обычный призыв домоправительницы.
После чая Михаил Петрович продолжал, будто остановился на точке с запятой:
— Академия художеств тогда была битком набита всякими оригиналами из художественной братии. Тот же Федор Петрович Толстой чего стоит: граф, знаменитость, известный при дворе, вице-президент академии, а не угодно ли, по доброте своей, на глазах у всех, помогает простой бабе, старухе прачке, втаскивать в гору салазки с бельем во время гололедицы. И отец был прост и истинно любил труд. Кроме лепки, он занимался ручным трудом и еще в артиллерийском училище изучал несколько ремесел, а любя лошадей, научился чинить и сбрую. С юности он не выносил сидеть сложа руки, вечно что-нибудь ковырял, ан смотришь — и разные вещи или починены, или сделаны им заново. И подругу жизни себе он подобрал, мою мать, не только по сердцу, но и подходящую по нраву и тоже из чудаческой среды. Она была не так красива, как миловидна и грациозна, и главное — в ней был неиссякаемый источник жизнерадостности и веселья. Она жила в семье знаменитого тогда художника Ивана Петровича Мартоса, который приходился ей дядей, и воспитывалась с его дочерью Екатериной Ивановной. Обе были молоденькие хохотушки и неистощимые выдумщицы всяких проказ.
По лицу Клодта промелькнула задумчивая улыбка.
— Тот, кто захочет описывать среду художника этой эпохи, должен изобразить академию, нашу «альма матер», как действительно общую мать, как гнездо, вмещающее в себе людей особой касты, да еще вдобавок между собою перероднившихся. В самом деле, в академии почти все между собою перероднились. Взять бы хотя Мартосов. Старшие дочери Ивана Петровича от первого брака были замужем — одна за секретарем академии Григоровичем, другая — за известным в то время художником и профессором Егоровым. В наше, уже новое время,— продолжал с усмешкой Клодт,— покажутся, вероятно, большинству умников нелепыми наивные развлечения тогдашней академической молодежи: эти ретивые танцы до того, что протирали в один вечер подошвы; эти немудреные угощения во время так называемых званых вечеров, балов, всяких именин и праздников, когда у ректора академии подавали на балу угощение, которое теперь впору, пожалуй, только у наших академических сторожей… А туалеты дам? Господи, простенький тарлатан заменял нынешние драгоценные заграничные ткани… Академия веселилась просто и от души: ставили живые картины, спектакли; ученики изображали шиллеровских героев: не только Фердинанда из «Коварства и любви», но и нежную Луизу Миллер, с ролью которой отлично справлялся женственный и красивый Ставассер… Ученики поднимали кутерьму с маскарадами, и мать моя, живая хохотушка Иулиания Ивановна Спиридонова, общая любимица, была, что называется, «заводиловкой» во всяких проказах…
Громкий звонок прервал рассказ художника.
— Моя домоправительница уже спит спозаранку,— сказал Клодт, поднимаясь.— Кого это бог дает? Уже почти десять часов. Пойду отворить. Держу пари, что это дочка.
Он зашлепал туфлями в переднюю. Послышался торопливый звонкий разговор, смех, и в кабинет впорхнула маленькая изящная фигурка, распространяя вокруг себя аромат духов; мелькнуло что-то пышное: боа из белого песца, какая-то фантастическая шляпка с массой перьев и ротонда из серебристого бархата; мелькнуло смеющееся личико с мелкими чертами, что-то нежное, капризное, неуловимое и ребячливое, и птичий голосок прощебетал:
— Ах, папочка, мне некогда… некогда… Я так рада, что застала тебя дома! Совсем забыла, что сегодня четверг и ты работаешь над воспоминаниями. Я удрала из оперы до конца… Скука. Неудачный состав. Они поют, а я думаю о портнихе… Не разденусь: некогда.
— Сумасшедшая Лялечка! — ласково смеялся художник.
— Как всегда, сумасшедшая и, как всегда, уверенная, что папочка выручит ее из беды.
Она бросилась целовать отца.
— Ну, ну, догадался? Завтра утром придет портниха со счетом. Я видела в мастерской почти готовый туалет, это — мечта. Мне жаль, что ты не поехал со мной,— ты бы внес что-нибудь этакое… художественное, и было бы еще лучше… А, папка?
Клодт с комически сконфуженным видом вздохнул и, вскинув исподлобья на дочь глаза, спросил:
— Сколько?
Она шепнула ему что-то на ухо и засмеялась.
— Я дам, но боюсь, если ты скоро еще попросишь, у меня не будет… Воздержись хоть капельку, Лялька.
— Непременно постараюсь, уважаемый папка,— вытянулась почтительно Лялечка.— И я помню, как говорят: что я — отрезанный ломоть, замужняя женщина, а ты становишься у меня старенький… Но у мужа, ей- богу, не хватает денег меня баловать, а ты любишь баловать свою Ляльку, и ты еще не слишком старенький… ты — просто прелесть… ты у нас — маркиз Карабас.
Под это чириканье Клодт рылся в ящике бюро и доставал деньги. Дочь стала душить его поцелуями:
— Спасибо, спасибо… ты мой спаситель!
Потом обернулась ко мне:
— Простите, бога ради, что я невежлива… не познакомилась… Но у меня голова идет кругом…— И протянула мне руку.— Ухожу… Простите, что помешала…
Когда она упорхнула и Клодт, закрыв за нею дверь, вернулся, он сказал умиленно-виноватым тоном:
— Ничего не поделаешь… А все-таки взяла и помешала… И уже порядочно поздно… Вы, пожалуй, заторопитесь домой. Но я все же расскажу вам о матери, об ее простоте и, по теперешним понятиям, о чудачестве. Видели вы мою Ляльку? Хорошенькая птичка, но как колибри… Драгоценные камни, и золото, и перья, французские цветы… Все это было бы чуждо тогда, прежде…
Он опять прищурился, вглядываясь в темный угол комнаты, как будто видел там образы прошлого.
— Когда отец в сороковых годах на окраине нарядного Павловска жил на даче, мать, соблюдая экономию и желая приодеться к лицу, изловчалась каждый день иметь новый туалет, который ей ничего не стоил: она собирала в палисаднике и поле цветы, искусно плела из них гирлянды и украшала ими как свою шляпку, так и платье самыми прихотливыми сочетаниями. Она сама делала модный кринолин и в таком виде, вообразите, отправлялась на знаменитые павловские гулянья, вызывая всеобщее восхищение. А в «русские имениныэ отца — потому что он, будучи лютеранином, всегда справлял свои именины двадцать девятого июня — на Петра и Павла — она сама устраивала иллюминацию, клеила фонарики, добывала шкалики с салом и фантастически убирала сад. Мои родители как нельзя более подходили друг к другу: он изобрел разные поделки для каретного сарая, для сбруи, возился с плотниками, столярами и кузнецами, сам ретиво работая долотом, стамеской, молотком и шилом, и обогащал хозяйство самыми оригинальными… иногда забавными предметами; она вводила новшества в домашней обстановке, в костюме и делала необычайные блюда во время семейных торжеств. Но об отцовских талантах и чудачествах вне искусства я расскажу в следующий раз; теперь буду торопиться и все смажу.
Я было начала складывать листочки с записями в папку, но художник остановил меня движением руки.
— Погодите минутку. Мне хочется рассказать только, как отец женился, и это вам даст ясное представление о простоте, наивности и… чудачестве той среды, в которой он вращался. Я вам уже говорил о Федоре Петровиче Толстом. Он женился по любви, и жена его обладала художественным талантом. Она была под пару этому замечательному человеку и прожила с ним всю жизнь душа в душу, как и моя мать с отцом. Об обстановке квартиры Толстых говорил весь Петербург, который славился пышностью дворцов своих магнатов. А Федор Петрович был беден и, кроме жалованья и заработка своей лепкой, ничего не имел. Но по его художественным рисункам столяр

С портрета работы Ф. Горецкого.
делал необыкновенно изящную мебель античных форм, а жена украшала ее художественными вышивками. Вкус, художественность побеждали богатство.
Михаил Петрович порылся в шкатулке, что-то отыскивая, и не нашел.
— У меня где-то был рисунок спальни Толстых с древней амфорой и античными занавесями художественной кровати. И все это стоило им гроши… Когда-нибудь найду и покажу… Эх, увлекся Толстыми… Представьте себе жизнь моего отца и матери. Представьте важного, знаменитого Мартоса, всесильного ректора, и его воспитанницу-племянницу, почти дочь. Отец рассказывал, какой курьезной простотой была обставлена его свадьба. Он шел со своим шафером в церковь пешком и, вероятно, был очень не по-свадебному одет, потому что церковный сторож долго не соглашался его впускать в церковь, не веря, что он жених. Отец привык к нужде и не придавал ей большого значения, а на следующий день был огорчен грустным видом молодой жены, потому что в новом хозяйстве не оказалось ни чая, ни сахара, ни кофе и ни копейки денег. Иулиания Ивановна один за другим выдвигала ящики комода, и вдруг из белья выпал двугривенный, а за ним посыпались и рубли. Правда, не слишком много было этих серебряных рублей, но находка, результат обычая седой старины — класть тайно деньги в белье невесты,— доставила немало радости не избалованным жизнью молодым. А дальше — новая неожиданность: в то же утро явился из дворца курьер с приглашением от Николая Первого прибыть в манеж для осмотра привезенных из Англии лошадей, знаменитых Мидльтона и Адмирала. Тогда же вскоре отец получил заказ на первую свою замечательную работу — шесть лошадей из глины к торжественной колеснице, украшающей триумфальные Нарвские ворота, а вскоре и две конные статуи для Зимнего дворца.
Часы в столовой пробили двенадцать.
Я вскочила. Поздний час вызвал в воображении: предстоящее мне долгое ожидание у запертых ворот на трескучем морозе и, наконец, сонное бормотанье, звон отодвигаемого засова и неуклюжая медведеобразная фигура дворника.
У Клодта был сконфуженный вид.
— Эх, задержал я вас сегодня… уж простите! До следующего четверга, не правда ли?
ПО ДУШАМ
Старые просвирни говаривали:
— Хорошо попарить душеньку чайком.
Сказочник Кот Мурлыка (профессор Вагнер) придумал сказку «Майор и сверчок». Русское купечество могло выпивать полегонечку целые самовары за душещипательными разговорами, не забывая, впрочем, и о коммерции.
Мы тоже сидели с Михаилом Петровичем за традиционным самоваром, и я видела по лицу его, с размягченным, мечтательно-взволнованным выражением, что ему не по себе, что его гнетет какая-то неотвязная мысль, но я не решилась расспрашивать.
Открыв тетрадь, в которую я переписывала его воспоминания с беспорядочных листков, я начала читать, чтобы проверить:
— «Когда первая конная статуя для Зимнего дворца была вылеплена, случилось событие, сыгравшее громадную роль в жизни отца и определившее одну из специальностей, сделавшую его незаменимым для академии. В то время при академии была литейная, которой заведовал литейщик Екимов. Екимов готовил ангелов для купола Исаакиевского собора и в самый разгар работы умер. Ангелы остались неотлитыми. Совет академии был в большом затруднении, не зная, кому поручить эту работу. Мой отец изучал литейное дело еще на службе в артиллерии. Он предложил окончить работу Екимова и благополучно отлил ангелов».
— Все правильно. Давайте дальше,— сказал Михаил Петрович.
Я продолжала:
— «Николай Первый заказал академической литейной отлить из бронзы и конную статую для Зимнего дворца, но по случаю смерти Екимова эту работу должны были выполнить в другом месте и другим способом. Предстояло отдать конную статую на иностранные заводы… Дорожа своим произведением и предпочитая академический способ отливки другим, отец просил, чтобы ему было позволено самому, как бывшему артиллеристу, отлить из бронзы статую. Когда в тысяча восемьсот тридцать восьмом году отливка увенчалась полным успехом, ему поручили заведовать литейной академии».
Я видела, что художник слушает необычно рассеянно, переспрашивая. Его что-то, видимо, тяготило. Я остановилась. Он сначала не заметил, потом спохватился:
— Что же вы? Дальше…
— У вас такой утомленный вид. Вам, может быть, нездоровится?
— Нисколько. Я совершенно здоров. Почему вы думаете, что я болен? И я совсем не утомлен. Разве работа в Эрмитаже так утомительна? У меня есть прекрасный реставратор Богословский, которому можно поручить реставрировать все наши сокровища. Работы бывает много тогда, когда, по высочайшему повелению, в Эрмитаже устраиваются балы и спектакли.
— Почему?
— Да это же безбожное варварство по отношению к музею. Только… тсс… чтобы как-нибудь не дошло до ушей, которые любят собирать мнения о высочайших особах и высочайших повелениях.
— В чем же дело, Михаил Петрович?
— А в том, что музей превращают в клоаку; в том. что искусство приносится в жертву лукуллову пиру, выставке туалетов и интригам… Посмотрели бы вы, во что превращаются наши залы после этих знаменитых балов- спектаклей! Страшно вымолвить: бывали случаи, когда даже полотна картин портили, и их надо было тщательно реставрировать, как и стены с росписью, которые бесцеремонно задевали, пронося столы, декорации, мебель; дорогой, редкий паркет заливали соусом и маслом… А знаете, каким способом производится реставрация?
— Нет. Да разве это так сложно?
— Способ остроумный и совсем особенный. Говоря грубо, на испорченную картину реставратор наклеивает новый холст и, перевернув, бережно, осторожно соскабливает старый, как бы оставляя краску «наизнанку», выражаясь фигурально. После этого вместо старого холста наклеивают новый и опять переворачивают, чтобы совершить последнюю манипуляцию — соскоблить ранее наклеенный «на лицо» картины новый холст, и тогда краскн остаются нетронутыми, кисть старого мастера сохранена в девственной неприкосновенности. Что, любопытно?
— Поразительно! — с восхищением вырвалось у меня.
Клодт подвинул свою чашку, прося налить еще, вздохнул и задумался.
— Сегодня вы пришли поздненько и скоро уйдете,— сказал он печально.
— Сегодня праздник, и я даже колебалась идти — думала, мы не будем заниматься.
— Но сегодня все-таки четверг. Не оправдывайтесь, пожалуйста. Не все ли равно, праздник или будни? И не обижайтесь: мне хочется на вас по-стариковски поворчать. Значит, я ждал вас и досадовал…
— У вас очень минорный тон, Михаил Петрович.
Он опять вздохнул.
— Я очень одинок, дорогая моя. очень одинок.
— У вас скверный, утомленный вид.
Он беспокойно вскинулся:
— Что? Что? Очень древний, вы хотите сказать? Дряхлый старик, вы хотите сказать?
Я улыбнулась.
— Да нет же…
— Как вы думаете, сколько мне лет? Седьмой десяток… почти семьдесят.
— На вид гораздо меньше. И такая красивая, живописная голова. Актерам следовало бы взять вас для грима: под вас гримироваться для пьес «Ришелье» или «Адриенна Лекуврер» и даже для герцога Гиза в «Гугенотах».
— Так, так… А вид у меня этакий потому, что я одинок и… признаюсь вам. как другу: влюблен.
Я с любопытством ждала разъяснения. Он как-то неестественно, очевидно от конфуза, засмеялся.
— Не верите? Конечно, одиночество подвинуло… разожгло чувство… Вот сидишь этак в большой квартире, где столько пережито, где была настоящая семемная жизнь. свое теплое, дружное гнездо, где смеялись и радовались близкие люди и щебетала детвора, а теперь — молчание. И часы бьют так уныло башенным боем, что ивой раз их хочется остановить. Я. по призванию, не только художник, но и семьянин.
— Почему же вам не завести семьи?
Он не ответил н продолжал, как в забытьи:
— Я влюблен. На старости лет влюблен. Вон вы говорите. что я еще могу нравиться! И это мне ценно. Но могу ли я нравиться ей?
— Кто она? Конечно, не по имени, меня интересует характеристика.
— Она гувернантка в одном близком мне доме. Француженка. Ей за тридцать лет. и она очень красива.
— Что же вас останавливает?
Михаил Петрович колебался, что-то не договаривал, потом смущенно пробормотал:
— Жанна, как и все француженки, практична; и если она не вышла замуж молоденькой девушкой, то. конечно, теперь будет еще более обдумывать, и на это есть основания…
— Какие?
— Может быть, я зря так думаю о моем милон, честной Жанне, но мне простительно — я старик, и мне трудно рассчитывать на бескорыстное к себе чувство. Что я и что могу ей предоставить? Во-первых, избавление от скитания по чужим домам; во-вторых, обеспеченность человека, получающего майоратную пенсию и имеющего приличное место реставратора Эрмитажа; в-третьих, хорошую квартиру; в-четвертых, положение известного художника и, наконец, в-пятых, баронство.
Я улыбнулась.
— Плохо я разбираюсь в таких расчетах, Михаил Петрович…
Он подвинул мне блюдо с кулебякой и грустно сказал:
— Предательская стрелка часов лезет беспощадно вверх, и скоро вы уйдете. И я останусь один в этих больших комнатах; я буду слушать, как уныло шлепают мои туфли, будя тишину, и как скребутся в углу мыши.
close_page
«В ЗАБОТЫ СУЕТНОГО СВЕТА ОН
МАЛОДУШНО ПОГРУЖЕН…»
Я продолжала прерванное чтение записей, которое он должен был проверить:
— «Способ, к которому прибегал отеп, был способдревний, известный у вас под названием «а cire perche». Особенность его состоит в том, что первоначально отлитый снимок модели, по которой делается земляная форма для отливки, неизбежно приходится проверять и ретушировать согласно оригиналу, или, как в то время говорили, «расчищать». Эта ответственная и кропотливая работа, от которой зависит художественная ценность отливки, а также надзор за чеканкой отлитых бронз при исполнении царских и других заказов, возлагалась на молодых скульпторов. Был сделан опыт отливки из свинца, но ввиду непрочности последнего оставили работы из этого материала и стали делать из бронзы. Помещение для форм устраивалось возле плавильной печи в виде колодца. Оно было настолько просторно, что одновременно приготовлялось несколько статуй к отливке. Плавильная печь являлась одной из достопримечательностей столицы, и о ней шла слава за границей. Получив звание литейщика, отец с семьей переселился в Академию художеств. В распоряжении его теперь было целое здание; кроме квартиры, он получил громадную мастерскую, высотой в два этажа; в два этажа была и выходившая во двор литейная. Из мастерской дверь вела на балкон, а с балкона лестница спускалась прямо вниз».
— Верно, все верно,— закивал головой Михаил Петрович.— А у вас правильно записаны все даты? Оставьте мне все их проверить, а пока что запишите о пребывании отца в Берлине, куда он был послан в командировку во время житья там Николая Первого и президента Академии художеств герцога Лейхтенбергского. В свите царя явился и отец на верховой лошади, взятой напрокат в отеле. Он не хотел отличаться от тех из свиты, которые были верхами. Николай Первый, окруженный коронованными родственниками и знатью, увидел забавное зрелище: не умея справляться с уздой, отец как-то неловко Дернул ее, и лошадь его понесла. Шляпа упала у него с головы. Николай Первый и окружающие его с улыбкой смотрели на растерявшегося художника, костюм которого пришел в беспорядок, волосы растрепались, и он едва держался в седле. Герцог Лейхтенбергский с серьезной миной подал оброненную шляпу, и в эту минуту лошадь отца лягнула президента. Николай Первый сказал: «Ты лучше лепишь лошадей, чем на них ездишь». Все ждали грозы за удар лошадиного копыта, зная характер царя, но на этот раз инцидент не имел последствий,— видно, при дворе отцом дорожили.
Отец вернулся домой, в Петербург, неузнаваемый: разодетый в пух и прах и раздушенный. Впрочем, едва ступив на родную почву, он сбросил с себя все свое заграничное щегольство и снова стал простым, небрежно одетым работником.
Клодт просматривал листки с так называемыми «датами» и бормотал:
— Совершенно верно… две группы лошадей для Зимнего дворца в тысяча восемьсот тридцать восьмом году… апрель тысяча восемьсот тридцать восьмого года — должностной профессор скульптуры в Академии художеств и, кроме обычного жалованья, три тысячи рублей ассигнациями пенсия…
Он остановился, вспоминая.
— Работал отец неутомимо. Он не терпел праздности, трудился даже во время маленьких журфиксов, когда друзья его сражались за ломберным столом. Прислушиваясь к голосам гостей, он где-нибудь в сторонке лепил и очень бывал недоволен, когда его уговаривали сесть за карты,— карт он не любил и играл плохо… Но мне хочется сегодня успеть вам рассказать, каким праздником для нас в семье была отливка статуи в Литейном доме. Только это придется сделать, когда мы вернемся из столовой: я слышу шаги моей Дульцинеи. Она аккуратна, как часы.
— Ну, теперь слушайте; я буду говорить кратко, чтобы уместиться с моим рассказом в сегодняшний вечер.
Я раскрыла тетрадь и пододвинула артистически очиненные художником карандаши. Он начал:
— Когда отец готовил восковую модель под отливку в настоящую величину статуи, у нас все, от мала до велика, домашние и гости, переселялись в мастерскую. Здесь на лесах устраивались площадки и на них — столы; здесь весело пили чай взрослые и дети.
Он улыбнулся.
— Как торжественна была отливка из бронзы, бог ты мой! Часов в одиннадцать утра огромные трубы литейной начинали дымиться, и весь Васильевский остров знал по черному дыму, что барон Клодт отливает свои статуи. В верхнюю часть литейной, где находились плавильные печи, стекалась масса народа: тут были рабочие, мастеровые, лавочники, извозчики, интеллигенты; все с любопытством следили за результатом отливки, которая продолжалась несколько часов. Особенно торжественный момент был перед самым выпуском меди в форму. Тогда в мастерской прекращалось всякое движение, даже говорить начинали как-то невольно шепотом. Наконец, отцу доносили, что все готово; присутствовавшие снимали шапки и крестились; литейщики-рабочие пробивали отверстие, из которого текла медь, и она начинала литься по разным отводам в формы. Это был критический момент: по ходу раскаленной добела меди можно было судить, удастся ли работа, или нет. Мастерская под конец вся наполнялась белым дымом, точно туманом, весьма вредным для здоровья, и все присутствующие должны были затыкать носы, а многих рабочих, слишком близко стоявших у печи, лихорадило. Отливка была нашим семейным праздником. Рабочие имели очень довольный вид. Как противоядие против отравления газами меди им отпускалось молоко и масло и готовился праздничный обед. Для приготовления мастики, склеивающей форму, требовалось черное пиво, и рабочие варили его в гораздо большем количестве, чем это было нужно. Поэтому у нас в доме еще недели две водилось густое, чудесное черное пиво. Статуя охлаждалась медленно: через несколько недель, когда форму разбивали, фигура все еще была очень горячей.
— Много статуй на вашей памяти было отлито в Литейном доме? — спросила я.
— Немало… Кроме собственных, отцу пришлось отлить из бронзы много и чужих. Им были отлиты ангелы Для купола Исаакиевского собора, два больших барельефа для того же собора, «Положение во гроб» и «Несение креста».
ЧЕТВЕРГИ С ПРОПУСКАМИ
Владимир, полковник артиллерии, подарил мне на елку, когда мне было всего четыре года,— в тысяча восемьсот тридцать девятом году, увековечив нашу жизнь в родном доме… Читайте, читайте… Текст он написал сам стихами, весьма незатейливо по содержанию, но весьма четко для глаз.
Я с интересом перелистывала пестрые страницы, и на меня веяло трогательной простотой этой жизни.
Художник продолжал:
— Вот здесь нарисована даже наша кухня, которая играла для нас, детей, огромную роль. Прислуга и рабочие являлись частью нашей семьи; отец, любя свой дом, любил жену, детей и слуг ,и связывал все это, как бы сказать, в один милый, ласкающий душу узор. Мы лепили лошадок и всякие формочки, как умели, в мастерской, возле отца; мы и помогали любимцу отца — старому формовщику Арсению размешивать глину и знали от него не хуже специалистов ее сорта: и анжельский сорт, добываемый в местечке Анжель, по Коломенскому тракту, верстах в восьмидесяти от Москвы, и чудесную изумрудную глину из «Синего омута» на реке Тоене, и «вохря- ную», которую употребляют скульпторы Италии. Знал я, как нужно спрыскивать большие работы из садовых поливных шлангов, чтобы не засохла глина статуй, а в продолжение работы спрыскивать изо рта; раскутывая с Арсением фигуру, я находил под тряпками особенные скульптурные грибы, так называемые «скульптурные шампиньоны»; горевал, когда в глине было много песчаника, как в анжельской сернистой глине низкого качества… Знал все отцовские стеки; помогал Арсению взбивать мыло с деревянным маслом для обмазывания глиняных моделей перед снятием формы, мешать железной лопатой алебастровую муку с водой, и вся душа моя была в этих работах… В кухне я был свой, родной человек. Спустившись вниз, я хлебал там из общей чашки с литейщиками и слугами, а потом уже не в силах был обедать в столовой. И когда мать за это на меня сердилась, отец всегда заступался и добродушно говорил: «За что. душа моя, гневаешься? Разве он делает что-нибудь дурное? Пускай присматривается к жизни простых людей: он будет их лучше знать, а это в жизни важнее многих наук». Отец и сам проводил в товарищеском общении с мастеровыми все досуги. Он никогда не оставался без дела,— всегда что-нибудь мастерил, изобретал, шил, строгал, клеил. Помню святки: елка с самодельными украшениями всегда была одним из самых веселых развлечений в году не только для нас, детей, но и для всей семьи; в елке принимали участие все в доме, от мала до велика.
Он засмеялся, вспоминая что-то удивительно привлекательное, светлое, и продолжал живо:
— Ах, святки! На святках весь дом превращался в одну сплошную радость и даже сумасшедшее веселье. По старому русскому обычаю к нам являлись ряженые — человек двадцать рабочих в самых разнообразных костюмах, с грубо размалеванными лицами. Был здесь и медведь с козой, и генерал с эполетами и аксельбантами из соломы, и мамка в кокошнике, и все они плясали, ревели, хохотали.
От нахлынувших воспоминаний художник залился Детским, искренним смехом.
— Вы бы только видели эту важную осанку, этот министерский вид, эту выступавшую среди академических сторожей фигуру бывшего полкового музыканта Цы- цуры, с кларнетом, от пронзительных звуков которого у всех болели уши. Но мы, дети, любили его и хохотали, видя, как взрослые морщатся от этого нестерпимого воя… Ряженые уходили, но суета не кончалась. Являлись новые и новые маски, одетые уже несколько понаряднее, хотя все же очень просто, в костюмы из табачной лавочки. Были здесь эффектные «гишпанцы», «турки» и «арапы» с лоснящимися черными картонными масками; был и Пьерро, или, иначе, «Леман», он же «мельник»1 и Другие в платьях из цветной папиросной бумаги. Веселые маски вносили с собой в комнату вместе со струей свежего морозного воздуха искреннее веселье. В эти суетливые святочные дни в нашей квартире все было перевернуто вверх дном; одни посетители сменялись другими; было оживленно, шумно и весело. На смену маскам являлись священники славить Христа; за священниками — булочники, рабочие. Отец выходил к ним со всей семьей, одинаково радушно всех принимая…
В столовой, за чайным столом, я заметила, что у Михаила Петровича какой-то смущенный вид; он чего-то не договаривал, как-то суетливо придвигал ко мне угощение, чему-то тихо смеялся и торопился рассказать:
— Да, да, милое старое время… В доме у нас царили непринужденность и простота… Раза два-три в зиму бывали так называемые «балы». Нанималось человек пять музыкантов — солдат из первого корпуса; гости состояли из самых близких знакомых, веселились и танцевали до упаду, игнорируя всякий этикет… В настоящее время странно слышать, как скромно обставлялись эти балы. Все угощение состояло из мармелада, изюма, пастилы, яблок и апельсинов; о конфетах и мороженом не было и помину. Но зато сколько на этих «балах» было искреннего веселья и милых, невинных шуток… Веселился и стар и млад; отец отплясывал до изнеможения и фигурный котильон и шумный гросфатер, а старички старательно выделывали ногами классическую кадриль, «со всеми онерами», ригодонами, pas de basк ами и антраша, под аплодисменты молодежи. Отец придумывал всевозможные проказы, страсть к которым сохранилась у него с юности. Он отрезал у барышень на память ленточки от тарлатановых или гренадиновых платьев, рассказывал им разные смешные истории, а иногда даже рассыпал по полу нюхательный табак, который, поднимаясь во время танцев, доставлял немало беспокойства носам танцующих.
Художник остановился, задумавшись. Я ждала. Не глядя на меня, он смущенна выговорил:
— Я боюсь, дорогая, что это будет последним вечером воспоминаний…
— Почему? Разве вы куда-нибудь уезжаете?
— Н-нет…— протянул он,— но…— Он замялся.—- Как бы вам сказать? Вам, может быть, это покажется непонятным и даже… смешным… Я… я… окончательно решил жениться! — выпалил он и посмотрел на меня с торжеством отчаяния: вот, дескать, на что я отважился!
— Я не понимаю, какая связь между нашей работой и вашей женитьбой.
Он криво улыбнулся, и опять голос зазвучал сконфуженно:
— Тот, кто живет в семье, тому не понять. Понять может только одинокий. Я слишком наголодался одиночеством, слишком наслушался эха собственных шагов. И я боюсь, что мне будет трудно оставаться аккуратным в работе, боюсь, что захочу пользоваться безгранично своим счастьем… Жанна приняла мое предложение. Но сегодня мне хочется подольше «повоспоминать». Останьтесь немного подольше, сделайте исключение.
По лицу его скользила мягкая улыбка. Он сказал:
— Отец был большим художником, добрым человеком и великим хлебосолом. Каждое воскресенье у нас собирался кружок близких друзей. В воскресные дни обедало, помимо семьи, человек двадцать, а после скромного, но сытного обеда садились за вист или бостон. Между знакомыми было немало интересных и оригинальных людей. Бывали часто современные знаменитости. Венецианов, добрейшей души старик, открывший на свои средства бесплатную школу для молодых людей, не попавших в академию. Этот милый добряк даже кормил и одевал некоторых учеников на деньги, заработанные своим горбом. Бывал у нас Сверчков, автор мастерских рисунков лошадей; бывали братья Брюлловы, Карл и Александр, славный архитектор; бывал представитель тогдашней художественной богемы, ваш крестный — Агин, о котором я уже упоминал, и блестящий драматический актер Самойлов. Каждый шел своим путем и вносил в жизнь свою лепту, вносил в жизнь красоту. Из них, пожалуй, больше других мог быть бунтарем Карл Павлович Брюллов. Капризный, избалованный, превозносимый до небес, он вечно ворчал и спорил с начальством.
Я решила не противоречить.
Было очень поздно. Я поднялась. Художник, видимо, жалел прощаться со мной надолго. Он сказал, стараясь что-то примирить, найти какой-нибудь компромисс:
— Мы спишемся и, я уверен, увидимся сравнительно скоро. А пока побывайте у братьев Соколовых, побывайте у моего тезки Михаила Петровича Боткина — у него музей на углу Восемнадцатой линии и набережной, побывайте у сыновей архитектора Брюллова, племянников Карла Павловича,— у них есть архив, и я говорил им о вас. Все они дадут вам, что могут, что помнят, поработайте, а там увидимся и продолжим нашу работу. Пожелайте мне счастья…
— От души, Михаил Петрович!
close_page
ВОЗРОЖДЕНИЕ
Я побывала везде, куда меня направил Михаил Петрович. Была у Боткина. Он встретил меня в своем великолепном вестибюле, напоминавшем вход в итальянский дворец эпохи Возрождения.
Широкая лестница с галереями на обе стороны; с барьера спускаются роскошные ковры и парча.
Лестница вела в музей. Старинная мебель, художественные вышивки, гобелены, темные полотна картин, и с них смотрят живые глаза, запечатленные кистью давно ушедших из жизни больших мастеров. Предметы домашнего обихода — каждая ваза, каждая тарелка, чашка — художественная ценность. А вот терракота — подлинный Донателло…
Хозяин неслышно двигается в своих мягких сапожках — это владелец всех здешних сокровищ, родственник славного собирателя картин — Т ретьякова — Михаил Петрович Боткин. Небольшой, с седыми длинными и растрепанными волосами и благодушным взглядом маленьких глаз, окруженных лучами морщинок. Улыбается, охотно дает сведения, уточняет даты.
— Сходите к Пете Соколову, да и к Павлуше, они вам много расскажут,— близки были: ведь родные племянники Брюллова по матери и вхожи были к Клодту… И к Павлу Александровичу Брюллову сходите, у него архивище — страсть! Говорили, библиограф Кубасов работает.
Иду и к Соколовым и к Брюллову. От Соколовых кое-что узнаю, но мало и суховато; у Брюллова — бездна нового: быт, быт. Письма о той жизни, некоторые — яркие, как письмо о наводнении в 1824 году,— картина петербургской жизни накануне декабрьского восстания. При рода бунтует перед бунтом в среде людей. Природа точно предвещает взрыв…
Павел Александрович Брюллов, художник-пейзажист и замечательный математик, приятель Клодта и Максимова, с тонким, красивым лицом итальянского типа, был очень любезен и предоставил мне рыться в его архиве. Попутно я увлеклась жизнью творца «Последнего дпя Помпеи» — Карла Павловича Брюллова.
Прошло несколько месяцев, и я получила письмо от Клодта с приглашением продолжать прерванную работу. . Ничто не переменилось в квартире художника. Та же обстановка; все вещи на прежних местах. Снова я сижу в кабинете перед разложенными папками, а рядом — художник, все такой же, в своей серенькой домашней куртке, в мягких туфлях, но как будто помолодевший, с веселыми глазами. И вдруг дверь открывается, на пороге— молодая женщина, довольно полная, но стройная, с русыми волосами и красивым, пышущим здоровьем лицом.
— Знакомьтесь, это моя Жанна Петровна…
Она улыбается, показывая ровные белые зубы. Ьлыбка приветлива, и вся она —спокойная, уравновешенная, милая. Говорит с приятным акцентом:
— Михал Петровиш мне много сказаль о вас… это корошо, он будет ррработать… А теперрь пррошу в столовая.
И по этому простому, искреннему тону и по брошенному ею на художника ласковому взгляду я поняла, что он счастлив.
От всего его существа веяло каким-то особенным тихим и ясным спокойствием. И спокойно звучал голос его жены, заботливой и нежной. Даже квартира вдруг показалась иной, хотя все вещи стояли на старых местах и обиход оставался тот же. И в этом уюте был секрет счастья Клодта,— только вместо домоправительницы в комнату легкими шажками входила милая женщина, распространяя вокруг сияние своего цветущего облика, и звала:
— Allons, Pierre…— и, картавя, ломаным русским языком: — Пошалюста к столу, мадам… Пьеррр, пррри- гласи…
Прежняя домоправительница уже стучала в столовой чашками: прежний квас шипел в кувшине; только на столе появился еще тонкий французский салат оливье и греночки на маленькой сковородке.
Жанна Петровна приветливо говорила с мужем по- французски, со мной — по-русски, не стесняясь, неимоверно акцентировала и забавно путала слова и ударения, внося в это старое гнездо струю новой жизни.
Пошли перечитывания немного позабытого материала, мой доклад и проверка сообщенных Соколовыми, Боткиным и Брюлловыми данных, его добавления от других родственников. Все улеглось снова в последовательную стройность, и беседы по четвергам возобновились, хотя уже и с перерывами.
Перерывы происходили большей частью по причинам семейного характера: то Михаил Петрович думал, что Жанна Петровна нездорова и ее можно утомить, то необходимо ехать вместе к каким-нибудь родственникам по случаю интимного празднества, и именно в этот четверг.
И все-таки работа двигалась, хотя и медленно, но планомерно.
Мне пришлось увидеть возрождение художника, его бесконечную радость, когда на свет явилась маленькая Жанночка.
Девочка росла на моих глазах, хорошенькая, крепкая и ясная, как две капли воды похожая на мать. Отец любовался ею и с гордостью говорил:
— Мы назвали ее в честь матери, не Анной, а Иоанной… Иоанна д’Арк… И моя Жанна Петровна тоже Иоанна… Будем звать дочку, как мать,— Жанна. Я счастлив…
Для Жанны Петровны он стал центром забот и внимания. Не берусь судить, была ли это настоящая любовь к художнику с милым характером и лицом маркиза или действовало обаяние имени, обеспеченность и усталость от скитания по чужим домам, от вечной зависимости и подчинения,— может быть, все вместе составило гармоничное целое, называемое семейным счастьем.
Я видела такой пример у писателя Д. Н. Мамина- Сибиряка, женившегося на бонне своей маленькой болезненной Аленушки; видела, какими настоящими материнскими заботами была окружена большеглазая девочка, кумир отца, какими заботами и благоговением был окружен он сам.
Жанна Петровна никуда не ходила без Михаила Петровича, весь интерес жизни сосредоточив на нем, всегда ровная и спокойная, и, когда родилась Жанночка, она с головой ушла в заботы о дочке.
Улыбаясь, художник говорил:
— Жанночка — это мое бессмертие. Подумайте: люди скрывали смех, когда я говорил, что хочу иметь детей… В мои годы… это им казалось смешно, а вот теперь — видели? Такая здоровенькая, красивая девочка! Для нее я буду теперь работать. Я создам большую историческую картину… я ее обдумываю, но пока не скажу темы…
Он обдумывал, но так и не написал новой большой картины: годы взяли свое, свежесть творчества была израсходована…
А вспоминать продолжал, и теперь в воспоминания о старой жизни влилась струя особенно нежного чувства к семейному уюту.
— Немало характерных и оригинальных фигур появилось в доме радушного и гостеприимного моего отца. Ваш крестный отец, один из самых больших чудаков среди художественной братии, «богемный», так сказать, персонаж, почти все рисунки к «Мертвым душам» нарисовал У нас по вечерам. Было немало и других персонажей, смешных, оригинальных и трогательных, но разве всех можно описать?
close_page
«БАРОНА МЫЗА»
У нас теперь часто бывали перерывы в работе: Михаила Петровича поглощала новая жизнь, новые обязанности и новые привязанности.
За Жанночкой явился на свет Петруша, живой сколок с Клодтов, напоминавший, по портрету, и деда и отца.
Михаил Петрович гордился потомством от нового брака и радовался, когда позднее у мальчика стали проявляться способности к рисованию.
Записи теперь мне приходилось делать урывками.
Вечер. За окном воет ветер, бросая в стекла снежную пыль, а в печке весело потрескивают дрона, и в комнате тепло-тепло. Лампа из-под зеленого абажура мягко освещает знакомое лицо «маркиза» c седеющими прядями волос над большим спокойный лбом. Клодт мечтательно рассказывает:
— Пока еще отец не купил имения в Финляндии, мы жили в Павловске, по соседству с Брюлловыми, и мать с дядей Владимиром, гувернанткой сестер в Брюлловыми ходила на прогулки, предпочитая бродить чаще по полям, чем ходить на чопорное гулянье с музыкой при вокзале. Часто у нас устраивались и пикники в деревню Графскую Славянку, впоследствии купленную царской фамилией и переименованную в Царскую Славянку. Вот тут- то и пошел ряд чудачеств, рисующих быт моего отца. Тут уж мы с вами будем шагать без всяких точных дат — сразу рассказывать, что сохранилось в памяти. Возьмите вот этот карандаш, а я вам пока очиню новый. Запись не короткая.
И, взявши ножик, продолжал:
— В Павловске жизнь текла просто и весело, и немало произошло здесь инцидентов, рисующих своеобразный нрав отца. Накануне его именин, перед Петровым днем, что бывает двадцать девятого июня, с вечера съезжалось к нам много гостей. Мужчины располагались на ночлег вповалку на сене в башне над мастерской, около конюшни, и проводили ночь в шутках и разговорах. Дам устраивали в самой даче. На другой день был большой парадный обед, и к этому дню отец любил готовить разные сюрпризы. У него была страсть ко всякого рода изобретениям, но больше всего он возился над изобретением особенной конструкции экипажей. Почти все его изобретения, такие прекрасные в теории, оказывались никуда не годными на практике. Помню один экипаж, вызвавший среди жителей Павловска большой переполох. Он был сооружен отцом к торжественному Петрову дню.
Клодт покачал головой и засмеялся:
— После утреннего кофе из сарая выкатили огромный ящик весьма странного вида, на двух колесах, в который кучер впряг пару лошадей. В ящик поставили стулья, и вся мужская компания уселась на них, собираясь ехать закупать вина и закуски. Те, кому не досталось места на стульях, садились прямо на дно ящика. И вот оригинальная двуколка двинулась в путь. Она так гремела, что встречные лошади пугались, собаки с неистовым лаем выскакивали из-под ворот, люди выглядывали в окна и испуганно спрашивали: «Что случилось? Горит, что ли? Где пожар?» Но подобные эффекты нисколько не останавливали отца, и он после одной неудачной попытки делал другую, думая, что, наконец, изобретет необыкновенный по красоте, легкости и удобству экипаж.
— У вас было много лошадей? —спросила я.
— В Павловске отец завел лошадь Серко. Серко, старый ветеран придворной конюшни, совершенно белый, служил отцу моделью, когда он лепил аничковских лошадей. В Павловске Серко сделался «членом» нашей семьи. Отец часто возил на нем нас, детей, по дорожкам сада; мы лазили у смирной лошади под брюхом… Другая лошадь— Амалатбек, которую уже позднее отец получил от императора для натуры, также модель для аничковских лошадей, была белая арабская, послушная и прекрасно, безукоризненно сложенная. Отец дрессировал ее: она, по его приказу, становилась на дыбы и принимала всевозможные позы. Моя сестра, двенадцатилетняя девочка, ездила на Амалатбеке в амазонке, и, по воле отца, лошадь с всадницей лихо взвивалась на дыбы. Кроме этих двух лошадей, у нас был осел, очень хитрый, надувавший брюхо, когда его седлали, и лукаво посматривавший на сбившееся на сторону седло. Осел был упрям, как и все ослы, и часто ничто не могло заставить его сдвинуться с места. Порой он придумывал хитрость, чтобы сбросить седока: разбежавшись, сразу останавливался,— седок, конечно, по инерции летел вперед. Этот осел служил забавой для всей семьи: он не мог видеть ни одной процессии, чтобы к ней не пристать, и, случалось, сопровождал вместе с седоком погребальное шествие до самого кладбища, и никакая сила уже не могла заставить его свернуть с намеченного пути.
Я засмеялась:
— Вот как! Оказывается, даже животные заразились от хозяина чудачеством.
Клодт серьезно подтвердил:
— Животные всегда перенимают от своих хозяев их навыки, их доброту. Это хорошо знают те, кто имеет с ними дело и любит их. Я продолжаю. Наша дача служила притчей во языцех. Частенько около калитки ее собиралась густая толпа; люди заглядывали во двор или в сад, где был устроен матерью импровизированный маскарад, цирк или иллюминация. Случалось, размалеванные, разодетые в фантастические костюмы всадники катались по дорожкам сада на осле или в колеснице, напоминающей колесницу древнеримскую… В тысяча восемьсот пятидесятом году отец продал дачу в Павловске и купил имение «Халола» в Финляндии, около Новой Кирки, в восьмидесяти семи верстах от Петербурга.
Художник порылся в бумагах, выложенных на стол из ящиков бюро.
— Давайте-ка пока проверим записанные вами скучные даты. Верно. Память мне не изменила. Пишите еще: седьмого марта тысяча восемьсот пятьдесят первого года назначен профессором первой степени. За это время отец успел окончить все группы аничковских лошадей и работы в московском Кремлевском дворце. За них он получил,— пишите,— пятого мая тысяча восемьсот сорок девятого года золотую медаль, а на год раньше был зачислен в члены Королевского общества северных антиквариев. Группа аничковских лошадей была послана в Неаполь, в подарок неаполитанскому королю. Отец в это время был уже европейской знаменитостью. Его знали и в Италии, в этой колыбели искусств, куда отправляли на казенный счет наиболее даровитых питомцев академии. Но и на вершине славы он оставался таким же простым и доступным каждому, как и во время первых лет своей художественной деятельности. В Финляндии местные крестьяне скоро оценили своего нового соседа, заменившего прежних прижимистых и часто даже жестоких владельцев. Все, кто обращался к нему за помощью и советом, всегда находили самое сердечное отношение. Но отец был непрактичен и плохо понимал сельское хозяйство; управляющие постоянно его обкрадывали. «Халола» давно уже не принадлежала никому из Клодтов, но память о скульпторе Клодте много лет спустя все еще жила в сердцах местного населения, переходя от дедов к внукам, и «Халола» через много лет продолжала именоваться «Барона мыза», как называли ее финны.
— Но все-таки доход с нее был, с этой «Барона мызы»?
Художник усмехнулся.
— Вы бы лучше спросили, как велик был с нее убыток. Хозяйственных дел я не знаю, но помню, что кругом толковали: «Халола — это утроба ненасытная». Отец сам увеличивал расходы по имению: он любил строиться, и на постройки у него выходила масса денег; кроме того, его обворовывал всякий, кому не лень. Добряк, простодушнонаивный, как ребенок, он всем верил и никому не мог отказать в просьбе, как не мог себе представить, что его станут обманывать. Он не знал счета деньгам, не имел даже портмоне. Обкрадывал скульптора, в числе других, и лакей, таская из комода и кармана деньги. Иногда он приходил по утрам, с самым чистосердечным видом подавал отцу какую-нибудь незначительную мелочь и уверял, что она высыпалась из кармана, когда он чистил платье барона, а барон хвалил всем честность слуги, спрятавшего на самом деле большую половину в своем кошельке.
— Это мне знакомо,— сказала я, вспомнив, как обкрадывал когда-то и моего отца его лакей Павел Козырев.
Клодт продолжал:
— Моего отца эксплуатировали многие. Так, раз в городе к нему явилась просительница, дама под густой вуалью, громадного роста, вся в черном. Упав перед ним на колени, она умоляла о помощи и рассказывала, что она одинокая вдова, без всяких средств к существованию. Эта «вдова» говорила грубым голосом и имела очень резкие манеры, что сейчас же бросилось в глаза отцу, но тем не менее он дал ей денег. Потом горничная рассказывала: «Когда «вдова» уходила, на лестнице поднялся кран ее юбки, и под нею были видны брюки. Это мужчина, как есть мужчина!» А отец на это добродушно кивал головой: «Да, да, несомненно мужчина, я это тоже заметил. Но что же было делать? Раз он у меня просит,— значит ему нужно. Разве я могу не дать?» Он никогда никому не отказывал в посильной помощи. Еще в Павловске, в холерный тысяча восемьсот сорок восьмой год, сам мчался в аптеку на Амалатбеке, без седла и недоуздка, чтобы оказать скорее помощь заболевшей жене кучера.
— Он ненавидел безделье и отдых полагал лишь в перемене занятий,— продолжал Михаил Петрович: — Какой-то мудрец правильно сказал: «Скука — моль души>. Эта «моль» никогда не могла найти дорогу к моему отцу: он всегда изгонял ее, как только она собиралась к нему приблизиться, замахиваясь то детским башмачком, который шил, то седлом или сбруей, то долотом, которым орудовал рядом со столяром. Но надо отдать справедливость — поделки его не всегда были удачны, особенно огромная крытая фура, которую он изобрел после «римской колесницы».
Художник снисходительно-ласково засмеялся:
— Финляндской железной дороги в то время не было, и из «Халолы» приходилось ездить в Петербург на лошадях. Отец часто совершал в своей невообразимой фуре со всей семьей поездки в Сестрорецк. Обыкновенно кортеж состоял из множества разнокалиберных экипажей. Помимо знаменитой фуры, тут были и кибитки, и крытые тарантасы, и простые телеги. Когда этот странный поезд отправлялся в путь, мальчишки бежали сзади с криками: «У! У! Цыгане! Цыгане!» Все окрестные жители, впрочем, знали безобразную карету, крытую только для грунта первым слоем ярко-красной краски, вторым, черным, ее еще не успели покрыть, когда она пошла в дело. Люди издали замечали этот знакомый рыдван и улыбались: «А вот и барон катит». Отец был большой непоседа. Ему до всего была забота, и он много ездил и по своим и по чужим делам. Часть недели он жил в Петербурге, а другую — в деревне. Когда же начинал высчитывать, то оказывалось, что вследствие дальности расстояния между городом и деревней ему приходилось большую часть времени проводить в дороге.
Михаил Петрович положил руку на мои записки.
— На сегодня, пожалуй, довольно; я устал, да и вы что-то побледнели.
close_page
ЧЕТВЕРОНОГИЕ МОДЕЛИ
Михаил Петрович давно обещал рассказать о своеобразном зверинце отца и, наконец, в один долгий зимний вечер начал:
— У отца к пятидесятым годам прошлого века было уже немало работ, широко его прославивших. Работоспособность его была изумительная. В тысяча восемьсот сорок седьмом году он вылепил громадный барельеф, в двадцать четыре сажени длиной, для конюшен Мраморного дворца. На нем он изобразил всю жизнь лошади. Особенно плодотворными оказались тысяча восемьсот пятьдесят третий, тысяча восемьсот пятьдесят четвертый и тысяча восемьсот пятьдесят пятый годы, когда отцом были вылеплены и вылиты памятники святому Владимиру в Киеве и знаменитый памятник Крылову для Летнего сада. Кроме этих работ, отец исполнил для царских врат Исаакиевского собора барельеф «Христос во славе» из серебра с позолотой и много мелких работ из глины, воска и дерева: барельефы, бюсты, этюды лошадей и других животных. Страстно любя искусство, он все, что только мог, делал в этой области сам: сам отлил колоссальную статую святого Владимира, сам и отвез ее в Киев, причем ехать пришлось на лошадях ввиду отсутствия железных дорог.
Вы только себе вообразите: месить жидкую грязь распутицы, когда колеса застревают в колдобинах, а лошади будто ныряют в невылазную трясину!.. Дорога была так ужасна, что недалеко от Орла возчики бросили статую. Отцу пришлось кое-как дотащиться до города и там нанять новых возчиков. Наконец, со всевозможными препятствиями памятник был доставлен в Киев. Вскоре после этого отец устроил в Киеве рисовальным учителем кадетского корпуса Агина… Читаю ваши мысли,— вы в претензии: памятник святому Владимиру, а где же обещанные звери?
Я засмеялась и не возражала.
— Сейчас доберемся и до зверей. Они нужны были отцу для работы над памятником Крылову, который он исполнял, получив первый номер на конкурсе. Не помню точно, сколько времени он работал над моделью, но статуя была окончена в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году. Рисунок модели, который нужно было представить для утверждения государю и академическому совету, ему делал Агин, блестящий рисовальщик, как раньше аничковских лошадей делал Карл Павлович Брюллов. Поэтому Агин чуть не дневал и ночевал тогда у нас, зарисовывая с натуры набранных отцом животных. Эти животные жили у нас как члены семьи. И чего-чего только не было в обширных мастерских отца! Они наполнялись сплошным ревом, воем, блеяньем, писком. Из царской охоты прислали волка; из Новгородской губернии, от дяди,— медведя с двумя медвежатами; художник Боголюбов подарил маленькую забавную макаку с острова Мадеры. Отец добавил эти персонажи журавлем, ослом, лисицей и овцой с ягнятами. Все это разношерстное общество жило бок о бок не только в клетках: многие свободно расхаживали по мастерской и по комнатам и были дружны между собой, креме волка, который не мог удержаться. чтобы не охотиться за кошками. Матросы корабля. привезшие макаку, назвали ее «Макаром Иванычем». Эта обезьянка была презабавная, и мы. дети, возились с нею с утра до ночи; но еще забавнее были медведи, особенно один, с которым случалось немало курьезов, как и с волком. Вы помните описание огромней мастерской отца? Помните, что в нее вела лестница снаружи? И волк, названный нами «Воля», лежал часто, как сторож, на ступенях лестницы, у входа в мастерскую. И какой ужас охватывал посетителей мастерской, не предупрежденных заранее об этом четвероногсм стороже, когда тот поднимал большую свирепую с виду морду или оглашал мастерскую характерно-унылым волчьим всем, выглядывая из темного угла глазами, сверкающими красными огоньками. А между тем это было самое милое, доброе животное, привязанное к людям, как собака. Значит, неверна поговорка: как волка ни корми, он все в лес смотрит…
— А медведь? — спросила я.— Вы хотели рассказать про шалости медведя.
Он закивал головой.
— Сейчас, сейчас. Их было так много, этих бессловес ных наших друзей, что, как говорится, глаза разбегаются» а с ними и мысли. Медведь не уставал утешать нас самыми забавными выходками. После обеда мы, дети, обыкновенно играли с зверями в зале. Вместе с волком и медведем в зал забирались две большие собаки, и тут начиналась потеха. Намазав патокой изразцовую печь, мы хохотали над неуклюжей фигурой медведя, тщательно облизывавшего сладкую патоку; иногда рабочие подпаивали лакомку сладкой водкой, и тогда он, охмелев, начинал реветь и кувыркаться, а иногда не мог пройти и двух шагов, чтобы не упасть. Но всего забавнее была его игра с овцой. Он подкрадывался к ней издали; она стояла, опустив голову и прикрывая собой ягненка. Неуклюжий Михайло Иваныч становился на задние лапы и решительно двигался вперед; овца прибегала к самозашите и ударяла его крепким лбом в живот. Топтыгин обижался и с ревом отходил, но обида скоро забывалась, и потеха начиналась снова.
Художник улыбался своим воспоминаниям, и эта мягкая улыбка его молодила. Вошла Жанна Петровна что-то спрссить по хозяйству, но заслушалась и остановилась:
— Рррраскаши, Михал Петровиш, пошалюста. как медведь убегаль на лед…
Она, оказывается, знала эту историю наизусть и никогда не уставала снова слушать. Он начал:
— Пожалуй, это была самая забавная штука из всех, которые проделал наш мишка. Зимними сумерками отец кончил лепить и закрыл работу мокрыми тряпками. Арсений запер на ночь некоторых из обитателей «зверинца»; Другие и сами убрались на покой; заснул на подстилке рядом с собаками Воля, спала на мягксм тюфячке и обезьянка, и только один косолапый, как-то позабытый, притаился за яшиками и ждал, когда Арсений уйдет из мастерской. Едва шаги старика стихли, мишка вылез из засады, осторожно забрался на громадный стол, тянувшийся под окнами, вдоль стены, и стал размышлять. В окна мастерской, поднимавшиеся невысоко над тротуаром, смотрела лунная ночь. Снег искрился; виднелась бесконечная гладь Невы. Вспомнил ли медведь прогулки на свободе в родных лесах, захотел ли выкинуть новую проказу, но он встал на задние лапы, попробовал достать большую широкую форточку, убедился, что она не заперта, и, открыв ее, вылез на улицу.
— Михал Петровиш,— послышался голос Жанны Петровны,— непррременно будет рррассказать эта замешательная исторррия наши дети, когда они будут понимать, а ви напишите ее для детская книга.
— Я, конечно, расскажу,— подхватил Клодт.— Так я продолжаю. Ночь была звездная, а Нева искрилась серебром. На снегу реки чернели вехи — крошечные елочки мостков. В синем свете морозной ночи черной глыбой на просторе Невы выделялся мишка. В это время по мосткам шел, возвращаясь с работы, один из маляров, живших недалеко от академии. Он принял медведя издалека за собаку и ласково к себе поманил. Но когда мишка поднялся на задние лапы и доверчиво пошел за парнем, тот ясно разглядел медведя. Его ноги точно приросли ко льду. Дрожа всем телом, он рванулся и пустился бежать от страшного зверя… А мишка, думая, что маляр с ним играет, весело побежал сзади. Чем больше припускал шагу маляр, тем быстрее бежал медведь. В нашем доме он привык к теплу, ласке, людским голосам и, очутившись на свободе, успел и озябнуть и соскучиться по друзьям-лю- дям и теперь был рад ласковому зову парня. Маляр стремглав влетел в квартиру артели; бледный, дрожащий, с выпученными глазами, бросился он на лавку и закричал, задыхаясь: «Ребята… за мной… медведь…» Вслед за ним мохнатым комом ввалился мишка, весь в снегу, с веселым, радостным ревом… Маляры, часто работавшие в академии, хорошо знали отцовский зверинец и, увидев Топтыгина, расхохотались: «Да ведь это клодтовскии Михайло Иваныч! А тебе и невдомек, спужался, глупый! Вот что значит—новый, только что из деревни,— баронова мишку и не знает!» И они наперебой стали угощать медведя: кто сахаром, кто патокой… А мы в это время теряли голову в поисках, и какова была радость, когда маляры привели к нам мишку обратно!
— Медведь, вероятно, и сам так испугался, что больше не отважился лазить в форточку?—спросила я смеясь.
— Какое там! — махнул рукой художник.— Прогулка, видимо, очень понравилась Топтыгину. Он решил ее повторить, и довольно скоро. Дело было в праздник, днем, когда отец не работал. У окон мастерской собралась большая толпа, глазея на застрявшего и беспомощно барахтавшегося в форточке медведя. На этот раз он застрял. Я прибежал, слыша хохот, крики, улюлюканье, и сначала даже не понял, что творится. В хаосе звуков слышался звон разбитого стекла, треск оконной рамы. В форточке барахтался и ревел во все горло наш мишка. Мы бросились его освобождать. Он не знал, как выразить свою радость, и стал бегать на глазах у публики, которая не расходилась и хохотала: «Ну и представление… не надо ходить и в балаган…»
— И долго у вас жили звери? — спросила я.
— Целых четыре года. Сроднились мы с ними… Но работа подошла к концу; со зверями много хлопот,— нужно было для них держать лишнюю прислугу. «Слишком дорогая прихоть»,— говорила мать. И пришлось, наконец, ликвидировать зверинец. Отец решил отправить зверей на Мойку, к немцу Заму, куда он перед тем ездил, чтобы лепить диких хищников, сидящих в клетках, которые были изображены на пьедестале памятника. Настал тяжелый день для нас, детей, да, верно, и для отца: в этот день пришлось навсегда попрощаться с нашими четвероногими друзьями. Мы горько плакали. Вряд ли кто из нас спал в эту ночь.
Он помолчал и задумчиво продолжал:
— Мастерская странно опустела. По набережной к Благовещенскому мосту двигался воз, нагруженный клетками, и Зам шел рядом, громко покрикивая на возчиков. Через два месяца мы отправились навестить старых друзей в зверинец Зама. Был чудесный весенний день. Лед на Неве стал буроватый и рыхлый, но солнце весело скользило по лужам, и яркие лучи его врывались в раскрытые двери тесного зверинца. Здесь было полутемно, душно, отвратительно пахло: со всех сторон слышались крики, рев, визг и вой. Зам предостерегал нас подходить близко к клеткам: «Зверь дикий и в клетке сердитый. Он может укусить». Отец возражал: наши звери были настолько ручные, что не могли так скоро одичать. Мы шли мимо клеток со львом и львицей, с тиграми, черной пантерой, и вдруг я увидел нашего Волю. Я сразу узнал его. Он лежал с унылым видом и исподлобья смотрел на подо шедших. Видимо, он не ожидал нас увидеть и равнодушно повернул голову. Со всех сторон раздались крики: «Воля, Воля!» Это кричали в один голос мы, дети. Волк вытянул морду, глаза его сверкнули; приподнявшись, он издал дикий радостный вой и вдруг завизжал и забился о прутья клетки, стараясь их разломать, чтобы вырваться к друзьям. Но клетка была крепка, и животное с жалобным воем опустилось на пол, покорно и грустно приникнув горячим языком к протянутым сквозь прутья клетки детским рукам. И другие звери нас узнали: узнал Макарка, печальный, похудевший в неволе, узнал и мишка, ставший в клетке грустно-степенным. И было больно покидать зверинец…
close_page
ДЕЛО ИДЕТ К КОНЦУ
— Мы подходим к концу воспоминаний о жизни моего отца,— сказал Михаил Петрович в один из вечеров.— Я хочу перенестись в «Халолу», на милую «Барона мызу», в ноябрьский день тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года. Отец был уже на высоте мировой славы, избран членом Академии святого Луки в Риме, членом Прусской академии, а в памятный тысяча восемьсот шестьдесят седьмой год получил почетный орден «Pour le merite», орден, который давался весьма редко и исключительно за выдающиеся заслуги. Отец был бодр, полон планов для будущих работ, окружен большой любимой семьей, многочисленными внуками. Он даже не придавал никакого значения жестокому ревматизму, начавшему его терзать еще года за три. У отца свело ногу, и он должен был вести сидячий образ жизни, что вредно отразилось на общем состоянии организма, особенно при его полнокровии. Нетрудно было предвидеть, что он кончит апоплексическим ударом. Но отец не хотел капитулировать перед физическим недугом и упрямо твердил, сдерживая гримасы боли: «Сегодня мне лучше… вот только немного с ногой неладно… но это пройдет…» И мозг и руки продолжали неустанно работать. В «Халоле» у него оставалась мастерская, вся заставленная верстаками, тисками, столами, все возможными инструментами. Особенно много времени он уделял внучатам, придумывая им тысячи самых разнообразных удовольствий. Между отцом и юной компанией внучат прочно установились самые дружеские, полные доверия отношения: он им шил обувь, вырезывал из картона силуэты родных, знакомых, силуэты животных, а по вечерам показывал китайские тени. Кое-что из силуэтов сохранилось у моей племянницы, а его внучки — Любочки… Любови Александровны Редькиной… Вот постойте…— Он стал рыться в бюро.— Такая досада, сразу не найти,— память не всегда слушается. На днях Любочка мне принесла, засунула, а теперь не найду.
И, нетерпеливо, с сердцем задвинув яшик, продолжал: — Отец не терпел белоручек и, как прежде своих детей, так теперь внуков хотел видеть всегда за делом. В одну из поездок в Петербург он даже привез им в «Ха- лолу» принадлежности для стирки, и детвора ретиво, добросовестно постирывала разные мелкие вещицы из носильного белья, и от них у нас в доме требовалось, чтобы они для этой стирки сами носили воду.
Последней большой скульптурной работой отца, выполненной им за четыре-пять лет до кончины, была бронзовая фигура Лютера в одну из остзейских провинций; повторение ее из бронзированного гипса было сделано для церкви в Новой Кирке…
Художник прислушался к голосам, доносившимся из столовой.
— То, что я хочу сейчас рассказать, неприятно будет прервать, а нас сейчас позовут к чаю,— сказал он.— Отложим до конца вечера. Лучше вы расскажите, над чем вы сейчас работаете.
— Ну вот, покончили и с чаем, все тихо. Жанна Петровна моя теперь ведет важное совещание с Дульцинеей о своей особой «кухонной лаборатории», как экономнее, разнообразнее и вкуснее сделать завтра обед, и никто нс будет нарушать нашу беседу,— даже сверчок куда-то переселился или умер…
Тон у художника был грустно-задушевный…
— В «Халоле» у нас в памятный тысяча восемьсот шестьдесят седьмой год гостила моя сестра Мария Петровна Станюкович с детьми, в том числе и с Любочкой. Был ненастный вечер восьмого ноября. Ветер выл за окнами, но в столовой «Халолы» было тепло и уютно. Отец попросил домашних угостить его любимым лакомством — клюквой с патокой.— ведь он был прост во вкусах, так же как прост в привычках. Покончив с этим блюдом, он уселся за большой обеденный стол в ожидании чая, а вокруг сейчас же разместился рой внучат. Детские голоса внучат звучали наперебой, давая дедушке заказы: «Мне лошадку!», «Мне корову!», «Мне овечку!», «И еще собачку!», «Кошечку! Кошечку!», «Петушка!», «И индюка, чтобы шипел и тряс бородой!», «Нет, уж лучше гуся, и чтобы тащил Любочку за платье, а она бы кричала!» Заказов на силуэты для детворы могло хватить на неделю. Отец добросовестно и неутомимо работал ножницами.
Послышались знакомые шаги слуги Афанасия, вносившего кипящий самовар. Отец обернулся к Любочке, держа в руках вырезанную корову и делая неимоверно страшные гримасы. Любочка думала, что он шутит, и закричала: «Не надо, дедушка, так гримасничать… я боюсь» Но отец вдруг покачнулся и упал со стула. К нему бросились все бывшие в комнате: моя сестра Мария Петровна, дремавшая в ожидании чая на кушетке, ее муж и Афанасий. Меня и братьев в это время в «Ха- лоле» не было. Отца подняли, положили на кушетку, давали нюхать спирт, старались всеми силами привести в чувство, послали за доктором. Но он не приходил в себя, и, когда приехал живший в десяти верстах от «Халолы» врач, он констатировал смерть. Никто не хотел верить, что жизнь этого сильного, бодрого и такого всем нужного человека кончена. Доктор должен был пустить кровь» и кровь не показалась. Очевидно, смерть наступила мгновенно, как раз в тот момент, когда отец сделал гримасу—
Михаил Петрович замолчал, погружаясь в воспоминания, и растроганным голосом продолжал:
— Как сейчас вижу эту большую комнату. Мы входим вдвоем с двоюродным братом А. А. Ященко… За нами в Петербург приехал Афанасий, который остался в городе, чтобы привезти гроб и все. что нужно для погребения. Отец — еще на кушетке; на длинном столе разбросаны только что вырезанные им силуэты животных;

Скульптор П. К. Клодт.
в мастерской на верстаке — столярные инструменты, а рядом. на столе, одинокий, только что сшитый детский башмачск.
Художник сделал паузу, потом продолжал:
— Остается сказать немногое. Вспоминается один день. Незадолго до этого рокового восьмого ноября в Петербурге я зашел в мастерскую к отцу и застал его за работой. Он формовал маленькую лошадку. Я внимательно следил за его работой. Отец мне сказал: «Ну вот, Миша, ты мне помоги и учись формовать,— быть может, тебе и пригодится». Она мне пригодилась, эта наука формовки, теперь: я применил ее в первый раз для снятия маски с отца…
Голос его прервался. Он продолжал тихо и печально:
— Тяжелая это была работа: казалось просто ужасным натирать помадой мертвое лицо, как у живого натирают для смягчения кожи… А потом пришлось накладывать густое тесто из алебастра, прорезывая его суровыми нитями до самого тела, чтобы, при наложении второго слоя алебастра, легко было, приподнимая нити с обоих концов кверху, разрезать и вторую накладку и тем облегчить разнятие формы. Невыносимо тяжело делать эту манипуляцию над близким человеком. Невозможно сразу отрешиться от сознания, что он — не живой, а обращаться с ним, как с вещью. Я испытывал невыразимые мучения: все казалось, что отцу нечем дышать, что в ноздри надо было бы вставить кусочки гусиных перьев или соломинки, через которые он мог бы дышать, как делали это часто при снятии маски с живых, и ему невыносимо мучительно выдерживать на лице это белое месиво… Ведь алебастр, твердея, разгорячается и производит удушливую теплоту. Руки меня не слушались и дрожали, по щекам текли слезы, но я продолжал работать под заглушенные рыдания семьи, в зловещей тишине, какая бывает, когда в доме покойник.
Помнится, как во сне, что маску потом хвалили; кто- то советовал полировать ее посредством мыла и натирания байкой; кто-то спорил, что слепок надо нагреть в печке и пропитать растопленным стеарином, как любил это делать скульптор Рамазанов, а то бронзировать, покрыв предварительно лаком из анимы и льняного масла, и предлагали разные рецепты для правильной пропорции, предлагали и свои услуги…
Странно, как часто люди не понимают момента величия смерти и предлагают от души то, что в эту минуту скорби вас ранит… Я знаю, как память об отце, этом большом человеке и замечательном скульпторе, моя маска нужна, и хорошо ее дать более совершенной, более прочной, но все же об этом надо было говорить не в первые часы его кончины, даже не в первые дни… Вот он передо мной — такой знакомый, близкий, дорогой, но неподвижный, с сомкнутыми веками, в гробу, и его скоро от нас навсегда унесут, а голос товарища по искусству нудно-надоедливо диктует рецепт бронзировки: «Надо дать лаку высохнуть настолько, чтобы оставалось несколько клейкости; тогда на сухую мягкую кисть надо взять бронзовый порошок и припорашивать им не сплошь, а местами». И другой голос, не менее неуместный и нудный: «Нет, стеарин эффектнее… Помнишь, какая была история с Рамазановым! У него имелся слепок из лучшего казанского алебастра, хорошо пропитанного стеарином, и одна дама, знакомая с образцами скульптуры за границей, увидев этот алебастровый слепок, поздравила Рамазанова с новым произведением из мрамора». Они даже могли довольно громко смеяться, и опять посыпались воспоминания и имена скульпторов: Гальберг, Орловский, Пименов, Мартос, мастерская Торвальдсена в Риме и примеры: «А помнишь барельефы «Четыре времени года» для «Отрады», подмосковного имения графа Орлова-Давыдова? Они были сделаны таким же способом, из лучшего алебастра, пропитанного стеарином, и все их принимали за мраморные…» — «Да, да, полная иллюзия…» И опять имена и примеры разных скульптурных работ. Вспомнили даже, как хранитель Эрмитажа скульптор Беляев, работавший «скрупулезно», ввел способ формирования чучела птицы: для вящего эффекта снятие отдельных перьев…
Он умолк, погрузившись в воспоминания; я не прерывала и ждала. Потом художник точно проснулся, тряхнул серебряной головой и сказал с улыбкой:
— А знаете, несмотря на славу, отец умер бедняком. Он не умел копить. Два выигрышных билета и шестьдесят рублей — вот все, что осталось после его смерти, и из этих денег почти все пришлось отдать, чтобы расплавиться с его мелкими долгами. Его похоронили на Смоленском кладбище. Было много соседних крестьян, которые искренне любили отца. В Петербурге на похоронах было много художников…
Мы закончили воспоминания о скульпторе П. К. Клодте, и я стала редко бывать у Михаила Петровича.
У меня были свои переживания; я много работала, и в редкие дни досуга многих надо было навестить, о многих позаботиться… А они уходили, старые ветераны искусства. В 1914 году умер и Михаил Петрович Клодт. В последнее время его крепкий, выносливый, как у отца, организм пошатнулся: он стал часто простужаться, н, помнится, кончил жизнь, как большинство стариков, сраженный гриппом и пневмонией.
Осталось двое детей: подросток Жанна, красивая, похожая на мать и, как мать, здоровая девочка, и младшая Петруша, большие глаза которого и весь облик так напоминали отца.
close_page
«ВСЮДУ жизнь»
НА ВЫСТАВКЕ
— «Всюду жизнь» — ведь в этом символ…
— Заметьте: женщина в своей скорби находит утешение в любви к божьей пташке… Где любовь, там и бог…
— Ну, запахло толстовщиной!
— Глубже надо подойти, здесь выражение социальной психологии…
— Да, женщина… у нее лицо изумительное… И где только Ярошенко разыскал такую модель? Что должна была пережить эта женщина?
Я слушала разговоры публики у картины Ярошенко на выставке передвижников в Обществе поощрения художеств на Большой Морской.
Картина врезалась в память, и более всего — женщина со своим особенным, простым, некрасивым, вдумчивым лицом, одухотворенным страданием…
Прошло более двадцати лет, и я познакомилась с моделью Ярошенко; мне было суждено близко узнать ее и подружиться с ней.
Когда я видела ее на картине, мне было шестнадцать лет; при встрече с нею в жизни моей дочери было столько же.
Я познакомилась с нею на вечере у издателя детского журнала «Родник» А. Н. Альмедингена. Я редко бывала на таких вечерах, но как-то зимой, кажется на святках, решила посмотреть на моих товарищей вне работы. И, как всегда, почувствовала непроглядную скуку и желание поскорее незаметно улизнуть. Собравшиеся, как это можно часто наблюдать, не были объединены общими интересами; здесь были люди, что называется, «с бору да с сосенки», журнал являлся для одних источником дохода, для других — щекотанием самолюбия; никто не принимал участия в обсуждении его программы. Собравшиеся большей частью почти не знали друг друга.
Сижу и скучаю. Вдруг слышу — женский голос называет мою фамилию.
— Мне давно хочется с вами познакомиться. Ведь мы товарищи по перу. Кроме того, мои дети выросли на ваших книжках.
Какое странно знакомое лицо, уже немолодое, некрасивое, простое, но значительное. Одета в черный скромный костюм; волосы гладкие, негустые, причесаны на прямой пробор.
Она называет себя:
— Стефания Степановна Караскевич-Ющенко.
Я знала это имя. Оно попадалось мне на страницах «Русского богатства». Тематика Караскевич была мне интересна, она захватывала крестьянскую жизнь Украины; Караскевич писала скупым языком, хорошо знала деревню и давала четкие, выпуклые образы. Кроме того, я знала, что «Просвещение» готовит два томика ее рассказов и повестей, среди которых была и историческая повесть о Богдане Хмельницком. В «Русском богатстве» особенно мне понравилась ее маленькая вещь «Хозяйственный Зоть» — трагедия крестьянки. Верная оценка жизни, без ложного пафоса, без сентиментальности, яркое воспроизведение природы, быта, глубокое раскрытие психологии, краткость — все это делало маленький рассказ примечательной вещью.
Поэтому я от души протянула руку новой знакомой. И как-то сразу разговорились. Она меня пригласила бывать у нее по субботам.
— У меня дома молодежь — вашей дочке будет не скучно… У меня дочь и два сына. Приходят подруги, товарищи. Бывают и постарше — к нам.
Я обещала приехать и все продолжала вглядываться в ее лицо.
— Отчего вы на меня так смотрите?
— Оттого, что мне хочется припомнить, где я вас видела. Почему мне так удивительно знакомо ваше лицо?
— Мое? — засмеялась она.— Вероятно, в этом виноват Ярошенко.
Я сразу не поняла.
— Думаю, что вы видели меня на его картине «Всюду жизнь». Я служила моделью для той женщины,— помните? — что кормит голубей.
ПО СУББОТАМ
Большая, странно не подходящая к простой внешности хозяйки квартира, что-то комнат восемь,— все громадные и неуютно-холодные.
Стефания Степановна сходится со мной во многом, но в одном мы различны: я бываю бестолкова, разбрасываю вещи, не умею обставить свою жизнь, но у меня есть слабость — люблю уют, может быть своеобразный, тесный уют, но люблю теплые уголки. Стефания Степановна их не понимает.
У нее все фундаментально: фундаментальна мебель, правда старинная, красного дерева, но крытая современным, несколько кричащим шелком, расставленная в виде оазисов в огромных пустынных и холодных комнатах; фундаментальны буфеты с серебром и сервизами; фундаментален солидный обеденный стол, уставленный фундаментальными кушаньями, причем на вечерах торжественно объявляется, какое нынче «дежурное блюдо» — телятина или ростбиф.
Я знала, что главной пружиной этого быта является хозяин дома, небольшого роста, быстрый в движениях и в разговоре ученый, выбившийся на дорогу из нужды, но не без согласного участия жены.
Все было, «как в добропорядочном доме». И гости, которые здесь собирались, были все очень добропорядочные, но, странно, они совершенно не запоминались: они были все точно на одно лицо.
Случалось, встретишься с кем-нибудь из посетителей этого дома где-нибудь на улице или в общественном месте,— здороваются. Отвечаешь поклоном и не знаешь, кому кланялась…
Но почему это происходит? Почему так однотонны и бесцветны все разговоры в этом доме, где есть молодежь, где хозяйка дома — простая, хорошая женщина и в то же время талантливая писательница, а хозяин — выдающийся доктор, впоследствии профессор, директор психиатрической клиники в одном из наших крупных городов?
Когда случалось разговаривать с Александром Ивановичем Ющенко отдельно, было интересно. Был даже юмор.
На мои сетования, что на Украине мало воды, что, например, в Подольской губернии крестьяне не ходят даже в баню, он, смеясь, кстати вспоминал о своем отце, черниговском крестьянине, который говорил, когда его спрашивали в больнице, часто ли он купается:
— Оце не важно! У нас у Черниговщине чоловик ку- пався три раза: перше — як родився, второй раз — як крестився, третий — як у домовину кладуть…
Он интересно рассказывал о своих научных работах, об исканиях в области психиатрии.
Не знаю, отказался ли он впоследствии от своей теории, но тогда о ней говорили немало, хотя многие в научном мире ее оспаривали: Ющенко обращал внимание на состав крови психически здорового человека и психически больного и находил, что между ними имеется большое различие.
Рассказывал он и о том, как попал в эту пышную квартиру.
Граф Орлов-Давыдов принадлежал к вырождающемуся роду. Он был ненормален. За границей, во Франции, его лечил какой-то известный психиатр, в сущности шарлатан, беря с родных за это лечение колоссальные деньги. Потом, когда врач решил, что он получил довольно денег с богатого пациента, он послал письмо какому-то своему приятелю-коллеге, рекомендуя с наивным Цинизмом:
«Обери, как тебе нужно, этого жирного русского гуся».
Письмо случайно было прочитано родными, и «гусь» в руки новой французской знаменитости нс попал,— его сосватали молодому и добросовестному русскому ученому и отдали тому в полное распоряжение.
Ющенко знал, что граф неизлечим, и честно сообщил об этом родным. Он взялся только сделать из этого дикого зверя, не моющегося и ходящего голым, приличного с внешней стороны человека, взялся дать ему возможный для него смысл жизни.
И вот, по предписанию Ющенко, на Каменноостровском проспекте был построен поместительный особняк, нижний этаж которого занимал он сам, пополам с управляющим Аккерманом; в верхнем же были апартаменты больного: целая анфилада комнат, богато обставленных стильной мебелью, украшенных редкой коллекцией драгоценного фарфора.
И в этом дворце, среди множества слуг, под присмотром сестры милосердия, двигался одинокий граф, молодой и красивый, но неизлечимо больной, лишенный воли… Ющенко достиг одного — больной из полуживотного состояния стал настолько с внешней стороны походить на человека, что его можно было даже водить в театр, смотреть легкую комедию, оперетту, водить на выставки; он даже мог заниматься слегка химией…
Ющенко держал своего пациента под угрозой отнять сравнительную свободу в пределах особняка и отправить его в психиатрическую больницу на станцию Удельная. Когда же граф «вел себя хорошо», ему предлагалось даже совершить приятное путешествие в Ментону, где у него была собственная вилла и куда отправлялась часть его штата, с доктором во главе.
Для Ющенко этот пациент был выходом. Получая большое жалованье, прекрасную квартиру и частые поездки за границу, он мог свободно заниматься наукой, не гоняясь за грошовым заработком подобно многим своим товарищам.
Он без конца рассказывал о методах лечения графа и тут же о разных случаях своей интересной практики, о клинической работе, о достижениях психиатрии — вот это и было интересно.
Но беседы на подобные темы велись не на журфиксах. На журфиксах по субботам тянулись без конца скучные разговоры людей, случайно встретившихся…
— Это было в дни моей юности… Меня звали тогда большей частью забавно и грубовато среди студентов — «Стехой»,— рассказывала мне Стефания Степановна.
Мы сидим с нею в ее кабинете вдвоем, и я чувствую, что сейчас мне с нею хорошо, гораздо лучше, чем было несколько дней назад, когда она пригласила меня к себе на рождественский сочельник, праздновавшийся у Ющенко согласно старинным украинским обычаям, с кутьей, взваром и девятью традиционными блюдами.
Она вспоминает о своей молодости, о том, как вышла замуж за бедного студента-медика, как пришлось сразу начать тяжелую, трудовую жизнь.
И вспоминает еще другое: историю, в которой сказывается ее хорошая душа, словно пропадавшая по субботам, когда она хотела, чтобы у нее все было хорошего тона: сервировка стола, обстановка, белые передники и наколки у выдрессированной прислуги.
— Я знала Синани,— рассказывала в одной из бесед Стефания Степановна.— Недаром Борис Наумович Синани в бытность свою директором новгородской Колмов- ской психиатрической больницы был любимым врачом и другом Глеба Ивановича Успенского. Не думайте, что врач не способен любить своего больного, если он даже доходит до такого безнадежно тяжелого состояния, в каком находился Успенский. Истинный врач, любящий свое дело, не может не заметить красоты души, сделавшейся больной. Так было и с Глебом Ивановичем.
Я в свою очередь рассказывала Стефании Степановне о странностях характера этого врача, которого хорошо знала и который дарил меня своим доверием и дружбой в то тяжелое время, когда он потерял единственного сына и мне пришлось сделаться его утешительницей.
По лицу Стефании Степановны промелькнула тень грусти, и она вдруг мне ярко напомнила модель Ярошенко для картины «Всюду жизнь». Она положила мне руку на плечо.
— Представьте, и мне когда-то пришлось утешать и смягчать этого колючего человека… Нужно вспомнить его прошлое. Знаете ли вы, что в пору турецкой войны, когда он был полковым врачом и жил в палатке на балканских высотах, в полку его называли «общественная совесть»? Не было ни одного дела, ни одного спора, ни одного недо разумения, чтобы не обращались к суду Синани, и суду этому безусловно подчинялись все врачи на фронте. Он был резок, некоторым казался грубым, но всегда был искренен.
Я вспомнила лицо старика Синани, его серые глаза, пронизывающие острым взглядом из-под очков, его резкость и почти женскую мягкость в обращении с детьми и бескорыстность, диктовавшую ему такую простоту жизни, несмотря на громкую известность…
Я тихо сказала:
— Он очень несчастен. У него ведь умер от туберкулеза сын. И вот, знаете, этот сильный человек, преподающий мне правила жизни, однажды заплакал, припав к моим рукам, больной и слабый, и я гладила его седую голову и говорила слова утешения…
— Как удивительно! — воскликнула Стефания Степановна.— Ведь первую брешь в замкнутом сердце этого человека удалось пробить мне, много лет тому назад, когда у него умерла его старшая дочка, такая красивая, такая способная, хотя еще ребенок…
close_page
ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ
Стефания Степановна с этого дня воспоминаний о Синани все ближе и ближе сходилась со мной. В ее привязанности ко мне было что-то простодушно-детское.
Раз она надела мне на палец колечко с маленьким брильянтиком, точь-в-точь такое, какое было у нее, и сказала, обнимая:
— Я хотела, чтобы у нас были одинаковые, и заказала другое вам.
Началась революция. Раз или два я зашла к Ющенко и нашла и мужа и жену растерянными. Они не понимали ничего, что творилось кругом.
Я зашла к Ющенко как-то после митинга в Морском корпусе, в котором слушала выступление Ленина. Мне хотелось рассказать о нем Стефании Степановне.
Она смотрела на меня несколько смущенным взглядом.
— И вы слышали самого… самого Ленина?
Я догадалась: сумасшедший.
Квартира директора. Открывает он сам, Александр Иванович. Жмет руку, крепко жмет. Вводит в кабинет.
— Сейчас придет жена. Вы озябли? Погрейтесь у отопления. Я так рад.
«Жена… какая жена? Кто жена?» Чижов забыл сказать, кто заменил Стефанию Степановну.
Л между тем здесь все почти так, как было у Ющенко когда-то на Каменноостровском… Он рассказывает, рассказывает так, как будто речь идет не о нем, не о ней, новой жене, и не о той, которая была когда-то на ее месте хозяйкой. а как будто это история, прочитанная им в книгах.
— Да, вот и нет нашей Стефании Степановны…— говорил Александр Иванович.— Дело короткое, и рассказывать его недолго. Миша был убит на фронте. Она очень о нем тосковала. Задумывалась. Ничто не утешало — ни писание, ни книги, ни остальные дети, ни я. Поехала в любимую Подолию. Помните, вы все смеялись над нею и над Мишей, что они влюблены в Подолию и тын с цыпленком считают самым красивым пейзажем? Ну, так вот, и эта благословенная Подолия не утешила ее. Кончилось трагически: пошла к поезду… и бросилась.
Он говорил спокойно, очевидно пережил… Жена протянула ему чашку дымящегося черного кофе. Отпивая его маленькими глотками, профессор продолжал:
— Она оставила письмо. Просила меня жениться. И выбрала мне сама жену — вот ее.— кивнул он головой на спокойно убиравшую посуду вторую жену.— Стефания Степановна находила, что она составит мое счастье.
Я молчала. На меня со стены, из-за решетки арестантского вагона, смотрела молодая Стефания Степановна. «Стеха», как грубо-добродушно звала ее студенческая молодежь. как звали, вероятно, и у Ярошенко.
Как странно: вот она здесь, предо мной, на картине, в пору счастливой юности, полная надежд… Наверное, ома испытывала восторг творчества, когда на выставке слышала одобрения художнику, создавшему эту картину, потому что модель всегда бессознательно участвует в творчестве мастера.
— Ну да. Ленина!
У меня в груди росло и ширилось чувство восторга, и я начала ей передавать впечатления митинга.
Я рассказала, как просто, логично и правдиво говорил Ленин о необходимости кончить войну.
— Кончить войну?
В голосе и взгляде, в нетерпеливом движении рук Стефании Степановны, во всем было недоумение и вместе с тем радость: на фронте — Миша, любимый сын, славный юноша, которым она гордилась, о котором пролила много слез.
В марте 1918 года я переехала в Москву. Не успела зайти к Ющенко проститься и несколько лет ничего о них не знала.
В Москве года два спустя меня разыскали знакомые в рассказали питерские новости: кто из друзей переехал в другие города, кто умер, кто пропал без вести…
Синани давно, еще до революции, переселился на родину, в Симферополь, и там умер. Ющенко где-то на юге, а жена его умерла какой-то трагической смертью, после того как узнала, что сын погиб на фронте…
Прошло еще лет восемь. Мне случилось быть проездом в Ростове-на-Дону, и там я узнала от Чижова адрес и телефон профессора Ющенко, директора психиатрической клиники.
Я позвонила по данному мне номеру телефона.
— Александр Иванович?
— Маргарита Владимировна?—обрадовался он, сейчас же узнав мой голос.— Евгении Иванович Чижов мне сказал, что вы собираетесь быть в Ростове, и я очень вас прошу к нам обедать…
«К нам»? Я не стала расспрашивать, кто это «мы». Я обещала на другой день приехать.
Еду без конца через весь Ростов, по-моему, в сторону Нахичевани. Обычные белые корпуса. По снежному настилу движется странная фигура не то францисканца, нс то схимника, в мантии, украшенной нашитыми громадными крестами. Лицо смертельно бледное, застывшее, важное… Точно каменное раскрашенное изваяние… Такие продавали в монастыре на Селигере статуэтки св. Нила, основателя Ниловой пустыни…
В ГОСТЯХ У РЕПИНА
Переговоры да сборы шли долго, в назначенным для поездки день наступил только в марте.
Как сейчас помню этот славный морозным день. В письме к вдове Максимова. Лидия Александровне. Репин советовал от станции к нему не брать извозчика, а идти пешком, что мы и сделали.
Нас было трое: Лидия Александровна, пожилая, но крепкая женщина. сын ее Ювеналий, молодок ученый-химик и я.
Мы шагали по снежной, окаймленной густым хвойным лесом дороге, казавшейся аллеей парка. Громадные сосны строго в четко вырисовывались на белом фоне: отяжелевшие от снега ветви сверкали я переливались всеми цветами радуги. Ели стлали ветки на дорогу, почти у самых наших ног…
Чистота воздуха и птичий гомон, такой чуждый в го роде,— все это сразу дало радостное, приподнятое настроение. Незаметно подошли к «Пенатам».
Двухэтажный дом, небольшой, но достаточно поместительный, с окнами, выходящими на галерею. Звоним. Кто-то невидимый открывает, и это создает впечатление чего-то необычного, какого-то аппарата, машины. Входим. Дверь автоматически захлопывается.
Длинная передняя, похожая на застекленный коридор- веранду. Стена — окна; на окнах маленькие розочки в цвету. Вешалка, у вешалки — гонг и надпись: «Сообщай о своем приходе ударом в гонг. Раздевайся сам. Здесь никто никому не помогает». Что-то в этом роде,— точно не припомню. Мы проделали все, что от нас требовали первые правила «Пенатов».
На звук гонга так же таинственно перед нами открылась дверь, и мы вошли в небольшую длинную и темноватую комнату, одну из столовых, где Репин обыкновенно пил с гостями чай.
Там было два стола: один — посреди комнаты, другой — у стены. На последнем виднелся самовар, стаканы и чашки; средний, большой стол был покрыт красивой скатертью и осыпан искусственными фиалками, среди которых виднелись стопки тарелочек, вазочки, тарелки и блюда, наполненные всякими сладостями: засахаренными орехами, миндалем, финиками, глазированными каштанами, всевозможным вареньем и сухариками… из «крапивы». По стенам висели плакаты: «Раскрепощение прислуги»; «Все делай сам»; «Кто прибегает к чужой помощи, с того штраф — интересный рассказ, спич или речь». Я, конечно, припоминаю только приблизительный текст этих объявлений.
Была среда’—приемный день художника. Прием начинался с трех часов, а мы приехали немного раньше, и эти несколько минут нам пришлось провести в одиночестве. Но вот послышались шаги, дверь открылась, и в столовую вошла стройная пожилая женщина с седыми, красиво причесанными волосами в черном шелковом платье. У нее была неторопливая походка и плавные движения.
Я знала, что это жена Репина, вегетарианка Норд- ман-Северова, автор всех изречений о распорядке жизни, о раскрепощении прислуги и о самодеятельности. Она подала нам руку и сказала:
— Илья Ефимович выйдет ровно в три. Осталось несколько минут. Прошу садиться. Он у себя в мастерской. Он очень аккуратен.
Не успела она кончить, как мы услышали быстрые, мелкие и очень легкие шаги, и художник с приветливом улыбкой почти вбежал в столовую.
— О Максимове поговорим? Очень рад. Поговорим, напишем предисловие, а пока надо подкрепиться. Наливайте себе чай, с мороза это хорошо; рассаживайтесь,— только помните наши правила: каждый помогает себе сам.
Пока мы толклись у самовара, пока ставили чашки с чаем на большой стол, в передней послышались голоса, и в столовую вошли новые гости: Корней Чуковский с женой и сынишкой Колей, а за ними — поэт Льдов.
Чуковский вошел, как всегда, шумный, звонкоголосый, за ним поспевала его жена и большеглазый черномазенький мальчик лет шести. Очевидно, Чуковский был здесь своим человеком: он знал все правила «Пенатов» и двигался свободно в этой атмосфере самодеятельности. Льдов держался бесцветно и говорил немного; он как-то совсем испарился у меня из памяти.
Репин был в ударе. Разговор сейчас же коснулся смерти В. М. Максимова. Вдова рассказывала о последних днях его жизни, о задуманной и неоконченной картине. Репин вставлял реплики о «негибкости» покойного художника, который, не желая применяться к злобе дня и гнуть спину перед власть имущими, жил как спартанец, и работал над тем, к чему тянуло.
Рукопись Максимова (автобиографические записки) ему была известна, и он сейчас же заговорил о предисловии:
— Мне уже сообщал Дубовский, я знаю. Конечно, напишу. И знаю, что кончать записки будете вы,— обратился он ко мне.— Заканчивайте также правдиво, как написана автобиография. Будете печатать в Москве, в «Голосе минувшего»? Ну что же, поближе к нашей колыбели— Третьяковской галерее.
Он говорил горячо, быстро.
— В Академии художеств Максимов шел одним из первых. Профессора считали его кандидатом на все высшие отличия академического курса, и, наконец, его ждала самая высшая награда — поездка в Европу на шесть лет для окончательного усовершенствования в «искусстве», чтобы возвратиться достойным звания и деятельности профессора.
Он улыбнулся, и лицо его, все в мелких морщинках, стало вдруг молодо.
— Как, имея в виду такую блестящую художественную карьеру, Максимов отрекся от нее и остался в России для своих бедных мужичков? Вот прямота!
Он ласково смотрел на вдову, одетую очень просто, если не сказать — убого. Она была взволнована, и в ее больших — всегда точно испуганных — глазах стояли слезы.
— Мы жили действительно не очень богато… Нам шла ведь только часть пенсии имени Григоровича.
— А что же я говорю: прямота,— повторил Репин,— и искренность, убежденность…
И приподнялся, пододвигая к себе одну из тарелок.
В это время среди остальных гостей шла беседа о вегетарианстве. Нордман-Северова уверяла, что ее «крапивные» сухарики вкусны и полезны. Мы последовали примеру Чуковского и стали пробовать знаменитые сухарики. Они были с прозеленью, но из муки, очень вкусны и изящны, хотя мы должны были сознаться, что главное достоинство их составляла далеко не крапива, вкуса которой мы даже не заметили, а ореховое масло, мед, изюм, цукаты и миндаль.
Хозяйка дома продолжала свою проповедь благостным голосом:
— Каждый последователь вегетарианства может вместе со мной воскликнуть: «Я никого не ем!»
— А главное — это здорово,— подхватил Репин.
— Здорово, дешево и ничто не пропадает. Я написала целую поваренную книгу. Она не допускает ни яиц, ни молока, ни коровьего масла, ни жира. Только растительное масло. Какое хотите,— ведь есть же и совсем дешевое. Идет в ход разная трава. Подорожник, например, для супа найдется у каждого забора, у каждой канавы. Или васильки — из них можно сделать кисель. Гораздо дешевле, чем кровожадная пища, к которой привык развращенный человек. Вот моя книга. Посмотрите. Потом я дам каждому на память о сегодняшнем посещении «Пенатов». Здесь преследуется и польза и дешевизна.
Мы посмотрели на стол, ломившийся от изысканных сладостей из самых лучших, дорогих кондитерских магазинов, и переглянулись. Ювеналий Максимов шепнул мне на ухо:
— Мог бы мой отец на пенсию сорок девять рублей пятьдесят копеек устроить .себе такую вкусную «дешевизну»?
После чая Н. Б. Нордман-Северова пригласила нас побывать у нее в кабинете и в мастерской Ильи Ефимовича.
У нее была большая, несколько мрачная комната с высоким потолком и громадной гипсовой статуей не то Свободы, не то Искусства — не помню, какую сймволику изображала эта белая женская фигура.
Мы утонули в коврах, заметили много картин на стенах, кресло и письменный дамский столик, где, очевидно, писались бесконечные трактаты против мясной пищи.
— Пойдем наверх, к Илье Ефимовичу,— предложила хозяйка,— там я вам прочту свою пьесу. Тема — раскрепощение прислуги.
Мы последовали за нею. Деревянная довольно широкая лестница вела в мастерскую. Репин бежал впереди необыкновенно легкой, юношеской походкой. Мы едва поспевали.
Мастерская громадная, кажущаяся низкой из-за величины. Везде — стекла. Пол из корабельного стекла служит потолком для кабинета Нордман-Северовой; по бокам— широкие окна; наверху — стекло потолка, как в оранжерее. Вся эта масса света регулируется занавесками, отдергивающимися по мере надобности.
Тахта у стены кажется совсем маленькой среди этих просторов. Топится громадный камин, и в отблеске огня картины на стенах и этюды точно оживают. Их много, но мне они не кажутся особенно интересными. Ничего, что напоминает прежнего Репина; мелькают перед глазами полотна, с которых смотрит новый, усталый Репин, уста лый, несмотря на видимое физическое здоровье. Виднеются этюды к Гоголю, сжигающему «Мертвые души», этюды к картине «Какой простор», виднеются начатые женские портреты, в которых нет силы прежнего Репина,— «кисть уже не та».
Кисть не та! От этого было очень больно…
Когда все осмотрели, началось чтение пьесы. Читал сам автор, четко, вразумительно, плавно, как и говорил.
Пьеса была скучная, длинная, резонерская. Из всех строк сквозило нравоучение.
Я старалась не смотреть на Ювеналия Максимова. В его выпуклых голубых глазах, похожих на глаза матери, прыгали насмешливые огоньки, на губах блуждала ироническая улыбка.
Он мне опять шепнул:
— Хороша проповедь для настоятеля собора, чтобы богатые не грешили.
— Тише! — остановила его мать.
Я отвернулась, чтобы не видели моей улыбки.
А Нордман-Северова предлагала высказаться всем, даже маленькому Коле Чуковскому.
Не помню, какими общими фразами, правда весьма глупыми, мы отделывались, но Колю вопрос автора привел в невыразимое смущение. Он уткнулся личиком в колени матери и готов был заплакать.
Обмен мнений прервали удары гонга. Кто-то невидимый призывал к обеду. Хозяйка спустилась с лестницы и принесла подносик с билетами, свернутыми, как в лотерее. На них были номера приборов за обедом. По положению, здесь выбирали председателя трапезы.
Вытащил и развернул билетик и Коля. Кругом закричали:
— Коля — председатель!
Со всех сторон на мальчика смотрели с улыбками взрослые. Илья Ефимович, обняв его, сказал:
— Ты будешь хозяин стола, самый главный из нас.
Знаешь, что должен делать председатель?
Коля замотал отрицательно головой.
— У председателя имеются свои обязанности. Запоминай хорошенько: первому поднимать крышки блюд, рекомендовать гостям пользоваться солнечной энергией, а солнечная энергия — это вино, которое согревает, как солнце; наконец, сказать перед обедом маленькую вступительную веселую речь.
По мере перечисления обязанностей председателя личико Коли все вытягивалось, глаза все шире раскрывались от испуга, а когда Репин упомянул о «маленькой вступительной веселой речи», он вдруг горько разрыдался.
Тут его принялись утешать, а Илья Ефимович сказал:
— Совсем не о чем плакать. Я помогу тебе во всем. Я сяду около тебя, если мне даже достанется другое место, и буду твоим заместителем. Ты не бойся. Мы вместе станем председательствовать.
Эти слова были встречены смехом и аплодисментами. Все двинулись вниз в столовую.
Главная столовая в «Пенатах» была очень большая, не слишком заставленная мебелью. Где-то в углу звучал тоненьким голоском заведенный органчик, и под его звон мы все по очереди подходили к небольшому столу, на котором помещался серый душистый хлеб и гильотинка. Здесь каждый должен был отрезать себе кусок хлеба.
— Хлеб мне пекут финны отличный,— говорил Репин.— Отрезали? Ну, а теперь милости просим, занимайте места. Коля со мной.
Каждый по номеру искал свое место за большим круглым столом. Мне достался прибор рядом с Ювеналием Максимовым, и я, по правде, была недовольна — боялась его колкого язычка.
Стол походил на огромный волчок. Кленовый, чисто отполированный, он был без всякой скатерти, с очень толстой верхней . доской, под которой помещался ряд ящиков,— у каждого обедающего свой. Сверху, на винте, в центре, вращалась доска другого стола, значительно меньших размеров, на которой были расставлены всевозможные блюда, вазы, тарелки, салатницы и баррикады бутылок солидных марок.
На приборах лежали картонные билетики с отпечатанным меню; текст был шуточный, и наверху значилось: «Меню голодного и холодного обеда такого-то числа и года». На другой стороне — напоминание о правилах в «Пенатах» за обедом, разъяснение обязанностей председателя, вплоть до пользования «солнечной энергией», и напоминание о штрафе — речи. Каждый, протянув руку, мог повернуть к себе вращающийся кружок той стороной, на которой стояло привлекавшее его блюдо.
А чего-чего только не было нагромождено на кружке! В окне видна была пелена снега с печальным силуэтом вороны, особенно подчеркивавшим зимний пейзаж; с верхушки же стола на нас глядели нежные лепестки бледно- зеленого салата, алели свежие томаты, мелькала приправленная соусом провансаль свежая капуста, лежали головки цветной, сковородки с разнообразными паштетами; среди этих тонких блюд красовалась сочная клубника и гордо поднимал голову золотистый ананас,
Ювеналий громко сказал:
— Действительно, «голодный обед»!
И прибавил тихо мне на ухо:
— Только сомневаюсь, чтобы он был дешевле нашей вареной трески, которую большей частью нам подает мамаша. А ну-ка, приналяжем на этот «голодный-холод- ный».
В это время Репин объяснял Коле Чуковскому его обязанности председателя:
— Открывать первому крышки — это значит первому кушать все, что тебе понравится. Ну, начинаем. Тяни рукой, что хочется. Только не сладости, их успеешь потом.
Пока он уговаривался с Колей, все ели эти редкие по зимнему времени деликатесы и запивали прекрасным вином. Потом наливали черный кофе.
Репин был очень гостеприимен и радушен. Он живо поладил с Колей, и мальчик уже смеялся.
Илья Ефимович сдержал обещание и говорил речь сам. Речь эта касалась бывшей в то время в Обществе поощрения художеств на Морской выставки передвижников.
Не берусь пересказать ее. Говорилось и о «гвоздях» прежних выставок; попутно хозяин вспомнил самую популярную картину Максимова «Все в прошлом» и спросил, сколько было написано с нее повторений.
— Сорок два,— ответила Лидия Александровна гордо.
— Удивительно! — отозвался живо Репин.— Ни одна из работ покойного Василия Максимовича не имела так ого успеха, даже его «Колдун». У нас повторения играют роль ваших повторных изданий.— обратился художник к молчаливому Льдову.— А вы много пишете?
Льдов поморщился.
— Н-нет… не много…
Чуковский засмеялся.
— Ага, понимаю, в чем дело! Значит, написал уже больше сорока листов, и можно на них жить…
— Повторениями,— подсказал Репин.
Разговор вертелся главным образом на воспоминаниях о покойном Максимове, на воспоминаниях о прежних выставках, на обсуждении здоровой, спокойной жизни в «Пенатах», на вегетарианстве.
Репин верил в пользу растительной пиши и говорил шутливо о жене:
— Наталья Борисовна мне продлит несколько лет плодотворной жизни своим режимом. Я стал другим человеком, когда «никого не ем».
В это время Нордман-Северова горячо агитировала за свою идею раскрепощения прислуги.
— Вы видите, у нас никого как будто нет, но все сделано. Наша прислуга работает в течение известных, строго установленных часов, тогда как всюду она — белый раб, везущий на себе домашний воз с раннего утра до поздней ночи.
Репин засмеялся.
— Наши гости не знают, что делать с грязными тарелками. А вы откройте ящики — у каждого прибора в столе имеется свой ящик — и поставьте туда грязные тарелки. В свое время «невидимые» руки все это вынесут и уберут.
За разговорами и оригинальным обедом незаметно прошло время. Надо было торопиться к поезду. Перспектива идти пешком четыре версты в темноте не очень увлекательна: можно было опоздать на станцию, а лошадей мы не заказали.
Репин с улыбкой нас успокоил:
— И ничего нет страшного. Моя Любовь Павловна вас всех свезет.
Мы не понимали: какая Любовь Павловна может свезти семь человек?
Художник пояснил:
— Так мы называем нашу лошадь. Я получил ее в подарок от Паоло Трубецкого. Она служила ему моделью для памятника Александру Третьему. Мы ее иначе еще называем «Любочка», но для такой солидной особы скорее подходит называться «Любовью Павловной». Она — член нашего семейства. Летом, когда открыты окна, она приходит на веранду и просовывает голову в окно, ожидая подачки — хлеба или сахара.
— Я сейчас все устрою,— сказала Нордман-Северова и, вручая поэту Льдову экземпляр кулинарной книжки, закончила агитацию вегетарианства: — Вот вы. дорогой брат, убедились, что растительные обеды могут быть и здоровы, и вкусны, и дешевы.
— Сомневаюсь в последнем,— буркнул мне на ухо Ювеналий Максимов.— Доказательством от противного служат зимою помидоры, клубника и ананасы.
— А «солнечная энергия»? — засмеялась я, косясь на этикетки дорогих французских вин.
Но хозяйка была довольна, даже горда. Был ли всегда доволен хозяин? Не замечал ли он в этой проповеди «я никого не ем» и «я сам себя обслуживаю» ханжества, как заметила я хотя бы в обращении к Льдову — «дорогой брат»? Были братья «во Христе», а этот «брат в вегетарианстве». И разве не скучно так много говорить и так много думать о внешнем образе жизни, придавая исключительное значение тому, ешь ли ты масло сливочное или ореховое? Играть в съедобную крапиву, васильки и подорожник, настолько сдобренные драгоценными приправами, что от крапивы в сущности не осталось и следа? Не напоминает ли это старую сказку о солдате, варившем щи из топора?
Мне стало почему-то грустно. Я вспомнила полотна Репина на прежних выставках, привлекавшие большие толпы, бесконечные с них репродукции, блестящие отзывы в печати, горячие обсуждения всюду, где интересовались искусством, и то, что мы видели в великолепной мастерской, где было скучно, пустынно…
И вдруг в этой фигуре с длинными, по-артистически зачесанными назад волосами, в этих мелких чертах подвижного лица я увидела что-то новое: тонкие паутинки морщинок, как на растрескавшемся фарфоре, и старость… И мне показалось, что Нордман-Северова, играющая в свою особую игру, баюкает сознание усталого мастера…
— Любовь Павловна готова.— прервал мои размышления Репин,— она вас ждет. Спасибо, что навестили; надеюсь видеть вас здесь в скором времени. Теперь дорога в «Пенаты» всем вам известна.
Мы оделись собственноручно, не помогая друг другу, чтобы избегнуть штрафа, а то как раз со штрафной речью опоздаешь к поезду. Репин нам крепко жал руки. Нордман-Северова называла всех «дорогой брат», «дорогая сестра» и женщин целовала. Я вспомнила обращение между сектантами.
На белом фоне снега у подъезда четко вырисовывался силуэт какой-то громадины. Это был, по-моему, першерон — ломовая лошадь, но экземпляр исключительный, колоссальный. Невольно вспомнилась лошадь-великан, на которую Трубецкой взгромоздил своего бронзового Александра III, грузного жандарма России. Ну и выбрал же художник коняку!
Молчаливая фигура кучера в полушубке, из тех таинственных «раскрепощенных» слуг, которых мы не видели в «Пенатах», сидела на облучке широких розвальней. Мы уселись, вернее — улеглись в эти розвальни.
Светили ярко звезды; снег скрипел под полозьями. Деревья стояли по краям дороги, и строгие зубцы елей подпирали чистое, безоблачное небо. В лунном свете снег искрился и казался голубым.
«Пенаты» оставались далеко позади и казались уже маленькой точкой. Потом совсем исчезли. От мороза борода кучера стала белой. Розвальни раскатывались. У молчаливого кучера оказался голос: он начал покрикивать на «Любочку», сдерживая ее размашистый бег. Она везла восемь человек с такой легкостью, как будто розвальни были пустые.
Мы подъезжали к станции. Коля Чуковский, председатель «голодного-холодного» обеда в «Пенатах», крепко спал. Где-то далеко лаяли собаки и звал свисток паровоза.
close_page
СТРАНИЧКА ВОСПОМИНАНИЙ О М. В. НЕСТЕРОВЕ
ГДОВЩИНА
Надо рассказать по порядку, как началось мое знание битв, уезжала, когда выпадал снег, на току слышался стук цепов, в подвалах стук ссыпаемой картошки, а осенние комство с художником.
Я люблю Гдовщину, реки Плюссы; лужи затягивало по утрам летом по перелескам, лугам, пригоркам, прислушиваясь к журчанью бесчисленных гдовских ручьев, тумане над рекою и по мшистым кочкам, где краснели алые усинки брусники, я думала: «Вот он — Нестеров!»
В городе, приходя в музеи, на выставки, к картинам Нестерова, я говорила:
— Вот она, моя родная Гдовщина!
И не было почти дня, чтобы летом я не вспоминала «нестеровщину», а зимой — «гдовщину».
Они слились в моей душе нераздельно — моя родная, любимая мною земля и он, любимый мною певец этой русской земли, родной природы. Приходя к нему, то есть в музей к его картинам, я чувствовала, как тяжесть отваливается от души, как будто она снова дышит глубинами природы…
Я не спрашивала себя: чем действует этот целитель — изображением ли природы, или изображением человека? Мелькает ряд полотен: «Видение отрока Варфоломея», «Сергий с медведем», «Дмитрий убиенный», «Пустынник», «Мечтатели», «Христова невеста», «Великий постриг»… Еще, еще полотна… И все сливается во вдохновенный источник для моей души, все эти свежие краски, сине-зеленые тона, перламутровые оттенки, нежные, неуловимые переходы ласковой свежести и правды, ликования этой правды…
Я тогда не задумывалась о том, какой великий портретист таится в этом певце природы, хотя передо мною и был блестящий портрет дочери Нестерова. Для меня он был певец родной земли, и только позднее я поняла, как всеобъемлюще дарование этого мастера.
Но я хочу сказать, что, не будучи знакома лично с Михаилом Васильевичем, я всегда чувствовала его около себя.
И было это с тех самых пор, как шестнадцатилетней девочкой я стала посещать выставки передвижников. Помню то особенное, не осознанное тогда, не анализированное впечатление, но впечатление неотразимое, которое на меня производил Нестеров. И тогда уже здесь, на полотне, для меня было все: и музыка, и живопись, и слова чудной песни. И все это обвеяно тою знакомою, близкою сущностью, которую можно обозначить выражением: своя природа, свой народ, своя родина.
Отвести глаз нельзя от картины, уйти не хочется, точно эта ранняя осень «Пустынника» коснулась тебя ласковым пьянящим воздухом, точно слышишь запах пре лой листвы, нежное похрустывание и шелест опавших листьев…
На свете много красоты, и много есть пейзажей, изумительно прекрасных, но нет ни у кого из художников той ласковости, того интимного уюта, как у Нестерова, нет ни у кого его секрета, как утешить и обласкать своею кистью…
Михаил Васильевич жил в Москве, я — в Петербурге, и оттого, вероятно, мне не пришлось столкнуться с ним, хотя я много бывала в среде художников.
После переезда моего в Москву в 1918 году я не однажды спрашивала людей, близких к искусству:
— Над чем работает Нестеров?
Мне отвечали:
— Ничего не пишет. Болеет.
Когда я заговаривала с кем-нибудь, что хочу с ним познакомиться, меня отговаривали.
— Зачем вы пойдете? Он не очень-то охоч до новых знакомств и живет замкнуто. Он встретит вас сурово, он резкий человек.
Как же это вышло, что я решилась идти на Сивцев Вражек? Мне кажется, что толкнуло бессознательное чувство приближения глубокой старости, неосознанное чувство приближения конца жизни.
И вот весной 1941 года я написала письмо Михаилу Васильевичу.
Я писала, что я не чужая художникам, рассказала о своей профессии, о том, что понуждает меня искать с ним встречи.
Он по-хорошему понял меня; позвонил мне по телефону, и мы сговорились о свидании.
close_page
ВСТРЕЧИ
Был ясный, солнечный день. В пять часов я с дочерью собралась на Сивцев Вражек.
В то время для меня это путешествие было не из легких. Больное сердце не позволяло выходить на солнце, и пока я добралась до дома, где жил художник, я почувствовала себя совсем разбитой. Я буквально едва могла подняться по отлогой и не слишком высокой лестнице, ведущей к художнику в третий этаж.
Было шесть часов, когда мы позвонили. Нам открыла Екатерина Петровна.
Приветливая простота была в каждом ее движении, в каждом слове.
Приглашает войти. Комната больших размеров и какая-то особенно светлая по тонам: старинная мебель карельской березы, крытая чем-то светлым. Обстановка простая и скромная, но полна чистоты, уюта и света.
И странно: нигде ни намека на профессию хозяина: ни мольберта, ни ящика с красками, ни палитры, ни альбома. На стенах: два великолепных портрета дочерей: средней — жизнерадостной, нарядной, полной стремления к счастью, и младшей — лирический образ, поэтический, в голубовато-зеленых тонах; картины Левитана, Рериха, польского художника Станиславского…
А вот входит и он. Небольшой, худенький, не старый, нет, а пожилой, в маленькой черной шапочке, прикрывающей большой лоб. И как хороши глаза, с их проникновенностью, зоркостью, ищущей правды.
Екатерина Петровна просит садиться на угловой диван, ближе к художнику, так как он недостаточно хорошо слышит. По московскому старому обычаю гостеприимства предлагает чаю.
Голубые глаза Михаила Васильевича смотрят прямо в душу. Он говорит:
— Вы написали хорошее письмо…
Этим определяется весь характер разговора. Говорить становится легко.
Что он работает?
Художник усмехается.
— Сейчас ничего. Ножки не стоят, а сидя писать не умею,— говорит он с комическим задором.
И тут же начал говорить о своих болезнях. Болезни старые, запущенные и серьезные.
Достал корректурные листы своей книги «Давние дни» и показал:
— Вот Третьяковская галерея издает. Обложка Лансере… Да что-то задержался выход…
Как бы что-то обдумав, он повел нас, желавших все же взглянуть на его творчество, в свою спальню.
Здесь против двери большой портрет Тютчевой. Импозантная фигура немолодой дамы в кресле. Умное, волевое лицо с большим высоким лбом и решительно сомкнутыми губами.
Мы не поверили Михаилу Васильевичу, когда он сказал, что не пишет потому, что «ножки не стоят». Что-то говорило о творческих силах художника. И когда я рассказала о моем посещении Михаила Васильевича одной из сотрудниц Третьяковской галереи, она усмехнулась.
Он работает, только не хочет об этом говорить. Он работает в мастерской Корина, и там у него, конечно, есть и новые картины…
Грянула война… Дни испытаний…
Не помню точно, в какой день, незадолго до чествования восьмидесятилетия художника, меня потянуло снова на Сивцев Вражек. И я пошла с намерением расспросить у домашних о здоровье Михаила Васильевича.
Открыла опять Екатерина Петровна и пригласила в комнату. Михаил Васильевич лежал в соседней спальне. Он захотел меня видеть… Я обрадовалась…
Художник лежал в постели бледный, осунувшийся, но с тем же зорким, всеохватывающим и пытливым взором. Спросил меня о работе. Я сказала, что сижу над материалами истории крепостных художников и много занимаюсь прошлым Академии художеств времен Оленина.
Он оживился.
— Мне много говорить не позволено, по интерес ваш к искусству мне приятен. Стоит поработать. Только вот что: перед вами задача очень трудная и необъятная — раскрыть психологию художника. Интересно и нужно, но будьте очень строги к себе. У нас много писалось беллетристами о художниках, но до сих пор я лично знаю только два произведения, которые мне говорят о правдивом понимании сущности творчества художника: это «Портрет» Гоголя и «Творчество» Золя. Но писать нужно, потому что у нас много больших талантов, которых никто не удосужился коснуться пером.
Мне хотелось поговорить еще с Михаилом Васильевичем. но я знала, что говорить ему много вредно, и поднялась.
Прощаясь, я сказала, что видела в Третьяковской галерее его два портрета — работы Корина и автопортрет.
Я знала, как нежно любит он Корина, и потому осторожно проговорила:
— Знаете, Корин изобразил вас очень заостренно…
— А мне нравится.
— Мне кажется, он выдвинул в вас одну черту и не дал всесторонне. У него вы — судья, критик, но не тот. кто нам столько дал, показав лучшее в человеке. Вы сами, в своем автопортрете, гораздо полнее изобразили себя.
Он улыбнулся. Он был очень слаб. Я ушла.
А следующая встреча моя с Михаилом Васильевичем была уже в Третьяковской галерее, 20 октября, когда я увидела его в гробу.
Кажется, никто не думал, что смерть так близка к художнику.
Правда, чествовали его восьмидесятилетие оригинально. До сих пор мне не приходилось быть свидетельницей, чтобы при жизни юбиляра справляли его праздник без него и обращались с приветствием к его портрету.
Но здесь было так: перед портретом говорили речи, вернее вспоминали; перед портретом читали его «Давние дни», перед портретом пели любимые им русские романсы и арии. У юбиляра не было сил добраться до Центрального дома работников искусств, где состоялось торжество, но были силы, чтобы работать.
Под грохот войны и взрывы фугасок несокрушимая сила духа подвинула его создать пейзаж «Уж небо осенью дышало», о чем он сам сообщил за десять дней до смерти своему другу Сергею Николаевичу Дурылину; Михаил Васильевич в это же время интересовался вторым изданием «Давних дней» и хотел их дополнить воспоминаниями о Риме и о жизни там русских художников…
Длинный ряд опустевших во время войны залов. Гулко раздаются под сводами шаги. Мы с дочерью идем за гробом…
Я подхожу ближе. Мне видно в профиль его лицо, восковое лицо с плотно сомкнутыми веками, из-за которых еще так недавно смотрели чудесные глаза, и точно слышится четкий, решительный голос:
— Вы ведь захотите раскрыть психологию художника? Интересно и нужно, но будьте очень строги к себе.
Его похоронили на Новодевичьем кладбище и, по его желанию, положили рядом с его другом — певцом русской природы — Левитаном.
close_page
ПИСЬМА
Я хочу дополнить воспоминания о немногочисленных, к сожалению, встречах с Михаилом Васильевичем его несколькими письмами ко мне.
Вот они:
«Глубокоуважаемая Маргарита Владимировна!
Мне приятно было слышать Ваше мнение о моей книге «Давние дни», того приятнее желание посвятить Ваш новый труд мне.
Эпоха, которую Вы избрали для Вашей книги о нашей Академии художеств начала прошлого века,— большая эпоха: из недр академии тех лет вышли двое Ивановых, причем сын стал гордостью и славой нашей. Вышли братья Брюлловы, ряд других живописцев, скульпторов и зодчих.
Мое здоровье в общем удовлетворительно, конечно близость моего восьмидесятилетнего возраста дает себя чувствовать.
Мой привет прошу передать Вашей дочери.
С совершенным уважением
Михаил Нестеров».
А через двенадцать дней он порадовал меня снова коротеньким письмом:
«…Благодарю Вас за письмо Ваше, оно говорит прежде всего о нсувядаемости Вашей энергии, что не может не радовать каждого в мои годы, что и меня как-то бодрит.
План Вашего нового труда очень интересен и. насколько мне известно, тема Ваша «непочатый почти угол»…
Дай Вам бог успеха в окончании начатого хорошего дела.
Здоровье мое как будто несколько лучше. Во всяком случае 28 апреля я покидаю клинику, возвращаюсь к себе на Сивцев Вражек, памятуя, что как в гостях ни хорошо, а дома будет лучше».
Почти через месяц, 15 мая 1942 года, я получила письмо, писанное рукой жены Михаила Васильевича.
«…Благодарю Вас за Ваше интересное письмо, ответ на которое, к сожалению, могу только продиктовать Екатерине Петровне. Вернувшись домой, я почувствовал себя хуже. Врачи признали ухудшение в деятельности сердца. Запретили мне вставать. Я лежу теперь, и лежа мне трудно писать, а потому ограничусь на этот раз кратким Вам ответом. Вас. Мак. Максимова я знал мало, и знал его в часы несчастной его слабости. Из его картин я ценю его ответственные вещи: «Приход колдуна на свадьбу» и другие из крестьянской жизни, которые он, будучи сам крестьянином, хорошо знал.
Ваша книга обещает быть интересной по намеченному в ней материалу…»
close_page
ШЕСТИДЕСЯТНИЦА
ПОЭТ ПОЛОНСКИЙ

Автопортрет. Масло. 1928 г.
Однообразно тянулась жизнь в ожидании поступления в следующем году на курсы и выбора специальности. Дома была хилая, раздраженная сестра, печные доктора; потом явились пеленки, и вся жизнь сосредоточилась в этих пеленках, докторах, докторах и пеленках.
Единственным утешением для меня было мое творчество. И я исписывала тетрадки стихами и прозой.
Мало-помалу, раздумав, я решила снести мою сказку «Бабочка и солнце» тому же Полонскому и просить его помочь ее напечатать.
Отправилась к поэту на Знаменскую улицу и на этот раз уже не убежала, сунув рукопись горничной, как сделала это в первый раз, а, набравшись храбрости, вошла в квартиру.
Полонский принял меня я своем обширном кабинете за письменным столом. Я очень любила ею поэму «Кузнечик-музыкант» и помнила наизусть многие строфы, и в этот раз у меня вертелся в голове отрывок:
Небольшого роста и продолговатый, На спине носил он фрак зеленоватый…
Бабочки ночные в сереньких бурнусах…
Он, может быть, отнесется благосклонно и к моей те- роиие-бабочке.
Полонский не походил на свой молодой портрет с красивым лицом, волнами темных волос и большими пламенными глазами. Он казался мрачным. Худая фигура, закутанная в теплый стеганый халат; желтое, осунувшееся лицо было в глубоких морщинах; широкую лысину чуть прикрывали жидкие пряди седеющих волос. И только большие серые, хотя и усталые, глаза были, как прежде, выразительны. Он походил на большого старою нахохлившегося орла.
Яков Петрович протянул мне руку.
— Сказку принесли новую? Ага, та самая девочка… Помню, как же, помню…
У ВИКТОРА ОСТРОГОРСКОГО
Но было все-таки жалко, что я не сдвинулась с места и что сказка осталась у меня на руках. Подумав немного, я вспомнила, что познакомилась у отца моей подруги Ариадны Максимовой с другом ее отца Виктором Петровичем Острогорским, известным преподавателем, критиком и автором нескольких очень популярных книг, и решила отправиться к нему уже с практической целью.
Загородный проспект. Тесная трудовая квартира средней руки учителя. Знакомая маленькая фигура с седеющими кудрями, с наклоненной головой, точно он прислушивается. Косые глаза смотрят куда-то мимо собеседника; дряблый голос выспренне-восторженно, как всегда, и шутливо приветствует:
— А, вот кто пожаловал! Поцелуйте же старого учителя.
И тянется целоваться. Такова привычка. И кричит жене:
— Лилька, дай ей чаю! Лилька, она же замерзла!
— Я к вам на минутку, Виктор Петрович, и по делу. Вы не беспокойте Елизавету Яковлевну.
— Какое там беспокойство! Я люблю молодежь. Помните, я вам посвятил летом стихи:
Расти, цветочек Маргаритка, Расти и. Ариадною любим. Останься на всю жизнь собой самим, Пока не перережет Парка нитку.
Да где же эта Ариаднина нить? Не она ли вас привела в «лабиринт» Острогорского? Где она? Ведь вы два Аякса.
— Я одна.
— Ну, выкладывайте, хоть и одна.
Я ему рассказала все по порядку: и про Полонского, и про желание печататься, и про Алтаева. Он тут же, как и Полонский, прочел мою сказку.
— Пойдет. Только где печатать? Есть немало недостатков… наивностей. Со временем, конечно, будете писать лучше. Так «Бабочка и солнце»? Бабочка сгорает от лучей солнца, которое она боготворит. Немножко не вяжется с природой. Больно фантастично бабочке настолько приблизиться к солнцу, чтобы сгореть. Но, впрочем, я не натуралист. А в чьих лучах вы собираетесь сгореть?
Я смеялась:
— Еще не нашла, Виктор Петрович, солнца.
Он погрозил пальцем.
— Те-те-те… уж будто?
— Виктор! — остановила Елизавета Яковлевна.
— Молчу, молчу… Ну, так куда хотите, дорогая моя, чтобы я устроил вашу сказку?
— В журнал «Игрушечка»,— заявила я, помня, что в детстве получала этот журнал и что он издается в Петербурге.
Он весь засиял улыбкой.
— А вы, верно, вспомнили о всем известной милейшей Александре Николаевне Толиверовой? Будет сделано, тем более легко, что сказку одобрил и Полонский, а Александра Николаевна — друг женщин и молодежи. Я дам вам к ней рекомендательное письмо. Когда будете у нее, обратите внимание на ее обстановку. Примечательно. На столе — сухой лимон, на память об Италии, и всякие трогательные сувениры. На стенах — портреты с автографами самых знаменитых людей и — запомните с уважением — красная рубашка гарибальдийца, залитая его кровью. Кто из известных людей России и Ев ропы с нею не был знаком! Она работала в рядах Гарибальди в Риме как сестра милосердия и фактически спасла от смертной казни его друга и адъютанта. Не делайте большие глаза, друг мой! Шестидесятницы не были похожи на теперешних хлипких дамочек. Крепкие были духом, а Александра Николаевна — смелая, находчивая и притом — красавица. Будете у нее, обратите внимание на большой портрет масляными красками работы Верещагина. Это, я вам скажу, лицо! Об ее подвиге со спасением гарибальдийца писал лично ее знавший Николай Васильевич Шелгунов в «Книжках Недели» Гайдебурова.
Острогорский возился у письменного стола, разыскивая конверт и почтовую бумагу,
— Лилька, где же конверты? Лилька, где мой носовой платок? Такой даме-эстетке надо и конверт с бумагой
соответствующие.
Лилька, Лилька, всюду Лилька: она и нянька, и секретарь этого беспорядочного, экспансивного и талантливого человека, воспитавшего целую плеяду учителей, среди которых был и Александр Павлович Нечаев, автор мно
гих известных книг по географии и геологии, впоследствии профессор, тогда студент, бывший моим учителем и другом. Он умер уже в советское время.
На обязанности тихой, спокойной Елизаветы Яков
левны лежала и подготовка материала для статей мужа, и хождение в Публичную библиотеку, и бесчисленные домашние заботы. Часто она вздыхала, что ей, кончившей
высшее учебное заведение по отделению естественных
наук, приходится посвятить себя словесности.
— Лилька, дай новое перо! — брюзжит Острогорский.— Ох, уж поздно; опоздаю на заседание.
— Вот тебе бумага, конверт, хорошее перо и носовой платок,— невозмутимо отзывается Елизавета Яковлевна.
Острогорский пишет и рассказывает:
— Женщина, я говорю, Толиверова примечательная. И псевдоним «Толиверова» взяла от имен детей: Толи и Веры, потому что она и красавица и чадолюбивая мамаша. Теперь ей лет пятьдесят или около того, но она
все еще очень хороша, а раньше в нее бывало, помню, в театре все бинокли впивались. На сцену столько не смотрят, сколько на эту самую гарибальдийку. Вот, я вам скажу, фигура! Она поборница женского равноправия. Сколько по ней сходило с ума нас, дураков! И сколько этих дураков не умело как следует оценить эту жемчужину! Эх, чуть не сделал кляксу… Вот было бы изящество! А журнал Толиверовой достался от Татьяны Петровны Пассек, двоюродной сестры и друга юности Герцена. Пассек написала воспоминания, где много говорит о ранних годах Герцена,— могу дать, у меня имеется.
Он встал, протянул мне письмо и заторопился, ощупывая карманы.
— Лилька, папирос мне в портсигар положила достаточно? А спички? Опоздаю, непременно опоздаю!
Но, любя поболтать, Острогорский задержал мою руку и напутствовал:
— Желаю успеха и советую подружиться. Александра Николаевна — друг молодежи. Можете там встретить многих писателей, между прочим, толстовца Ивана Ивановича Горбунова-Посадова, народника Засодимского и маститого Николая Семеновича Лескова. Ну-с, а меня все же не забывайте за этими именами; милости просим по вторникам. Лилька, поехали!
Елизавета Яковлевна улыбалась ему, как суетливому и бестолковому ребенку.
close_page
У АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ ТОЛИВЕРОВОЙ
Сергиевская улица. Скромная дверь. На двери дощечка: «Александра Николаевка Толиверова». Рядом другая — «Иллюстрированный детский журнал «Игрушечка» и объявление о часах приема и о подписке, украшенное силуэтами Е. М. Бем с обложки этого журнала.
Звоню. Дверь открывает смуглый человек с черной бородой, в черной сатиновой блузе. Издали слышу приятный женский голос:
— Ефим, откройте, пожалуйста… проведите в гости-
Сторож, рассыльный, экспедитор и редакционный «курьер», как говорят теперь, хочет помочь мне раз деться, но я снимаю только калоши: моя короткая кофточка нисколько мне не мешает.
Как-то мало кто интересовался в то время личностью редакционного рассыльного. А между тем редакционный рассыльный, как и театральный капельдинер, театральный рабочий, сторож библиотеки и университета, принадлежит к особой группе людей, интересы которых крепко спаяны с тем культурным делом, которому они служат.
Таков был и Ефим. Помню, мне сразу бросилось в глаза его особенное лицо, с большими черными вдумчивыми и правдивыми глазами.
Такие рассыльные обыкновенно достаются по наследству, переходя от одного издателя к другому; они знают писателей не только по именам, но знают их работу, привычки. называют не по фамилии, а всегда по имени-отчеству. Не помню, от кого по наследству достался «Игрушечке» Ефим.
Он ввел меня в гостиную. Гостиная, скромно обставленная, с двумя гипсовыми статуями Чижова «Жмурки» и «Резвушка», с портретами писателей по стенам, под которыми везде автографы, с портретом лежащей в постели Татьяны Петровны Пассек, писанным незадолго до ее смерти молодой художницей Ахочинской, и над всем царит прекрасное женское лицо, глядящее из рамы, как живое, своими чистыми синими глазами, в ореоле шелковистых каштановых волос, красавица, но такая простая, ясная, с детским выражением милых губ, с точеными руками, спокойно сложенными на широкой юбке старинного платья, какие носили в шестидесятых годах.
Художник Верещагин, вероятно, чувствовал, как и все, кто соприкасался с этой женщиной, всю ее не только внешнюю, но и душевную красоту. Александра Николаевна изображена на портрете, когда ей было двадцать пять лет, у нее сохранились еще детская непосредственность и детская мягкость, незлобивость.
Верещагин писал портрет в Риме, в то время, когда Александра Николаевна занята была уходом в госпитале за борцами армии Гарибальди.
Все это я узнала потом; узнала также, что Александра Николаевна служила моделью для картины Якоби «Привал арестантов» и изображена на первом плане — она, женщина, кормящая грудью ребенка. Картина находится в Москве, в Третьяковской галерее.
Рядом с портретом Александры Николаевны, на самом видном месте, красная гарибальднйская рубашка, запятнанная кровью бойца, и огромный портрет Гарибальди.
Я так загляделась на красавицу с синими глазами, что не слышала спора в соседней комнате и заглушенного детского смеха. На меня вдруг бомбой вылетела девочка лет девяти, белокурая, с такими же большими синими глазами, как у Александры Николаевны, с густой длинной косой. Она задыхалась от смеха и прижимала к груди какую-то фотографию, крича:
— Не дам, Толька! Сказала — не дам, и не дам!
За нею выбежал юноша в форме вольноопределяющегося. Я подумала, что это дети Александры Николаевны — Толя и Вера.
— Это же свинство, Надежда! — сердился юноша.— Верочка, отними у нее мою карточку!
«Значит, это не Вера,— решила я,— а вторая дочь».
Они оба сконфузились, убежали и заспорили уже за дверьми.
В комнату вошла полная красивая дама, уже не первой молодости, но свежая, прекрасно сохранившаяся. У нее была особенная мягкость как в голосе, так и во всех движениях, в округлых формах, во взгляде, в улыбке. Я поняла, что это и есть сама Толиверова.
— Виктор Петрович рекомендует, значит хорошо,— сказала она просто.— Пойдет в «Игрушечке», но номера набраны, успеем только в феврале следующего года.
Она тут же прочла сказку и позвала из конторы секретаря:
— Владимир Николаевич, зарегистрируйте в принятые рукописи на февраль.
Вошел молодой человек со странной, очень некрасивой наружностью, бледный до прозрачности, с каким-то несимметричным, деформированным лицом, поклонился, взял мою тетрадку и ушел.
Это неприятное и жалкое существо почему-то врезалось мне в память.
— Владимир Николаевич Вагнер,— пояснила мне Александра Николаевна,— сын знаменитого профессора зоологии Николая Петровича Вагнера, автора «Сказок Кота Мурлыки». Он у меня секретарь редакции. Человек, вызывающий глубокое сочувствие.
В голосе Александры Николаевны слышались нотки грусти. Она переменила разговор:
— Значит, сказка пойдет, но надо иметь терпение. Вы ведь только начинаете, а начинающие ужасно нетерпеливы… Но до февраля приходите; приносите, если что- нибудь еще напишете; приходите и просто так, посидеть.
close_page
МАКСИМ БЕЛИНСКИЙ
Февраль еще далеко… Ходить «просто так, в гости», к Толиверовой я не решаюсь, боюсь навязчивости. Нетерпение не дает мне покоя: хочется видеть себя поскорее в печати.
Как-то отец рассказал, что встретился с писателем Иеронимом Иеронимовичем Ясинским, который пишет под псевдонимом «Максим Белинский».
— Он начинал у меня, когда я издавал «Киевский вестник»,— говорил отец.— Был раскосый девятнадцатилетний юноша, такой лохматый, черномазый. Еще свою странную азиатскую внешность объяснял довольно забавно: «Моя маменька — калмычка». Он подавал тогда большие надежды… Теперь это очень известный литератор.— у него масса романов, повестей и рассказов; он сотрудничает чуть ли не во всех журналах и очень похорошел. Такая живописная фигура. Два года назад Владимир Маковский изобразил его на своей картине «Вечеринка». Вот тебе бы с ним познакомиться — он бы помог выбиться на дорогу. Я уже ему о тебе говорил.
Я не стала долго откладывать и решила идти к Ясинскому.
Жил он где-то в центре, кажется, в одном из переулков — в Басковом или Эртелевом. Квартира внизу. Никакой прислуги или прислуга приходящая. Открыл сам, громадный, раскосый, с пышной шевелюрой седеющих волос, небрежно одетый в поношенный пиджак, в рубаху с расстегнутым воротом. В обращении ласков. Пригласил в кабинет.
Всюду беспорядок, хаос, пыль. На двери, ведущей в кабинет, громадный портрет женщины с глазами мадонны, грустными и мягкими.
Усадил в кожаное кресло. В хаосе беспорядочно расставленной пыльной мебели блестело золото рам старинных картин; на стильных этажерках и шкафчиках виднелись темные полотна, сверкали краски старого художественного фарфора. Совсем лавка антиквара.
Писатель сказал как-то конфузливо, слегка шепелявя:
— Батюшка говорил мне о вас. Вы мне принесли что- нибудь?
Я передала тоненькую тетрадку с наивной сентиментальной сказкой «Встреча Нового года». Он при мне ее прочел.
— Помещу в рождественском номере. Вы зайдите недельки через две.
Через две недели, во второй половине декабря, я зашла к Ясинскому.
— Сказка ваша напечатана,— сказал он,— во «Всемирной иллюстрации» шестнадцатого декабря. Сходите получить гонорар. А вот вам номер.
У меня буквы запрыгали перед глазами. В самом деле, «Встреча Нового года», и под сказкой — моя «новая» фамилия Ал. Алтаев. Удивительно! И как красиво, мне, кажется, это выходит — Ал. Алтаев. И буквы какие- то особенные. А главное — я стала писательницей.
Ясинский смотрел на мой восторг и снисходительно улыбался.
Пробежав глазами сказку, я не узнала конца. У меня умирает мальчик под Новый год, и сказка кончается словами: «Маленький мальчик умер». И все. А я читаю дальше: «Печальна была для его матери встреча Нового года; белые снежинки…» и дальше, и дальше в таком же роде сентиментальная размазня. К чему это все, когда мальчика уже не стало?
Сказка была вообще плохая, написанная под влиянием «песенки земли» Кота Мурлыки. Но тогда мне ка залось, что она очень трогательна. Зачем же этот расхолаживающий конец?
У меня, должно быть, вытянулось лицо.
— Это я прибавил.— сказал, как бы извиняясь. Ясинский.— Больше денег получите. За каждую строчку платят пять копеек.
Меня это не утешило. Я задумалась. Он поймал мой взгляд, устремленный на «мадонну» на двери.
— Это моя бывшая жена. У меня от нее два мальчика.
Нигде в этой пустой холостяцкой квартире нс было и следа мальчиков. Где же они?
Через несколько лет, впрочем, я узнала «мальчиков» и была свидетельницей странной жизни этого человека. Он купил дачу на Черной речке, где я часто потом бывала. Среди жиденького сада и огорода стояли два новых деревянных домика, один — более фундаментально построенный. В первом доме жил сам Ясинский с какой- то Клавдией Степановной, тощей, испитой, увядшей женщиной лет тридцати с лишком, которую он называл своим секретарем. Она писала от руки под его диктовку — машинок тогда не было. Два сына Ясинского — гимназисты — жили в другом домишке. «Мадонна» не появлялась.
Прислуживал и отцу и сыновьям татарин — он же и дворник, и садовник, и повар — и кормил писателя вегетарианскими кушаньями. Потом приехала пожилая худая и черная женщина, не выпускавшая изо рта папироски, и поселилась с мальчиками. Она поминутно раздражалась на образ жизни Ясинского и раз в порыве негодования крикнула мне:
— Вот возьму и все брошу! Откажусь записать мальчиков в мои законные сыновья! Пусть как хочет, так их и устраивает. Он бросил меня, когда сошелся с их матерью, а теперь я понадобилась… Юродствует: велит мальчишкам жить в холоде, в домике из барачного леса, укрываться тоненькими одеялами и ходить босиком по снегу! Возьму и уеду, не дождусь оформления бумаг!
Говорилось это при Ясинском. Он слушал, смущенно улыбаясь:
— Не сердитесь. Я не юродствую, я их закаляю.
Но он плохо закалял сыновей: они вечно простуживались и хворали. В конце концов его первая жена уехала, узаконив, впрочем, мальчиков.
Много лет спустя, в первые годы революции, я встретилась с Ясинским. Он был редактором журнала «Пламя». Вскоре издал свои воспоминания и, конечно, упомянул о начале писательской деятельности в Киеве, в газете моего отца. Писатель был стар, слаб, разбит жизнью.
— Моя Клавочка умерла,— протянул он с тоской.— А какая мне без нее жизнь?
Несмотря на свои причуды, Ясинский был добрый человек. Он слышал, что семья наша очень нуждается, и предложил мне,— тогда Клавочки у него еще не было:
— Хотите быть моим секретарем, писать под мою диктовку? А жалованье… жалованьем не обижу…
Я поблагодарила и сказала, что переговорю дома.
Когда я передала предложение Ясинского матери, она категорически восстала:
— Нет, нет… Напиши вежливый отказ. Тебе надо не секретарствовать, а учиться.
Я отказалась.
Хорошо помню день получения моего первого гонорара. Отец согласился сопровождать меня в издательство. Помню, как мы с ним поднимались на лестницу и уже достигли заветной двери, как вдруг я остановилась. Со мной произошла та же история, как два года назад перед дверью Полонского.
— Я не пойду.
— Что за пустяки?
— Ни за что не пойду. Дорогой, возьми эту записку Ясинского и получи за меня.
— Иди лучше сама. Мне могут не дать.
— Ну и пусть не дают, а я все-таки ни за что не пойду.
В конце концов отец пошел. Он вернулся, улыбаясь, с первым моим гонораром: восемь рублей шестьдесят восемь копеек. Откуда взялись эти восемь копеек, если строка расценивалась в пятачок?
Я была горда, что могла заработать деньги, да еще, как мне казалось, такие большие.
close_page
В ГОСТЯХ «ЗАПРОСТО»
В февральской книжке «Игрушечки» появилась моя сказка «Бабочка и солнце», и к этому времени в журнале и в квартире Александры Николаевны Толиверовой я сделалась своим человеком.
Я ходила на Сергиевскую каждое воскресенье на весь день с утра помогать ей присматривать за ее девочками Верой и Надей. Вере было одиннадцать лет, Наде — восемь.
По правде сказать, мне самой доставляло удовольствие играть с этими красивыми девочками, читать им и рассказывать сказки. Иногда к нам присоединялся Толя, и тогда начиналась такая возня, что из своей комнатки приходил Ефим и пробовал нас унять.
Кроткая, тихая Верочка предлагала сидячие игры, но своенравная Надя топала ногой и спорила с Ефимом, пока не являлась на сцену Александра Николаевна. Начинались уговоры, часто кончавшиеся слезами упрямой Нади, убегавшей с упреками из комнаты. Толя был бесцветный юноша и никакого влияния на сестру не имел.
Были еще тихие, чудесные вечера, которые я проводила вдвоем с Александрой Николаевной в ее маленькой спальне, разукрашенной бесконечными безделушками-сувенирами.
Среди них, наряду со старинным ценным фарфором, встречались нежно хранимые простые игрушки, подаренные кем-нибудь из ее детей или маленьких читателей.
Я до сих пор не могу смотреть без умиления на деревянный кружок, к которому прикреплены простым грубым, но остроумным механизмом клюющие куры. Они занимают место на этажерке Александры Николаевны наряду с фарфором Гарднера или Попова. Наши кустари выделывают такие и теперь.
Сидим около теплой кафельной печки; почему-то помнится, будто где-то близко-близко стрекочет сверчок, что придает особенный уют. Старое мягкое кресло; кругом изящные вышивки, чистота безукоризненная.
Перед нами — альбомы, в которых в разных видах изображен маленький, серенький и некрасивый человек в форме уральского казака на низкорослой сибирской лошадке.
Александра Николаевна с гордостью говорит:
— Дмитрий Николаевич Пешков совершил путешествие на этой невзрачной лошадке из Благовещенска в Петербург. Это необычайно и важно в военном отношении, чтобы показать, до какой выносливости можно довести лошадь воспитанием.
Я молчу. Мне кажется, что эту задачу скорее должны оценить специалисты военного дела, чем редактор детского журнала. И мне неловко за мое молчание. 1 ак далека от меня была военная среда, так неинтересен казался этот уралец с его пробегом. Но она им увлекалась, как увлекалась всем из ряда вон выходящим. Уралец был тогда популярен, о нем говорил весь Петербург, в газетах и журналах были помещены его портреты, ему устраивались пышные встречи… Увидев красивую даму, занимавшую особо видное положение среди интеллигенции, уральский офицер, в свою очередь, увлекся ею и сделался ее мужем.
— Он чудесный человек,— говорила Александра Николаевна,— правда, несколько другого общества, но все же удивительно прекрасный человек… Когда правительство наградило его за пробег деньгами, он отказался от награды. Сегодня он дежурный, и я одинока. Дети рано ложатся спать. Я рада, что вы посидите со мной.
И говорит, говорит о нем, о его честности, прямоте характера, любви к труду, преданности…
Мало-помалу настоящее переходит в воспоминания о встречах с известными писателями и художниками и о самом интересном в то время для меня — о ее путешествии за границу и работе среди волонтеров Джузеппе Гарибальди.
Впрочем, Александра Николаевна говорила очень кратко, сдержанно, стараясь сама стушевываться. И, погрузившись в славные дела прошлого, она забывала настоящее. Тогда герой новой формации казак Пешков, ставший в ряды временных знаменитостей, отступал на задний план, мало того, переставал на этот миг существовать. А голос ее звучал тихо, иногда понижаясь до шепота:
— Сколько их было, раненых! Все римские госпитали переполнились пленными, израненными повстанцами. Не хватало рук для перевязок, не хватало рук, чтобы щипать корпию…
Под низко спущенным абажуром ее лицо казалось особенно мягким и сосредоточенным.
— Вот я, как сейчас, вижу койку одного из раненых. Около нее, в страхе и недоумении, столпились мы, сестры милосердия. Никто из нас не понимал того, что творилось с этим юношей. Еще вчера ему сделали операцию, и, казалось, все шло прекрасно: и температура и самочувствие. Он так радостно улыбался, так благодарил нас за уход. Ему, бедняге, так хотелось жить. У него был сильный организм. А сегодня… сегодня у него лицо уходящего из жизни, иссиня-прозрачное, с обострившимися чертами, лицо смертника. Особенно ясно было, что он умирает, по его ввалившимся строгим глазам. Температура резко поднялась; горячечное дыхание сотрясало грудь; он никого не узнавал, бредил и метался.
Страдальческое выражение изменило лицо рассказчицы, взгляд стал глубже; она помолчала с минуту — ей тяжёлы были воспоминания,— и вдруг горячий огонь негодования вспыхнул в этих синих, таких мягких п ласковых глазах и голос стал другим — твердым, гневным:
— И я поняла, что означала торжествующая улыбка оператора и значительный взгляд, брошенный на стоявшего тут же, в палате, монаха-капуцина. Мне все стало ясно.
— Что ясно? — спросила я, когда она замолчала.
— Сейчас объясню. Каждый день мы выводили раненых во двор подышать чистым воздухом. Этот двор госпиталя отделялся стеной от иезуитской коллегии, и мальчики — будущие отцы иезуиты — появлялись над стеной. Болтая ногами, мальчишки высовывали языки, выкрикивали непристойности, делали гримасы, смеялись над больными и кричали проклятия революционерам. И плевали в лица тем, кто имел неосторожность лежать близко к стене. Мы спрашивали: «Маленькие негодяи, кто научил вас этому?» Они хохотали: «Фра Бартоломео, и фра Антонио, и фра Себастьяно — все говорят, что каждый плевок в лицо бунтовщику зачтется на том свете сторицей».
ВЕЧЕР С ИЗВЕСТНЫМ ПИСАТЕЛЕМ
Вспоминается один вечер, когда Александра Николаевна пригласила меня послушать чтение Лескова.
Небольшое общество собралось в тесной столовой.
Прозвенел звонок; в передней поднялась суета. «Литературные дамы» — особая порода женщин, находившаяся в каждой редакции, при каждом известном писателе,— уже за несколько часов начали хлопотать, чтобы «все было хорошо, по вкусу Николаю Семеновичу».
Забавная это порода «литературные дамы». Кто-то сказал, что это смесь собачки-пустолаечки и крысы. Как комнатные собачонки, они ластятся к тем, за кем бегают, и звенят тоненьким захлебывающимся лаем об их славе; как крысы, они питаются тем, что перепадает от властителей их душ.
Помню одну переводчицу, пожилую девицу, маленькую, всегда исключительно молодо, смешно-кокетливо одетую; она была «литературной дамой» при художнике-писателе Н. Н. Каразине, и, когда приходилось приглашать Каразина для иллюстраций, рекомендовали обратиться сначала к ней.
— Без нее ничего не выйдет,— говорили знатоки.
Вот шум, лепет, сдержанный смех, выспренние восторги, ахи, охи, и рой дам вводит под руки пожилого плотного человека с обстриженными ежом седыми волосами и некрасивым лицом, на котором поблескивают маленькие умные и зоркие глаза. На губах слегка презрительная улыбка.
Его ведут или как расслабленного, или как архиерея, хотя он, видимо, еще очень крепок и может вполне обходиться без посторонней помощи.
Жены-мироносицы щебечут вокруг без умолку, ласкают писателя глазами, улыбками, подобострастными словами:
— Ах, боже мой, здесь тесно… вас толкнули…
— Сюда, сюда, Николай Семенович… Здесь вам приготовлено удобное кресло…
— Александра Николаевна, позаботились ли вы, чтобы Николаю Семеновичу был готов крепкий чай?
Жены-мироносицы, конечно, знают все привычки и вкусы своих знаменитостей: и сколько стаканов пьет он и сколько глотков делает в один присест, какие перья употреблял, когда писал такую-то статью, и даже сколько их переменил за время ее написания, и даже какой толщины сыр режет на тартинку,— чего-чего только они не знают!
Такие жены-мироносицы имелись почти у всех знаменитостей: ученых, докторов, адвокатов, общественных деятелей.
У профессора Лесгафта была собачка-мопсик Татарка, и его ученицы стали охотиться за щепками-мопсиками, чтобы завести их наперекор всем неудобствам: тесноте квартиры, неудовольствию квартирных хозяек и т. п. Лесгафт имел привычку опускать характерным движением голову и, глядя немного исподлобья, приправлять свою образную речь часто повторяющимися словами: «следовательно-с, здесь» и «прибавочный раздражитель», и ученицы старались насытить свою речь этими «прибавочными раздражителями».
Жены-мироносицы в своем усердии поминутно что- то спрашивали у Александры Николаевны из сервировки чая, а у нее в ту пору дела были очень неважны. Она жаловалась, что не свести концы с концами. Коммерческий расчет был ей чужд, а конторские книги она вела очень своеобразно.
Вагнер принес ей из конторы записи, в которых никак не мог разобраться. Он говорил:
— Тут рядом с типографией записаны ботинки Верочке и починка часов. А здесь вот — иллюстрации, клише и билеты в театр. И подведен общий баланс.
Она машет руками:
— Ах, я потом разберусь!
А потом выходила путаница, и владелица «предприятия» нуждалась в самом необходимом.
В этот день она собрала все, что могла, стараясь по- лучше принять гостя.
Одна из дам нашептывала:
— Вспомните, как принимают Вержбиловича. Когда он играет, возле него всегда стоит бутылка коньяку; он пьет и играет, и так выпьет всю бутылку. И чем больше пьет, тем лучше играет.
Александра Николаевна полувиноваго. полунасмешливо отвечала:
— Но ведь Николай Семенович — не Всржбилович?
Наконец. Лесков благополучно посажен дамами в удобное кресло. Кругом — неизменный штат. Александра Николаевна, которую Лесков знал в юности, хлопочет по хозяйству. Зажигают свечи под зелеными колпачками.
— Тсс! — шепчут благоговейно дамы.
Все притихают. Александра Николаевна скромно примащивается к уголку стола. Среди глубокой тишины слышно, как шуршат под пальцами Лескова страницы.
Он читает своего «Памфалона» — сказание о скоморохе. жизнь которого среди отбросов общества оказалась более ценной, чем жизнь «праведннка»-столпннка, простоявшего много лет под морозом, дождем и солнцепеком ради убиения плоти.
Сказание, написанное так, как только Лесков умел писать, произвело на меня сильное впечатление. Но все отравляли восклицания:
— Замечательно!
— Великий мастер!
— Вы чувствуете? Чувствуете? Главное, надо почувствовать.
— Ах, что и говорить: неподражаемо!
Эти пошлости как бы рикошетом отлетали к Лескову и ложились на него, без вины виноватого, неприятным налетом. Лесков, безуспешно пытавшийся охладить серьезными и короткими, даже несколько резкими замечаниями пыл своих поклонниц, начинал, помимо воли, казаться самовлюбленным. Было и досадно и как-то стыдно.
— Достаточно ли крепок чай?
— Николай Семенович, достаточно ли сладок чай? Какого вам положить варенья? Налить коньяку?
— Подвиньте Николаю Семеновичу красного вина…
От этой трескотни болели уши.
Я покинула милую квартиру на Сергиевской с досадой.
close_page
ТРАГЕДИЯ В «ИГРУШЕЧКЕ»
Все ближе сходилась я с Александрой Николаевной. Мне нравилась она, ее семья, порядки в ее журнале. Мне здесь было тепло и уютно. Восхищала и простота обихода. В то время в семьях резко разграничивали «господ» от «прислуги». «Господа» жили своей обособленной жизнью в «чистой половине», прислуга ютилась в кухне. В богатых же домах — в особых «людских». Александра Николаевна со своей семьей и штатом, состоявшим из рассыльного Ефима и пожилой рябой кухарки Аннушки, всегда обедали за одним столом.
Ефим был умницей и интересным человеком. Горячий последователь Толстого, хорошо знавший и Бирюкова и Горбунова-Посадова, он пришел в редакцию с довольно объемистой библиотекой, постоянно покупал книги, много читал и любил рассуждать о прочитанном. Суждения его всегда были оригинальны, литературное чутье верно, хотя и окрашено толстовством.
С ним часто вступал в спор Владимир Николаевич Вагнер. Желчный, неуравновешенный, он порою поражал однобокостью суждений, бывал резок, дерзок, а иногда замыкался в себе, становился мрачен и неразговорчив, а то приниженно-робок…
Александра Николаевна качала сокрушенно головой: — Ну, опять нашло на него! Несчастный человек!
Невеселая у него жизнь дома.
Я удивилась. Невеселая жизнь в семье знаменитого, талантливого отца, сказками которого зачитывались. Почему?
— И мать и отец у него неудачные,— говорила Александра Николаевна.— Николай Петрович — теоретик, мечтатель; за своей мистикой спирита он не видит жизни, и жена вертит им; а она — кулачок, черствая женщина. Детям у нее плохо. Юлий стал ученым; другой сын, Петр,— моряком и художником, а вот Владимир не удался. Болезненный, нервный, недоучка, забитый дома. Когда он явился ко мне, то был так истощен, что я пришла в ужас; он принес с собой характерный запах голодающих… Теперь он подкормился, окреп, но у него другое несчастье: он имел глупость жениться на приемной дочери нашей сотрудницы Европеус и с женой живет плохо, а в последнее время, кажется, с ней разошелся. У них ребенок… Его жена, бедная девочка, совсем молоденькая, рассказывает ужасные вещи: будто он ко всем ее ревнует и даже бегает за нею с ножом… И в таких условиях растет его сынишка, и ему он передаст свою наследственность.
Как-то я осталась с Владимиром Николаевичем наедине. Он мне сказал:
— Ведь вот сознаешь, что никому до тебя нет дела. Да, да, никому. В сущности человек всегда одинок.
— Но почему же никому? Я вот на вас смотрю, и мне вас по-хорошему жаль.
Он встрепенулся, и его маленькие бесцветные глаза блеснули каким-то странным, острым огоньком, и лицо стало необычным, дыхание тяжелое,— он хрустнул пальцами.
— А знаете ли, до чего я близок к ужасу? Иногда я сам себя боюсь…— Он нагнулся ко мне совсем близко и прошептал: — Я вот хочу исчезнуть… исчезнуть..
— Убить себя? — в тон, шепотом, спросила я.
— Нет, иначе,— освободить от себя ее, жену…
— Как иначе? — со страхом спросила я.
Тон у него был зловещий Его нервность передавалась и мне. У него не попадал зуб на зуб, и я чувствовала дрожь во всем теле. Наклонившись ко мне еще ближе, он прошептал едва слышно:
— Я сделаю покушение…
— Покушение? На кого?
— Я сделаю вид, что хочу убить ее… жену… меня будут судить… сошлют… и она окажется свободна… Только мальчик наш… Костя… Что будет с ним?
Я отшатнулась.
— Не надо… Не надо!
— Молчите… никому ни слова…
В контору входила Александра Николаевна. Я ей ничего не сказала.
И вот раз, придя в «Игрушечку», я долго ждала, пока мне откроют на мои бесконечные звонки. Открыла сама Александра Николаевна. Она была в необычайном волнении, отрывисто говоря:
— Ужасно… Ах, это же чудовищно: стрелять в упор… И она совсем девочка… Что же это?
Она плакала. В конторе на обычном месте не было Владимира Николаевича.
— А где же Вагнер? — спросила я.
Не отвечая прямо на вопрос, она сказала:
— Дети все-таки пошли в гимназию, а я пока одна. Ефима с Аннушкой я послала туда… Ах, бедная моя Европеус! Что с нею будет? Ведь этот негодяй застрелил жену в упор, прямо в сердце! Пришел к знакомым, вызвал ее, будто говорить о разводе, и выстрелил… Она даже не крикнула…
Так вот оно что! Но теперь я не могу молчать, как просил меня Вагнер.
И я рассказала все. Александра Николаевна не верила. Она не верила, что инсценировка покушения могла вырасти в убийство. Она говорила:
— Он ненормален, а сумасшедшие бывают хитрые. И он схитрил, рассказав вам об этом мнимом покушении.
Я ушла, не сумев убедить моего друга, как мне казалось, в том, что у Вагнера не было заранее обдуманного намерения убить жену.
Начался суд. Процесс был интересный уже потому, что лица, замешанные в нем, принадлежали к писатель скому кругу и были известны. Я говорю главным образом о профессоре Вагнере, литераторе и ученом.
Процессом интересовался весь Петербург. Отчеты о судебных заседаниях печатались не только в газетах, но и отдельными выпусками, и газетчики выкрикивали на углах людных улиц:
— Дело Вагнера! Пять копеек! Дело Вагнера! Пять копеек!
На первых заседаниях я не была. Александра Николаевна, как одна из главных свидетельниц, настроенная все так же недоверчиво к подсудимому, рассказывала, продолжая возмущаться:
— Это дегенерат. Медицинский осмотр установил окончательно.
И потом:
— Установлено, что он симулирует припадки эпилепсии. Я, конечно, рассказала, как он пришел ко мне, несчастный и голодный, и как мне долго пришлось его откармливать, пока он не сделался нормальным человеком.
Тогда я ее спросила:
— И вам было тогда его жаль?
— Конечно!
— А там, на суде, неужели следователи не спросили, почему он, сын известного писателя, дошел до такого невозможного существования?
Она вздохнула.
— Все это так уродливо. На суде вскрылась трагедия вагнеровской семьи.
Владимир — продукт странной, необъяснимой жестокости или недомыслия, заброшенный и нелюбимый ребенок. За шалости или плохие отметки его запирали на целые дни в чулан и, наконец, выгнали из дому. Забитость и озлобленность… и, пожалуй, психическая ненормальность, довели до преступления.
Впоследствии нашло свое объяснение и странное обращение Кота Мурлыки с сыном: старик Вагнер был ненормален и кончил прогрессивным параличом.
Процесс меня волновал, а побывав на одном из заседаний и увидев лицо подсудимого с горячечным румянцем на щеках, с пересохшими губами и остановившимся взглядом бесцветных, пустых глаз, я решила, что должна вы ступить как свидетель и поведать суду о предполагаемом покушении Владимира.
Александра Николаевна горячо запротестовала:
— И не суйтесь! Кто вам поверит? И какое это имеет значение, когда установлено, что он целился в самое сердце и убил наповал? Надо рассчитывать на другое: на его ненормальность.
Я уступила. Настало последнее заседание суда. Мы сидели рядом с Александрой Николаевной, а на скамье подсудимых — он, застывший и точно окаменевший. Защитник — Адамов. Речь пафосная и мало убедительная. Родных никого. А потом, после долгого, томительного ожидания: «Суд идет», и приговор: «Виновен? И дальше: «…ссылкой на вечные времена в отдаленнейшие места Сибири».
Тут Александра Николаевна дрогнула. В ней заговорила та русская душа, которая при встрече с колодниками не допытывается, в чем они виноваты, а спрашивает, далек ли их путь и больно ли натерли им ноги кандалы.
Для Александры Николаевны Вагнер стал одним из тех «несчастненьких», которым крестьянки по тракту длинной Владимирки выносили когда-то последний хлеб и последние гроши. Возмущение теми, кто исковеркал больную душу, оказалось сильнее, чем осуждение совершенного преступления.
Тогда я опять подняла вопрос о моем свидетельском показании, думая приурочить его к кассации. Но было поздно. Я упросила было знаменитого адвоката Караб- чевского взять на себя кассацию, он согласился, но уехал, вызванный на процесс в провинцию, а Адамов отклонил мое свидетельское показание, уверяя, что новых свидетелей не позволят ввести; не помню, что он еще сказал,—- одним словом, приговор остался в силе.
Владимир сидел в предварилке, брошенный родными; я взялась навещать Вагнера и делать передачу. И вот Александра Николаевна стала моей горячей помощницей.
Удалось выхлопотать, чтобы больного Владимира не отправляли в сильные морозы в Сибирь. Удалось мне даже проститься с ним на вокзале. Навстречу в этом мне пошел начальник конвоя полковник Мацкевич.
Это довольно любопытная деталь. Мацкевич, хромой, маленький человек, сопровождая когда-то эшелон политических ссыльных, влюбился дорогой в народоволку Розу Львовну Тютчеву и делал ей всякие поблажки. Роза Львовна умерла в ссылке, но Мацкевич сохранил о ней нежное воспоминание. Об этой любви знали многие политические, знала и я и пришла к полковнику, сказав:
— В память Розы Львовны Тютчевой сделайте то-то.
И этого было довольно.
Потом удалось выхлопотать для Вагнера ссылку в Иркутск, а не в глухие села Сибири.
close_page
МАТЬ И ЖЕНЩИНА
Александре Николаевне я поверяла свои думы и мечты, достижения и ошибки. А ошибок было немало.
Моя личная жизнь сложилась трудно. Разойдясь с мужем, я боялась, что он украдет у меня дочь, и потому никогда не оставляла ее дома с прислугой. Уходить по делам надо было довольно часто, и я таскала ее с собой по редакциям. Иногда мне приходилось пробыть где-нибудь до позднего вечера, и тогда я приводила ребенка в «Игрушечку» и оставляла на попечение Александры Николаевны, даже иногда на ночь. И Александра Николаевна радовалась, что может мне оказать эту услугу, тем более что девочка чувствовала себя у нее очень хорошо.
Раз, засидевшись у Александры Николаевны поздно вечером, я решила оставить у нее дочь до утра, чтобы не таскать по конкам ночью.
Сидим в спальне у камелька. Тихо. Топится печка: огоньки перебегают по углям, трещит уютно сверчок. Мы пьем чай, сидя на низеньких креслах, и шепотом беседуем, а на диванчике спит моя девочка.
Воркует тихий голос Александры Николаевны:
— Вот жизнь… Вы знаете, дорогая, почему я так близко сошлась с вами, почему мне так понятна ваша душа, почему я стараюсь вас остановить, если вы не туда идете? Я вас понимаю; я знаю, что ошибки, продиктованные молодостью, сердцем, а не холодным расчетом,— за конные ошибки. Холодный расчет — вот что я осуждаю, вот что мне всегда было чуждо. Я не говорю уже о фальши. Я говорю только об искренности.
Она помолчала, а я, глядя на нее, вдруг ясно увидела ее молодой, бесконечно прекрасной, такой, какой изобразил ес на портрете Верещагин. Ей было почти шестьдесят лет, но я знала ее молодое, чудесное сердце, никогда не старящееся сердце, и потому такое близкое молодым.
Мне хотелось, чтобы она рассказала о своей жизни, о том, за что ее любили, как она любила, как жила, участвуя в героической борьбе Гарибальди. Но она была подлинно скромна и молчала.
Она положила мне руку на плечо и, заглядывая в лицо теплым взглядом, сказала, точно угадывая мои мысли:
— О себе не хочется много говорить… В моей жизни было немало бурь. Одну из них я вам, пожалуй, расскажу, и тогда вы поймете, почему я к вам так отношусь. Вы — мать, и я — мать, и, когда вы прячете своего ребенка, я вспоминаю ту страшную пору, когда мне, как и вам, приходилось прятать мою Верочку: ей тогда едва минуло три года. Она всегда была хорошенькая и кроткая девочка и, как игрушка, нравилась своему отцу. У меня была большая и, казалось, прочная любовь к человеку, но для него карьера и деньги были дороже любви. Он ушел от меня, и я осталась одна с маленькими детьми, из которых Надю еще кормила грудью. И этот человек захотел отпять у меня моего ребенка, он попросту украл Верочку.
Я ужаснулась, я представила себя на ее месте. А она продолжала:
— Я нагнала его тогда, когда он увозил ребенка. Я бросилась к лошадям, повисла на оглоблях и… остановила… Я не помню, как меня сначала волокло по улице, как лошади, наконец, остановились, как я впилась в девочку, как тащила ее, как потом несла домой… Ну, вот и все… А затем была нужда, беспрерывная работа, тяжелая работа из-за куска хлеба… как у вас… совсем, как у вас… И оттого вы так близки мне с вашей девочкой…
Она работала много, очень много, несмотря на возраст, и, поднимая людей, переживала с ними все — от светлой радости до глубокого отчаяния. Постепенно убеждаясь, что у нее с мужем Пешковым нет ничего общего, она перенесла свою привязанность исключительно на детей.
Сыновья выросли, но вышли неудачными, и оба умерли. Тяжело умирал от чахотки на ее руках Толя; старший сын умер еще раньше, далеко от матери. Остались две дочери, ее опора и утешение.
Она не замкнулась в личную жизнь, я работа в журнале не удовлетворяла ее полностью, тем более что в журнале нашлись у нее помощники: географ-геолог А. П. Нечаев для научного отдела и я — для беллетристики.
Правда, кроме «Игрушечки», у нее теперь были два журнала: «Для малюток» и педагогический «На помощь матерям», но ей хотелось работы в более широкой области.
Александра Николаевна увлеклась громким названием «Женское взаимно-благотворительное общество», которое возглавлялось карьеристкой Шабановой, и вербовала меня в число членов. Но я отказывалась, хоть и не хотела обидеть Александру Николаевну. Меня отталкивал «благотворительный» характер этого общества, снисходительный взгляд на «низы» и на женщин из этих «низов», что, разумеется, вовсе не было свойственно нашей Александре Николаевне.
Меня сердило и огорчало, что ради этого общества Александра Николаевна забросила редакционные дела, и касса журналов все больше и больше пустела, несмотря на то, что Нечаев сумел поднять подписку. С долгами трудно было справляться, и часто журналы опаздывали на несколько месяцев, потому что задерживалась плата в типографию и за бумагу.
Так дотянули мы до юбилея Александры Николаевны в 1897 году. Она, по своей скромности, и не думала о нем, ко мы с Нечаевым, будучи к ней привязаны, хотели отметить ее заслуги. И, кроме того, в юбилее был выход из материальных затруднений журнала.
И вот начались «юбилейные» хлопоты, свалившиеся всецело на мои некрепкие плечи. Приходилось с утра до ночи бегать по морозу в тоненькой кофточке, на голодный желудок колесить из конца в конец громадный город, вести переговоры с бесконечным числом официальных и неофициальных лиц и, возвращаясь домой, валиться в постель, не в состоянии от усталости проглотить ложки супа.
Сколько тогда я встречала разных людей! Как сейчас, вижу небольшую квартирку Мамина-Сибиряка, кажется, где-то в районе Загородного проспекта. Хозяин ее — широкоскулый, похож на азиата, и подчеркивает это большой бронзовый идол Будды у него в гостиной. И возле Будды он — своеобразный, бестолковый и капризный. Подписывая адрес Толиверовой, он вдруг начинает ко мне приставать и пристает так сердито, почти грозно:
— Почему вы — Алтаев, когда была женщина Алтаева?
Пристает, из себя выходит, все хочет показать мне книжки этой Алтаевой, рыщет на полках среди хаоса книг и, конечно, не находит.
Холодный, респектабельный Авенариус. Сух, вежлив, сановник в звездах. И другой сановник, тоже в звездах, еще недавно мой профессор-педагог, благодушный шутник Каптерев. Оба подписывают адрес.
И торопливая Клавдия Лукашевич: вся розовая, пышная, предлагает свои услуги в организации юбилея.
И маленькая переводчица, грудью защищающая подступы к Каразину. Она явилась потом на юбилей с каразинской виньеткой на адресном листе, вся в ярко-лиловых шелках, в страусовых перьях — экзотическая птица.
Контрастом был Горбунов-Посадов, в толстовской блузе, с подчеркнутой простотой длинных волос, окладистой бороды и некрасивого, но симпатично-открытого лица.
Проходит целый ряд фигур: импозантный Василии Иванович Немирович-Данченко, с его холеными бакенбардами и важными движениями, и другая, спокойно-уверенная фигура с красивой головой и длинной серебристой бородой — Петр Исаевич Вейнберг, и милая, с тонким, женственным лицом, приветливая Щепкина-Куперник, уютно зарывшаяся в подушки кушетки. А вот литературные неразлучки — Баранцевич с Альбовым: первый толстенький, лысоватый, с реденькой рыжеватой бородкой, второй — несколько мрачный, тощий, с тонкой шеей, прозванный «Дон Кихотом». Встает в памяти чета За содимских: он—патриарх, закинутая назад седая голова и белоснежная борода; она — полная, похожая на хлебосольную попадью.
И, наконец, бледное тонкое лицо Ивана Бунина. А рядом первый переводчик «Гайаваты» — седой, мягкий, благостный Михаловский, «дядюля», как зовут его в семье Александры Николаевны. Круг завершает Лесков со своим эпическим спокойствием. На фоне — суетливые «литературные дамы».
Результатом юбилейных хлопот была моя тяжелая болезнь. Но зато юбилей удался: маленькая квартирка на Сергиевской была битком набита народом… Александра Николаевна радовалась креслу к письменному столу, серебряной ручке для пера и особенно часам с кукушкой, взамен ее старых, плохо идущих часов. Ее забавляла птичка, выскакивавшая из окошка.
Юбилей мы праздновали несколько дней: и товарищеским обедом в ресторане «Мало-Ярославец» и детским утром «Игрушечки» в большом зале городской думы. Необходимо было Александре Николаевне выступить в концерте и прочесть что-нибудь из своих сочинений.
Мы приставали к ней, чтобы она выбрала какой-нибудь отрывок из своих статей, но она только отмахивалась.
— Голубчики, да ведь все комплекты моих трех журналов к вашим услугам. Выбирайте сами.
Нечаев внимательно пересмотрел все комплекты «Игрушечки» и «Для малюток» и мрачно заявил:
— Это все пустяки, а надо для юбилейного утра что- нибудь поосновательнее. Вам следует прочесть из вашей жизни, из ваших воспоминаний, Александра Николаевна.
— Да что говорить? Вся моя жизнь у вас на глазах, а сказать — тогда-то родилась,— кому это интересно?
И опять нежелание выставлять себя, свою жизнь напоказ помешало ей коснуться пожелтевших героических римских страниц. Она скрывала от нас даже то, что была первой переводчицей Лермонтова и Некрасова на итальянский язык, да еще во время гонения в Риме на все русское…
Итак, мы должны были выбрать какую-то детскую сценку, написанную ею мимоходом, и она прочла ее тихо, слабым голосом, вызвав жидкие аплодисменты плохо слушавшей аудитории детей, занятых веселым праздником, хлопушками, масками и костюмами снегурок и морозов…
close_page
ГАРИБАЛЬДИЙКА
Виктор Петрович Острогорский заболел и не был на юбилее. Мне случилось навестить его; я сетовала, что так неудачно выбрали рассказ для чтения юбилярши.
— А что же вы не воспользовались ее воспоминаниями? Уж если она не хотела сама говорить, то сделали бы вы хотя переложение статьи Шелгунова «Из прошлого и настоящего». Долго искать, я, пожалуй, расскажу вам историю ее подвига сам.
Острогорский любил рассказывать и рассказывал хорошо.
Жена Виктора Петровича взяла рукоделье и приготовилась слушать. Я знала, что он будет рассказывать, взяв текст Шелгунова, вероятно, расцветив своей фантазией, но не нарушая правды, а может быть, и дополнив подробностями, слышанными из уст самого Шелгунова.
Он закурил, затянулся и скомандовал, косясь на меня:
— Ну, марш на диван! Садитесь глубже, уютнее… Начинаю. Случилось это в Риме в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году. Александру Николаевку знали хорошо все гарибальдийцы. Работа ее в госпиталях была смелой и самоотверженной. Возьмите во внимание, что тогда было очень опасно выказывать в Риме свое сочувствие идеям Гарибальди, особенно для русских, когда папские сторонники и иезуиты всячески преследовали русских за освободительное движение шестидесятых годов: запрещалось говорить на русском языке на улицах и в общественных местах, запрещалось богослужение в русских церквах… Вы знаете, что такое папская и иезуитская Италия? Это страшная страна, сохранившая еще отблеск древних костров инквизициии: это тайные убийства, это все еще яд Цезаря Борджиа в пятнадцатом веке и не похороненный гроб проклятого папой Паганини в веке девятнадцатом…
Голос рассказчика звучал мрачно, как будто он говорил речь у разверстой могилы, и, маленький, раскосый, с длинными седыми кудрями и протянутой грозно рукой, он походил на легендарного духа.
— Подумайте о крови, заливающей Италию, и о молоденькой женщине, прекрасной, но слабой телом… В эту страшную пору она была среди повстанцев, в папском Риме, о ней знал сам Гарибальди; она была так популярна, что получила в подарок от раненого гарибальдийца рубашку, запятнанную его кровью, пролитой за освобождение родины; она получила от другого повстанца кольцо с крестом и еще от кого-то браслет с надписью: «Метог mei, felix esto» 1. И вдруг приезжает от Гарибальди писательница и известная общественная деятельница Шварц и заявляет, что в тюрьме замка святого Ангела в Риме сидит друг и адъютант вождя Луиджи Кастеллацци, приговоренный к смертной казни, и что его надо во что бы то ни стало спасти. Вообразите себе всю опасность, нет вы только вообразите!
— Но почему же об этом сообщили именно Александре Николаевне? Как она могла помочь делу спасения гарибальдийца?
— О, еще как могла! Чего не сможет смелая, красивая женщина, у которой слово не расходится с делом, наша русская шестидесятница!
Он произнес последние слова — «наша русская шестидесятница»— особенно торжественно. Все окружающие знали о том благоговении, которое питал Острогорский к людям шестидесятых годов. Он продолжал:
— «Вечный город» Рим хранил немало тайн: тюрем, застенков и камер для пыток. И везде скользили черные тени иезуитов, называвших себя «псами господними». Но страшнее всех тюрем был замок святого Ангела. За его зубчатыми серыми стенами в течение многих веков бесследно исчезали жертвы, принесенные «во имя бога», на самом деле — жертвы политики, личных расчетов, коварства, честолюбия. И как часто тюремный люк выбра сывал мешки с изуродованными трупами погибших под пыткой безвестных мучеников… После знаменитой мен- танской битвы сюда попал и Луиджи Кастеллацци.
Острогорский помолчал и с дрожью в голосе продолжал:
— Каменный мешок, сырая ловушка, среди вечного сумрака и могильной тишины. Кастеллацци был не один. С ним товарищи — смертники. Каждое утро на рассвете приходили тюремщики и выкликали имя того, чья была очередь. И каждый ловил себя на малодушной мысли: «Только бы не моя! Еще бы один день пожить, увидеть свет в узкую щелку под потолком»… Обнимались, крепко обнимались предсмертным объятием… Не один страшный рассвет встретил Кастеллацци, ожидая своей очереди. Наконец, смертный приговор конфирмован. Осталось жить только двое суток. Надежды на спасение нет и быть не может.
Рассказчик сделал паузу и продолжал тихим, проникновенным голосом:
— Рано утром, когда на тюремном дворе началась обычная работа, когда по камерам разносили утренний хлеб, молодая женщина явилась в замок святого Ангела и скромно просила позволения поговорить с комендантом. Она была прекрасна. Никто не подозревал, что это русская. Она говорила на чистейшем итальянском языке, которому упорно училась, как только задумала встать в ряды борцов за освобождение Италии. Нежным, мелодичным голосом она молила коменданта: «Разрешите мне увидеться с моим женихом перед его смертью… будьте человечны… ведь это последнее наше свидание!» И из ее синих глаз неудержимо катились крупные слезы… Кто в Риме не знал суровости коменданта? Он никогда не соглашался ни на одну уступку заключенным. Но и этот жестокий человек уступил слезам прекрасной женщины. Он коротко сказал: «Идите, сейчас вас проведут к заключенному, но всего на десять минут». «Не много перед вечной разлукой»,— подумала пришедшая, торопясь за тюремщиком. К счастью, ее не стали обыскивать, иначе у нее нашли бы записку Гарибальди с планом бегства.
Голос Острогорского дрогнул.
— Это был очень рискованный шаг. И все время, пока.

С портрета работы В. Верещагина. 1867 г.
женщина шла по темным, узким переходам, она думала, что, возможно, больше никогда отсюда не выйдет. И, наверное, когда поднималась по лестнице и видела в узкое окно клочок голубого неба, думала, что, быть может, в последний раз видит и это небо. А что, если перед камерой Кастеллацци ее обыщут? А что, если они заметят обман, когда она войдет и «жених» примет ее, как чужую? Но какое чувство было в это время у Кастеллацци? Он находился, вероятно, в каком-то полусне и ждал — скорее бы кончилось. Визг ржавого замка, грохот ключей и стук отпираемой двери, и в неширокую полосу тусклого света вступили тюремщик и какая-то женщина. Что это? В смрадной, сырой берлоге светлое видение… И вот, прежде чем он сделал какое-либо движение, женщина бросилась ему на шею, обняла его прекрасными руками — эти руки, заметьте, много раз служили моделью для художников— и зашептала: «Carrime… mio amico…— что значит «Дорогой… друг мой…» — Я просила коменданта дать мне позволение с тобою проститься…» Она прижималась к Кастеллацци, и он неожиданно почувствовал, что за ворот ему скользнула бумажка. То была записка Гарибальди.
Я затаила дыхание. Жена Острогорского перестала шить. Он продолжал:
— Кастеллацци бежал перед самой казнью, а Александра Николаевна благополучно вернулась домой.
— Но все-таки мне хотелось бы знать, Виктор Петрович, почему Гарибальди выбрал спасительницей именно Александру Николаевну?
— Очень просто. Гарибальди лично знал и высоко ценил отважную русскую женщину. Года через два-три она была у него в гостях в скромном домике на острове Капрере. Он даже писал ей… Неужели она никогда не показывала того, что Гарибальди писал ей?
— Никогда, как никогда не говорила о своих заслугах и даже об этом подвиге.
— Он ей написал хорошее письмо. Об этом знают те, кто был с нею в Риме. Вы все-таки попросите ее показать это письмо и перевести с итальянского на русский язык. Гуляя с Александрой Николаевной по берегу острова, Гарибальди с горечью говорил: «Бедная Ита лия — страна, которая дает приют шпионам и монахам… Государство, если оно хочет быть сильным, должно черпать свои силы в народе. А народ везде хорош. Наши теперешние правители — наполовину черные и боятся проклятий папы и ада». Вы все-таки не забудьте спросить о письме. А выбрал Гарибальди Александру Николаевну для подвига прекрасно: ведь не находилось смелого человека, которому можно было бы довериться и который мог бы передать в тюрьму план бегства. Ни одного гарибальдийца не пустили бы туда, и только смелость и находчивость прекрасной русской женщины обеспечили удачу.
close_page
ПИСЬМО ГАРИБАЛЬДИ
Прошло много лет. Александра Николаевна состарилась. Через ее голову перекатилось немало тяжелых волн жизни. «Игрушечка» умирала собственной смертью из-за недостатка средств и из-за конкуренции, когда появилась модернизованная, изящная и хорошо обеспеченная «Тропинка» с талантливой Allegro во главе. Так погибали многие журналы, особенно детские. «Игрушечка» перешла в руки торговца чемоданами Штуде, который платил Александре Николаевне за редактирование гроши, обсчитывал и тянул выплаты гонорара авторам.
И вот журнал приказал долго жить.
Мы все-таки продолжали встречаться с Александрой Николаевной довольно часто. Я навещала ее в ее новой квартире на Троицкой улице, такой же чистой, милой и уютной, так же мы подолгу беседовали в ее спаленке, у новой кафельной печки, возле серебристых японских ширм со светлыми птицами; так же нам куковала знакомая кукушка, наш старый товарищ, свидетель толиверовского юбилея. Но до сих пор Александра Николаевна не показала мне письма Гарибальди, несмотря на десятки лет дружбы, и не рассказала мне о своем подвиге в Риме, хотя вечерами любила вспоминать о подвигах гарибальдийцев.
Нe рассказывала она и о том, что двенадцать лет (от 1862 до 1874 года) писала интереснейший дневник, что многие известные писатели, художники, музыканты и актеры были с нею в дружеских отношениях и вели переписку. Среди них — Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, многие русские и иностранные художники, композитор Лист, трагик Росси, актриса Стрепетова. В заветном шкафике у нее хранилось много писем Некрасова; по сие время у ее дочери имеется сто тридцать пять писем Лескова.
Встречались мы с Александрой Николаевной и на новом поприще деятельности: в «Кружке библиографии детской и народной литературы», основанном Рубакиным, председательницей которого я была в последнее время.
Участники кружка собирались друг у друга по очереди, но по нездоровью и годам Александра Николаевна просила бывать у нее, не в пример прочим, как можно чаще.
Мы все любили собираться на Троицкой, чувствуя теплоту и доброжелательство Александры Николаевны.
Но сил у нашей гарибальдийки становилось все меньше; она все чаще хворала, а все еще молодая душа ее не хотела переходить на старушечье положение: она продолжала интересоваться и литературой, и театром, и газетами, и музыкой, интересовалась и художественными выставками, не отставала и от общественной жизни, расспрашивала о разных митингах и банкетах, которых было так много накануне февральского переворота.
Морщась от боли в почках и от подагры, сводившей ей суставы, она расспрашивала о друзьях, болела душой за солдат, изнемогавших в окопах в империалистическую войну. Так дожила она до февраля 1917 года, потом встретила и Октябрь. Она верила в свободную жизнь свободного народа.
Александра Николаевна скончалась 1 декабря 1918 года, на семьдесят седьмом году, и перед смертью дрожащей рукой писала мне в Москву из Ленинграда последнее дружеское и грустное письмо…
В 1942 году исполнилось сто лет со дня рождения русской шестидесятницы-гарибальдийки.
После нее остались девять дневников и переписка со многими писателями, осталось знаменательное письмо Гарибальди, которое хранится в Ленинградском институте русской литературы.
ДНЕВНИКИ
Старшая дочь Александры Николаевны, Вера Сергеевна Чоглокова, дала мне дневники матери, и я смогла дополнить воспоминания ее собственными впечатлениями, ее записями о пережитом в Риме…
«ДНЕВНИК 7-й»
Рим 1867 г.
15 окт. …По вечерам много читаю, пишу. Приходят Риппони. Еленов. Чистяков, Северин и др. Пьем чай, беседуем мирно… Разнится только жизнь в политическом движении Рима. Вокруг гарибальдийцы… Говорят, что через неделю, не более, Рим будет принадлежать Виктору- Эммануилу; он и Barton скверно поступили против Гарибальди. арестуя его, и теперь, кажется, хотят отстранить этого героя от римского дела, послав прямо итальянские войска, чтобы история на своих страницах не называла его спасителем итальянского народа…
Время в Риме — весна. Я хожу каждый день на Pincio. Это место для меня самое дорогое в Риме. Глядя вокруг на эту могучую природу, на голубое небо, становится тяжело от мысли, что рано или поздно придется оставить все это. Но что делать,— жизнь не без потерь!.. Вечером были все русские. Завтра едет Попов; у него слезы катятся, когда он говорит о Риме… У меня тоже сердце болит, когда я думаю, что и нас будут через 6 месяцев провожать…
18 окт. …Занималась, потом пошли в Колизеум. День, лето, небо голубое, зелень свежая… Подле Колизея, направо. около деревьев, целые группы сидят на траве… Вошли в Колизеум. Тишина. Продавец фотографий, старик с седой головой, при входе снял шляпу и башмаки с чулками; налево, при входе, на белой мраморной доске коричневый крест с надписью: «Кто приложился на неделю отпускаются грехи»… Он приложился, потом на коленях пополз к кресту, находящемуся посредине Колизея, и долго молился. Потом подошел к одному из образов (кругом Колизея образа, представляющие все страдания Христа), поставил свой портрет под образ и начал молиться…
Вернулась домой. Народу на улицах мало, а если видно, то кучками, все о чем-то толкуют… Пока ничего не слышна, кроме, что бедные гарибальдийцы храбро бьются с зуавами и порядком оставляют убитых, раненых и пленных. Римляне же ничего не говорят… Гуляют по Пинчио… Женщины разодеты. Нет в них сострадания. Это не славянки. Жаль бедных гарибальдийцев, и если они теперь ничего не сделают… плохо… Бедный Гарибальди…
20 окт. …Утром шел дождь, потом разгулялось. Приехал Wendt, не верит, что слышал, что Наполеон хочет по папским границам поставить свои войска и заставляет Италию подавить восстание гарибальдийцев: если она не согласится, то он поможет. Если же будут нужны войска для Рима, то пусть войска войдут пополам — французские с итальянскими. Но я атому не верю. Это совсем уронит нацию. Впрочем, и не верю также, что а Риме будет революция и что жандармы и артиллерия подкуплены гарибальдийцами. А пока все дерутся. Жена канцлера поехала сестрой милосердия к зуавам, которые, говорят, дерутся, как звери. Будем ждать реформы; пока жизнь очень дорожает…
окт. Город спокоен. Войска, вернувшиеся с поля битвы, были «аплодлрованы» народом… Все. кажись, забыто; а мученики — 3000 человек — посажены в крепость св. Ангела, каждый день падают жертвами расстреливания.
…Итальянцы постоянно позируют во всем. Они хорошие натурщики, но далеко не солдаты. Мы с Валерием в первый раз вышли вечером гулять. Везде тишина.
окт. Погода совершенно испортилась. Читала. Писала. Политические новости весьма утешительные. Папские войска потерпели порядком от гарибальдийцев. Валерий ходил смотреть баррикады; их строят у всех ворот; он говорит, что они готовятся точно для битвы с деревянными куклами; несколько бочонков набиты песком. Работники набраны что ни на есть из не годных ни к чему людей и без работ нищих,— им платят по скуди в день. Работают нехотя. Было около двенадцати, они сидели иа баррикадах и ели хлеб, запивая вином.
Сегодня вечером ждут переворота. В 5 часов на Piazza Barberini собралось около 300 человек народу. Полиции ие было видно ни души. Народ постоял и разошелся; некоторые зашли в тратторию, выпили вина за единство Италии. После оказалось, что этот народ ждал оружия, которое должно было быть прислано национальным комитетом. Узнали, что это оружие было спрятано около св. Павла и, открытое шпионами, захвачено папским войском. Но это не удержало их. Они, имея подкупленную артиллерию и некоторых жандармов, пошли к назначенным местам, предупредивши заранее дежурных офицеров, находящихся в крепости св. Ангела, забить пушки после дневного сигнала. Не имея оружия, они по дороге убивали каменьями часовых. Около Trinita del Monti был взвод жандармов. На Capele Case отнимали у них ружья» револьверы и сабли. Около св. Павла была подброшена бомба, взорвавшая казармы… Оказалось, что эти квартиры были заняты музыкантами-итальянцами. Тут их погибло около 60 человек, между ними попались 5 зуавов. Ближайшие дома стоят теперь с вырванными рамами, дверями и выбитыми стеклами. Много было переранено прохожих. Убиты муж, беременная женщина, ребенок н проходившие в это время мимо люди. Была стычка подле колонны Траяна; революционеров было около 300 человек, ружей же только 38. По первому залпу прискакали 10 жандармов, увещевая их разойтись и говоря, что за ними скачет целый отряд. Но предупреждение было поздно; задние нагнали. Много перестреляли, в том числе и первых жандармов. Третья шайка действовала около Капитолия, патруль был убит, часовые также; был подан сигнал забивать пушки, но и тут они потерпели поражение, бывши почти безоружными. Три тележки, приехавшие к ним на помощь, подвезли им несколько обыкновенных ружей, но не могли сделать бой равным. Соединившись все вместе, они направились к воротам св. Паоло, убили камнем часового, разбили ворота, пробрались, но тотчас же вместо своих были встречены зуавами и жандармами, отлично вооруженными. Делать было нечего. Начали драться; бой держался в продолжение двух часов, с оружием с одной стороны и каменьями и ножами — с другой. Погибло много инсургентов; убитых оставлено (врагами) 400. Кончилось так: отступили, попрятавшись в ямы. Был дан сигнал, по которому (были) закончены действия.
Не видя кругом движения, отправились до Popolo осмотреть баррикады, но туда после вчерашнего боя не пускали. Вечером снова бросали бомбы. Просто страшно становится сидеть. У нас каждый вечер Риццони и Верещагин, но все вообще неспокойны. Народ сильно страдает.
Пошли в еврейский квартал. Там тоже, по случаю измены со стороны участвовавших, взят дом, где было скрыто оружие. Много взяли ружей, пистолетов и бомб… Найденных в доме с оружием в руках убивали на месте, потому что с сегодняшнего дня город на военном положении. Трудно видеть, что итальянцы сначала и до сих пор все проигрывают. Мне кажется, сами они теперь падают духом, говоря: «Нам всюду и все изменяют».
В эту ночь мы были напуганы. Бросили бомбу на Tritone.
После удара мы отворили окно и увидели по нашей улице горящие осколки. Около 9 часов стали возить пушки; сегодня тоже чего-то ждут за Роrta Pia. Я ничего не могу писать,— так взволнована душа. Неужели, думаю, снова Италия позволит римлян отдать Франции? Эти дни, впрочем, писала статью о случившемся; хотелось бы, чтобы ее напечатали в России, но боюсь,— постоянные неудачи встречаю во всем для себя на дороге. По вечерам работаю. Всегда кто-нибудь есть.
окт. Писала. Сегодня опять всю ночь было сражение около Monte Rolonde. Гарибальди, во главе семи тысяч человек, уничтожил папское войско. Половина убита, половина взята в плен. Отняли три пушки.
окт. Отправила письмо к Некрасову. Что-то будет? Посмотрим, что принесет нам сегодняшний вечер? Он прошел спокойно. Бросили где-то вдалеке две-три бомбы, ио эти меры ни к чему не служат. Они ранят всех, кто подвертывается, не делая, впрочем, вреда yи попам, ни зуавам и ни солдатам.
окт. Сегодня рано утром прибежал и Рицц они с этим известием. Но слухи о французских войсках также переходят из уст в уста. Неужели этому герою, отдавшему все почти Италии, придется погибнуть от своей же пули, потому что, говорят, Франция положительно требует от Италии необычного подвига. Гарибальдийское восстание сегодня снова; бросали бомбы просто уже без цели на Piazza di Spagna. Просто показать народу, чтобы он не дремал, а он действительно плох.
Рим все тот же в продолжение дня: те же разодетые дамы и табаккини в разноцветных галстуках. Шарманка тоже играет… А ночью наступает беспокойство- Бросание бомб, убийство. Патруль вчера убил первых, кто ему не ответил, когда он окликал.
Вечером сидели Antoine Rizzoni, Верещагин. Играли в карты. Я работала. Проезжали пушки. Запах пороха наполнял воздух. Что-то будет далее? «Партия дела*, в случае неудачи, хочет взорвать весь город.
…На Рiazza a Colona поставлена пушка; целые телеги, наваленные тюфяками и соломой, ездят от казармы к казарме. Ждут кого-то. Конечно, эти церемонии не будут делать для итальянцев, тем более для гарибальдийцев. Бомб более не слышно, точно так же и побед. Битва около Monte Rotonde была последняя. Тут Гарибальди снова показался героем, отпустив пленных зуавов, французов на родину (конечно, не в Рим, иначе это было бы ему же на шею), говоря, что «я вас содержать не могу, нечем, идите с богом».
окт. Сегодня было приклеено объявление о вступлении французских войск. В 5 часов они вошли, встреченные огромной толпой народа, а главное — дам, разодетых, в колясках. «Положительно,— как сказал Гарибальди» удаляясь будто бы на север,— римляне не стоят, чтоб за них вести открытый бой».
1 ноября. Беспорядки нет-нет да и проявляются. Бомба снова была вчера брошена на Via Murato. Патруль привязывается ко всему: у одного швейцарца заметил шляпу a la Cavour, тотчас стащил ее. выпрямил и снова с силой натянул ее ему на голову. Французские войска только должны охранять престол папы; до остального им нет дела. Сегодня позировала у Валерия. Никуда не ходила… Вечером были наши художники… Говорили о политике… Вчера, говорят, убили двух вновь пришедших французов. Убийства все еще и злоупотребления по ночам…
- ноября. …Работала. Ни читать, ни писать не могу… Не знаю, что еще из моего писания выйдет… Вечером опять были Риццони, Видер, Лаверецкий, Чистяков, Верещагин.
- ноября. …Читала… ответа от Некрасова нет как нет. Политическое движение заглохло с вступлением французов.
По вечерам все кто-нибудь да приходит. Я постоянно работаю.
6 ноября. …Сегодня возвращались войска. Народу, говорят, было видимо-невидимо. Первые шли зуавы; им бросали цветы. По дороге они несли на плечах, в виде добычи, гарибальдийские рубашки, их штыки, шапки. Говорят, в воздухе только и слышалось: «Viva Pio Nove, viva Papa Re!». А когда все прошли, то есть зуавы, французы, стрелки, швейцарцы и под конец везли раненых и пленных гарибальдийцев, то народ бросал в них грязью и кричал: «Amarate!»
Арест Гарибальди на меня сильно подействовал. Действительно… итальянцы не способны сделать серьезных демонстраций. Именно в момент, когда возвращались войска, нужно было бросать бомбы в публику, собравшуюся для встречи, за арест одного Гарибальди,— будь это французы, сколько бы легло, а его бы наверное отбили. А тут ничего себе. Вообще «дело табак», как говорят в России.
8 ноября… Пошла с одним нищим, почти ослепшим, взять консультацию у Тасси. Он, осмотрев его, сказал, что один глаз совсем потерян, а другой можно еще спасти. Был так добр, позволил (ему) приходить к нему каждый день. Я у них долго сидела. Говорили о подписке в пользу гарибальдийцев. Я хочу собрать с русских и знакомых итальянцев. Он в свою очередь хочет сделать подписку в кругу своих медиков и студентов… Они все хотят, чтобы я, относя свои деньги, отнесла и ихние от римлян. Действительно, хоть даже в этом случае ничего не делают. Зуавам раненым и вообще папским носят и отличные обеды, и белье, и подписка со всех сторон. Этим бедным — никто ничего! Боже! Как бы я была счастлива, если бы мне удалось сделать что-нибудь для этих мучеников!
13 ноября. Принесли мне позволение посетить гарибальдийцев в госпитале S. Anofrio. Итак, с 14 ноября до 15 января я постоянно почти была в госпиталях S. Anofrio или S. Agata.
Это время было самое тяжелое. Писала статьи; одна была напечатана в «Голосе»; про другие ни слова не слышно. Некрасов, верно, только пообещал.
В госпитале познакомилась с Бени Артюром. Он был ранен в правую руку. Его перевезли в S. Agata, где он, после ампутации руки, помер 28 декабря. В этот же день скончался мой хороший знакомый по госпиталю Frank Marie. Он умер, заразившись от гарибальдийцев. Из 180 человек раненых в S. Anofrio умерла ровно половина, изувеченные насильственной исповедью, притеснением попов, дурным обращением, плохими хирургами и гадким помещением. Они любили меня, как сестру, как друга; я сделала все, что могла: собирала деньгами, платьем, бельем, едой. По мере того как я провожала полк гарибальдийцев, я дома получала письма, самые искренние, от раненых.
Один, Fornari, подарил мне на память свою красную рубашку, запачканную кровью из раны, прося не смывать ее. Из всех (их) я любила (всех) больше Talachi. Он был такой хороший, добрый человек, был уже три раза вместе с Гарибальди. Он мне и подарил портрет с него с надписью собственной рукой Гарибальди.
Рождество я провела с ними вместе, отвезла им туда завтрак и вино. Радость их трудно описать. После смерти Бени приехала его невеста Мария Николаевна Коптева, Убита была страшно. Она пробыла у нас три недели.
30 декабря схоронили Бени на Festano. Были на похоронах: я, Коптева, m-lle Pelis и т-те Schwarz. Познакомилась у m-me Schwarz с Листом… Получила от нее на память отличный браслет с надписью: «Memor mei — felix esto» — «Помни обо мне и будь счастлива».
close_page
ДВЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
МАТЬ ВСПОМИНАЕТ…
Апрельское утро 1889 года. Весна запоздала, и в открытую форточку врывался холодный ветер, смотрело хмурое, не по-весеннему тусклое небо с клочковатыми обрывками ползущих туч. Мы сидели в столовой. Мать просматривала газеты, и я увидела, как дрогнули ее руки, услышала, как дрогнул голос:
— Он умер, а я и не знала…
— Кто умер?
В ее больших карих глазах, всегда таких мягких, спокойных, необычное волнение:
— Михаил Евграфович… Салтыков-Щедрин… Объявление о похоронах… Завтра на Волковом кладбище…
— Почему это тебя так взволновало? — спросила я.— Ты его очень любишь как писателя?
Мне вспомнилось, как несколько лет назад у нас читали вслух «Господа Головлевы» и она говорила:
— Иудушка Головлев — незабываемый образ…
Но она охотно читала и Гаршина и, когда он покончил с собою, жалела его, но так не волновалась.
Мать медленно читает, растягивая каждый слог, точно изучает отдельно все буквы:
— «Погребение на Волковом кладбище… Вынос из квартиры…» На вынос я все равно не пошла бы, но на по хороны.. на кладбище… затеряться а толпе, взглянуть и проститься…
Она не договорила, потом, пересилив себя, тихо ставила:
— Подумать только… около тридцати лет прошла… и вот газетное объявление стукнула зловещей гробовой крышкой… И вспомнилась Тверь и моя молодость, а то обаяние, которое производил на общество этот острый ум.
Мать прочла жадный вопрос в моих глазах, знала, что я всегда очень любила ее воспоминания о старине, я за чала рассказывать:
— Тогда я была замужем первым браком за Льновым. тверским вице-губернатором. По положению мужа, мне приходилось вести светский образ жизни, бывать на вечерах, раутах, балах. И нот как сейчас рисуется богато сервированный стол какого-то официального обеда, на лицо все высшее тверское чиновничество и дворянство.
обед, кажется, давался а честь какого-то приезжего из Петербурга начальства. Я сидела рядом с Евграфовичем, а напротив нас — дама, нарядная, вся залитая брильянтами, жеманная. Она посмотрела в нашу сторону я встретила строгая, характерный взгляд Салтыкова, одному ему свойственный с этой глубокой про
доьной бороздкой между бровями.
Мать сейчас же пояснила:
— Он сказал это так просто потому, что относился ко мне с доверием. Он знал, что я из семья Толстых, близких к декабристам. Дед твой, а мой отец, был один из основателей общества Благоденствия и участник Семеновского бунта, который явился прологом восстания Сенатской площади, поднятого через пять лет. Дедушка твой не только знал лично, но был близким другом тех, кто, по приговору императора Николая Первого, погиб на виселице или был сослан в Сибирь, и если не попал сам в каторгу или ссылку, то только потому, что тогда родительская воля была неограниченна…
— При чем тут родительская воля?
— Тебе шестнадцать лет, а ты держишься со мною, как равная,— усмехнулась мать,— таково теперь воспитание. В дни моей юности оно было куда строже, а в дни юности твоего деда — просто деспотическое. А твоя прабабушка Алевтина Ивановна была еше и необычайная самодурка. Примером такого самодурства может служить история с мелкопоместным дворянином Пономаревым, который подолгу гостил у нее, в ее великолепном имении Ельцы на Селигере, этом родовом гнезде Толстых. Там пиры следовали за пирами; крепостной театр Толстых был известен даже в Петербурге, и, говорят, при Екатерине Второй несколько актеров из этого театра были взяты в столицу. Так вот гостил Пономарев в Ельцах, а в это время в его собственном поместье случился пожар, сгорел дом со всеми надворными постройками. Алевтина Ивановна попросила его остаться погостить у нее две недели и за эти две недели выстроила на свой счет все, что погорело. Вот эта-то самодурка, мотавшая громадное состояние Толстых, узнала о готовящемся восстании и о том, что дети ее среди бунтарей, и поехала тотчас же в Петербург. Там она добилась, что двух ее сыновей, в том числе твоего деда, а моего отца, посадили в Петропавловскую крепость «за непочтительное обращение с матерью»; будто бы ей сказали, что дети хотели наложить на нее опеку за мотовство. Таким образом, они просидели все то время, пока их товарищи подготовляли бунт,, просидели и день 25 декабря, а затем и были выпущены опять-таки по просьбе Алевтины Ивановны. Вот какое было… оригинальное время,— улыбнулась мать.— Вот при чем тут была родительская воля.
— Но какое отношение ко всему этому имел Салтыков-Щедрин?
— Сейчас, сейчас… С товарищами декабристами мой отец был тесно связан, особенно с Матвеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом. Когда Матвей Иванович получил амнистию, он из Сибири приехал в Тверь. Тверь недалеко от Москвы и Петербурга, железная дорога между ними уже существовала, и Матвей Иванович выбрал этот город. Но в Твери декабристам жить было запрещено, как и в Москве и в Петербурге. Прописаться Матвею Ивановичу нельзя было, и он жил у меня тайно, и, по правде сказать, я очень трусила, зная, что могу подвести моего мужа. В самом деле: тесный губернский городишко; каждый знает, что варится в котле у соседа, и все сплетни сосредоточиваются в полиции, а полиция может сделать запрос начальнику мужа, то есть Михаилу Евграфовичу.
— И делала?
Она улыбнулась и покачала головою.
— Ох, наверное делала. Наверное, он знал, что в Твери живет бывший политический преступник, каторжник, брат повешенного… И молчал. И покрывал. По крайней мере никогда ни единым словом он не дал ни мне, ни моему мужу, Федору Ильичу, понять, что знает…
Мать вся была под впечатлением газетного известия и нахлынувших воспоминаний. Она продолжала рассказывать без моей просьбы:
— Когда глупенькая дама жеманно закрывалась за обедом веером от «пронзительного» взгляда писателя, неподалеку раздался высокий капризный голос: «Ну да, конечно, он опишет, и так зло, так зло… Мишель, уж не отнекивайся». Это говорила молодая женщина, маленькая, необыкновенно красивая,— его жена.
Михаил Евграфович снисходительно улыбается, и строгое лицо его меняется: что-то нежное мелькает в проницательных глазах.
Я со страхом подумала: «Какую еще глупость выкинет эта обольстительница, которой великий сатирик прощает то, что никогда не простит другим?» Да, все, что выпаливает это миниатюрное, изящное создание, он относит к разряду милых детских наивностей… Я с трепетом ожидала, что еще изречет маленькая губернаторша… Но на этот раз все обошлось благополучно: ее отвлек сосед какой-то очередной любезностью.
— А она была очень красива?
— Это была одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречала. Из всех известных красавиц в памяти моей остались четыре: жена Пушкина, Анна Давыдовна Баратынская, рожденная княжна Абамелек, актриса Донова, впоследствии первая жена министра финансов Витте, и она. Жену Пушкина я видела уже пожилой; Анну Давыдовну Баратынскую никогда не забуду в ее блистательной красоте, недаром же Пушкин сказал про нее:
И вашей славою и вами, Как нянька старая, горжусь…
Донову я видела в горе, со слезами на глазах, и эти глаза с алмазами слез я не забуду никогда… Она была у меня в роли просительницы, и сердце разрывалось, что такая красота может так страдать… А эта не страдала. Эта была всегда торжествующей. Постой, я тебе покажу их карточки…
Она открыла альбом. Передо мною прекрасные женские лица: совершенная красота Баратынской с глазами мадонны, пламенная турчанка Донова и, наконец, точеная головка в рамке черных изящно причесанных волос над мраморным безмятежным лбом…
— Хороша? — спросила мать.— Но в жизни была еще лучше. Какие краски!
Я спросила, вспомнив еще один женский образ:
— А Анна Петровна Керн, вдохновительница Пушкина?
— Она даже жила у нас, но когда мы встретились, была уже пожилой женщиной и имела взрослого сына. Вот смотри: она в старости. Ни малейшего следа красоты, ничего не осталось, кроме самомнения.
Она указала мне на портрет старухи в кружевной наколке. Лицо ординарное, совсем непривлекательное. И рядом удивительно красивое личико жены Щедрина.
Припоминая, мать говорила тихо, задумчиво:
— Мы постоянно встречались с женою Михаила Евграфовича на разных вечерах и лотереях, в театре, в концертах, у знакомых. Я бывала у нее… Как сейчас помню: в гостиной на кушетке целыми днями валяется губернаторша, именно губернаторша, а не жена писателя, потому что называться «женою писателя» она стыдится, но с гордостью говорит, что она «жена хозяина губернии». Она лежит на кушетке в белом капоте из мяг кой шерстяной ткани, играет вышитой восточной туфелькой, показывая, что у нее крошечная детская нога. А над головою ее, на спинке кушетки, примостился белый с желтым хохлом какаду. Она говорит птице: «А ну, попочка, поцелуй меня… поцелуй!» Попугай целует, а визитеры умиляются: «Картина… настоящая картина!» И вдруг она разражается тирадой, полной негодования: «А я сегодня очень, очень зла на Мишеля. Он меня расстроил глупым разговором. Вообразите: заболел, я и говорю: «Мишель, ежели ты умрешь, где тебя хоронить?» И вдруг он мне: «Похоронишь на Волковом кладбище, где хоронят всех писателей». Подумайте только, что говорит! Губернатор, хорошей фамилии, и я буду его хоронить на Волковом кладбище, где хоронят всякого! Я ему, конечно, наотрез отказала: «Никогда этого не допущу для аристократа и губернатора, а похороню тебя или в Ново-Девичьем, или в Александро-Невской лавре». И даже расплакалась… Говорю: «Ты, Мишель, всегда этакое выдумаешь… Писатели… Фи! Это дурной тон… Надоел мне до смерти со своими писателями! Нет, вы только вообразите, ma chere,— обратилась она обиженно ко мне,— допущу ли я такие мещанские похороны? А сегодня Мишель объявил мне новость: «Хочешь, дорогая, поедем в Петербург?» Я, конечно, рада, теперь там разгар сезона, но ведь он сделает для меня эту поездку сущей мукой, заставит смертельно скучать со своими приятелями… Вы только подумайте: месяца два назад он так-то повез меня в Петербург и посадил в компанию своих… этих… писак… Я чуть не умерла с тоски… Говорили всё о книгах, о журналах, о философии, такая скука… И, натурально, у меня сделалась мигрень, и я была не в духе, а это никому не к лицу… Мне нельзя быть не к лицу… Я приехала в Петербург побывать в свете, обновить туалеты и повеселиться… Вы не знаете Мишеля… вы называете его гуманным, но в семейной жизни он ужасен… он не может быть внимательным к хорошеньким женщинам…» И она тут же стала смотреться в ручное зеркальце, улыбаясь своему отражению.
У меня невольно вырвалось:
— Как же она согласилась на погребение мужа на
кладбище. где хоронят «всякого»?
Мать молчала, погруженная в воспоминания…
close_page
ДВЕ ЖИЗНИ
Утро следующего дня была такое же ненастнее. На небе хмуро двигались тяжелые косматые тучи, рваные края которых громоздились один на другой, и тучи спускались все ниже и ниже, готовые обрушиться на землю. А земля была расхлябанная» развороченная, с лужами и мутью в канавах, с отвратительным запахом по глухим закоулкам столицы: Обводному каналу. Глазовой и Боровой улицам, ведущим к далекому Волкову кладбищу.
Мы ехали на извозчике мимо канала, на берегу которого возились оборванные ребятишки. Показались мастерские памятников. выстроившиеся в два ряда по сторонам кладбищенской улицы возле выставленных белых, серых и черных крестов и плит, белых ангелов и урн с плачущими фигурами в траурных покрывалах; запестрели развешенные гирлянды и венки; зачернел хвост по ха ранней процессии; послышался скорбный надев многотысячной толпы.
Замелькали синие околыши университетских фуражек, военные серебряными вензелями
шинели студентов-медиков, зеленые с погоны лесников… Студенты. студенты… В крепкие мужские голоса врывались звонкие, высокие голоса девушек:
Мы рассчитались с извозчиком и пристали к толпе. У ворот толпа смешалась и выкинула нас ближе к колеснице, иад которой колыхались пышные серебряные кисти балдахина. Здесь были уже иные фигуры: люди более зрелые, в штатском, часто в широкополых шляпах, какие тогда носили многие писатели; мелькнуло несколько обнаженных седых голов. И отдельной кучкой выделялись люди другого мира: светские знакомые, родня покойного…
Депутаты снимали венки с траурными лентами, надписи на которых говорили о великом таланте покойного; ветер шевелил концы лент, и фарфоровые цветы жалобно и нежно звенели…
Как-то случилось, что совсем близко, почти рядом с нами очутилась семья писателя. Маленькая пожилая женщина в глубоком элегантном трауре держится особняком, опираясь на руку похожего на нее лицеиста в треуголке и форме с красной выпушкой, очевидно сына. И рядом еще два-три таких же изящных лицеиста, блестя белоснежными перчатками, делают попытку снять венки. Я поняла, что эта маленькая женщина — вдова Щедрина, и внимательно вглядывалась в нее. Незначительное лицо в мелких морщинках,— вот все, что осталось от прежней красавицы…
— Она меня не узнает, а я не хочу восстанавливать знакомство. Наши дороги разошлись. Я теперь уже не вице-губернаторша, а жена твоего отца, актера. Но куда делась ее удивительная красота?
В шепоте матери — затаенная грусть. Она вспоминает старое, давно ушедшее время, и ей жаль молодости и жаль по-настоящему, по-хорошему того, кого сейчас опустят в сырую землю… Перед нею ярко встает картина его жизни, одиночество рядом с этой женщиной, бывшей возле него до последнего часа и такой чужой ему…
Дороги моей матери и этой дамы в трауре действительно разошлись. Ее сын учится в привилегированном учебном заведении, а дети моей матери пошли трудовой дорогой, полной лишений. Она сама живет в тесной, маленькой квартирке у зятя, зубного врача.
Если бы эта вдова в трауре узнала о таком превращении, она, наверное, сделала бы презрительную гримасу. Они посмотрели друг на друга; взгляд женщины в трауре не остановился на лице пожилой женщины, одетой в потертое драповое пальто.
Гроб понесли на руках, и снова зазвенели молодые голоса… Понесли не к Литературным мосткам, где похоронены Белинский, Добролюбов, Гаршин, Решетников я другие, а в центр кладбища, к церкви. Возле могилы Тургенева зияла черная яма, ожидая нового кладбищенского жильца.
Мы с матерью переглянулись и разом поняли, что, уступая желанию покойного, маленькая женщина согласилась похоронить его на этом Волковом кладбище, где хоронят «всякого», но с тем, чтобы он занял там привилегированное место, рядом с другим «болярином», аристократом по крови, Тургеневым.
Это пристанище оказалось, впрочем, временным: впоследствии прах Салтыкова-Щедрина все же был перенесен, как и прах Тургенева, на Литературные мостки, в ряд со всеми его товарищами по перу…
close_page
СТИПЕНДИАТ
И был опять апрель. Моя подруга Ариадна Максимова прибежала ко мне возбужденная, как всегда шумная и порывистая. Мы были тогда неразлучны, и нас называли «два Аякса». Мы переживали с нею все самые обыкновенные события очень бурно и принимали тотчас же самые неожиданные, скоропалительные решения, что называется очертя голову. Ее отец, относившийся ко мне очень сердечно, говаривал:
— Знаете, каждая из вас пусть себе живет и здравствует, с благословения всевышнего, только порознь. Ибо каждая из вас, сама по себе, славная девочка, а вместе вы смесь, не подходящая для палитры жизни, краски уж очень кричат.
Но «неподходящие краски» продолжали соединяться и «кричать».
В эту зиму я объявила Ариадне, что жить без цели, без служения идее — отвратительно и что, кроме того, необходимо изобрести цель — «самоотверженное служение ближнему».
Тряхнув головою, она серьезно спросила своим низким голосом:
— А в чем ты хочешь видеть это «самоотверженное служение ближнему»? Ты по Толстому рассуждаешь?
Мы только что прочли письмо Толстого к царю и запрещенную тогда цензурою «Крейцерсву сонату», которую добросовестно переписывали по ночам, как и все те, у кого был разборчивый почерк.
— И вовсе не по Толстому. Я не разделяю идеи «непротивления злу». И я увлекаюсь Желябовым и Перовской.
Ариадна была источником, который питал меня. Недавно она принесла мне «Что делать?» Чернышевского и «Процесс цареубийц», обе до невозможности истрепанные, зачитанные книжки; я их держала под тюфяком и читала по ночам. Я запальчиво бросила:
— Скорее ты толстовка. Помнишь, какую штуку выкинула на вторнике у Острогорских?
Она отвернулась и пожала плечами:
— Это мелочно, каждое лыко писать в строку! Какое же ты придумала «самоотверженное служение ближнему»?
Она сердилась, что я напомнила ей про ее экспансивную выходку на вечере у профессора Виктора Петровича Острогорского. Раздался резкий звонок, и когда дверь открыли, Ариадна влетела, как бомба, и, как была, в калошах и пальто, вся мокрая от снега, бросилась на диван и громогласно заявила: «Все мужчины подлецы! Я… я прочла «Крейцерову сонату!..»
— Ну, так какое ты придумала «самоотверженное служение ближнему»? — добивалась Ариадна.
— Мы с тобою можем выполнить задачу совместно: мы должны работать, чтобы содержать стипендиата—
И я посмотрела на нее победоносно.
Она вообще ничему не удивлялась. Если бы я ей сказала. что приглашаю ее взлететь на луну в ядре, наподобие «Путешествия на луну» Жюля Верна, она сейчас же простодушно спросила бы, хватит ли времени дать еще два-три урока ученикам.
Но тут вдруг по лицу ее мелькнула тень смущения, и мне стало стыдно.
Я жила дома весьма скромно, но все же имела стол и квартиру, а когда временами случалось достать работу, то могла купить себе кое-что из одежды. А у нее, я знаю, от недоедания началась цынга. Какое уж тут «самоотверженное служение ближнему»? Я могу ходить в рваных башмаках и деньги, назначенные на покупку новых, отдать «стипендиату», а она, что может отдать она,— не последний ли кусок хлеба?
Я сейчас же спохватилась:
— Стипендиата должна содержать я одна!
Она вспыхнула и горячо запротестовала:
— Ну, уж это, пожалуйста! И я должна принять участие!
— Ладно, по мере‘сил,— уступила я.
Тут мы скоро изобрели этого самого нашего стипендиата. Это был студент Лесного института Яков Сор- вин, и о нем мы узнали из газетного объявления, приблизительный текст которого был таков:
«Крайне нуждающийся студент Лесного института ищет занятий. Согласен на самые скромные условия». Что-то в этом роде.
Мы, «два Аякса», сейчас же отправились на поиски Якова Сорвина в один из переулков Выборгской стороны. Дома студента не застали и оставили ему записку в его крошечной убогой каморке, куда ввела нас хозяйка. Эта сердобольная женщина познакомила нас с горестным положением жильца, который «не каждый день обедает, и нечем ему платить за комнату, и при этом он очень скромный молодой человек, ни вином, ни табаком не занимается».
В назначенный день Яков Сорвин пришел ко мне познакомиться. Помню его, как сейчас, этого невзрачного, белесоватого и щуплого студента, с тем нездоровым цветом лица, который говорит о хроническом недоедании. Он, видимо, конфузился, неловко улыбался и не смотрел в глаза. Мы, перебивая друг друга, засыпали его вопросами:
— У вас совсем нет никаких занятий?
— Задолжали хозяйке? Когда кончился последний урок?
— Но сколько вам надо на жизнь?
— Во сколько вы определяете свой бюджет? — по- деловому, по-официальному спросила Ариадна, хмуря брови и стараясь придать голубым глазам необыкновенную строгость.
— Я думаю… требуется и на экстренные расходы… например, ремонт одежды… лекарство… доктор…
Я чувствовала, что краснею; у нашего «стипендиата» явно торчали пальцы в незаконные отдушины с боков ботинок, а отставшая подошва ощеривала зубы деревянных гвоздей.
Ариадна, вечно нуждавшаяся сама в существенном ремонте одежды, одернула меня, торопливо шепча:
— Это не так важно. Это не дело первой необходимости. Профессор Лесгафт говорит о самодеятельности; в крайнем случае можно истратиться только на нитки… на дратву и шило и самим чинить свое платье, штопать и делать заплатки на обувь.
Я не возражала. Профессор Лесгафт был для всей молодежи, окружающей меня, абсолютным авторитетом.
— Итак, во сколько вы определяете стипендию согласно вашему бюджету? — опять деловито спросила Ариадна.
Яков Сорвин замялся.
«Какой деликатный,— подумала я,— не хочет назначить слишком большую сумму».
— Сколько же? — настаивала Ариадна.
Студент усмехнулся. По лицу его пробежала тень. Он робко, сконфуженно протянул:
— В сущности ваше предложение стипендии… Я, конечно, вам очень благодарен…
Ариадна затрубила своим густым баском:
— Чепуха какая, нечего благодарить… просто товарищеская услуга… И мы вскладчину… вдвоем… Это не так трудно… это… это — дань посильного служения ближнему… то, что должен делать каждый человек, который не хочет жить, как животное…
Яков Сорвин посмотрел на Ариадну исподлобья, с едва заметною иронической улыбкою:
— Вы… вы толстовки?
Ариадна сама накануне задала мне этот вопрос, но теперь она возмутилась:
— Ничего подобного. Мы не разделяем принципа Льва Толстого — «непротивление злу». Мы признаем социальную борьбу и верим в победу.
У нее был очень гордый и внушительный вид.
Яков Сорвин. растягивал слова, как-то промямлил:
— Видите ли… я очень приветствую ваше желание мне помочь, но… но я должен в конце концов пока… оставить ИНСТИТУТ…
Ариадна удивленно пожала плечами и взглянула на меня.
— Оставить институт? Но зачем же, если вы будете обеспечены… обеспечены… стипендией…
Студент переминался с ноги на ногу.
— Видите ли… я получил известие, что мой отец очень болен… может быть, умирает… и я должен экстренно уехать… а там… там не знаю, что будет…
— Куда уехать?
— В Казань. И у меня нет ни копенки даже на билет… а кроме того, мне нужно расплатиться здесь… понадобится довольно большая сумма денег… и сейчас…
Наступило молчание. У нас не было ничего. Мы собирались только организовать дело со стипендией.
— А какова сумма? — осведомилась Ариадна.
Он назвал цифру. Помнится, что-то около ста рублей. Нам и не снилось никогда держать в руках такую сумму, Урок, который мне обещали, дал бы всего пятнадцать рублей в месяц, и, если бы я даже не тратила на себя ни одной копейки, экономя десять копеек в день на конке, больше этих пятнадцати рублей я не могла бы дать нашему стипендиату.
Я с отчаянием посмотрела на Ариадну.
— Ничего,— сказала она вдруг решительно,— вы подождите только дня два, и мы вам доставим… сколько можем… постараемся всю сумму…
Он ушел, горячо пожав нам руки.
— Ариадна, ты что, с ума сошла?
— Почему?
— Где же мы возьмем такие деньжищи?
— Да соберем. Вот для начала.
Она вынула из кошелька четыре рубля. На дне, я видела. осталась какая-то мелочь. Я знала: Ариадна будет голодать с неделю.
— Ты приходи к нам обедать,— предложила я.
— Ничего. В студенческих столовых за шесть копеек можно получить суп и кашу, а хлеб и квас не в счет, бесплатно ешь, сколько хочешь. Я эти дни роскошествовала: брала обеды за двадцать восемь копеек.
Она улыбалась своей широкой, открытой улыбкой.
Я порылась в шкафу, потом достала в комоде летнее пальто и старинный браслет, единственную свою драгоценность, доставшуюся мне в наследство от тетки.
— Мы их заложим,— сказала я.— Ты знаешь, как это делается? А получу деньги за урок, сразу выкуплю,— вот дома и не узнают.
— Значит, основа имеется.— отозвалась Ариадна.— Завертывай свой заклад в газету. Снесем в ломбард.
— Но этого мало. Ты только подумай: ему надо около ста рублей!
— Остальное соберем по подписному листу.
— У кого соберем?
— У писателей. Писатели отзывчивы и должны поддержать. Засодимского мы знаем. Он даст нам адреса других. Сейчас же начнем действовать.
close_page
У ПИСАТЕЛЕЙ
У нас был подписной лист с громким заголовком, взывающим о товарищеской помощи нуждающемуся представителю науки, у которого умирает в Казани отец.
Мы побывали в ломбарде, заложили мои вещи и прежде всего отправились к Засодимскому. Его жена встретила нас со вздохом. На ее розовом, свежем лице появилась, как нам казалось, снисходительная улыбка:
— И что вы только не придумаете, девочки! Собрать деньги неведомо кому и идти за ними к ч)’жим людям, которые вам могут не поверить и оскорбить вас?
— К пи-са-те-лям,— выразительно сказала я. возмущенная,— к цвету интеллигенции; кто же может поддержать молодежь, как не они?
Ариадна, одобрительно кивая, поддакивала:
— И не для кого-нибудь просим, а для нуждающегося студента… Если бы был жив Чернышевский, он бы отдал на это хорошее дело последний грош.
— Те-те-те…— с улыбкой остановил ее сам Засодимский.— Не так страстно. Вот вам для начала моя лепта.
Он положил на стол лист и расписался своим характерным почерком на подписном листе.
— Не срамись ты подписываться, Павел Владимирович,— остановила его жена.— Скажут: девчонки втянули в очередную глупость старого писателя.
— Пустяки! Дал бы больше, да у самого нет. Гонорара не получал давно. Издатели затягивают.
Его красивая голова с густыми и длинными серебряными волосами величаво выделялась на фоне дешевых обоев бедно обставленной квартиры. Невозможно было сомневаться, что он говорит правду. Взгляд его больших ясных глаз был спокоен и чист, как у ребенка. Бедность проглядывала здесь из каждого угла.
Александра Николаевна вздохнула:
— Да уж чего: за квартиру платим гроши, дворник же который раз приходит за деньгами. А он занимается филантропией!
Александра Николаевна всегда осаживала мужа, говоря, что нельзя быть слишком расточительным. Практичная, она по-своему охраняла его покой, пытаясь удержать от общественных забот.
Мы стоим перед дверью квартиры знаменитого публициста Николая Константиновича Михайловского, особенно популярного в среде молодежи.
Мы позвонили. Дверь открыл тощий, какой-то весь согнутый, точно складной, студент.
— Отец дома,— сказал он вяло,— сейчас проведу к нему. Курсистки? По общественному делу?
И через минуту:
— Проходите к отцу в кабинет.
Просторная комната с обыкновенной, но довольно комфортабельной обстановкой. Бюро у окна; слева — свет. За бюро стоит с пером в руке невысокий, гармонично сложенный человек средних лет, с тонкими чертами лица; весь облик его полон изящества. Ворох корректурных листов на бюро, и тут же рядом, с краю, большой кот, серый и пушистый, сидит, щуря зеленые глаза, и выводит самую заливчатую трель великолепного кошачьего мурлыканья.
Тонкая рука писателя тянется к нему; кот встает и, выгибая спину, трется мягкой мордочкой об эту руку; его Фиоритура слышна даже в соседней комнате.
На пороге — студент.
— Что-то он у тебя распелся, отец…
— Он напоминает, что мы с ним еще не кончили статью.
— Вот, не угодно ли,-— говорит студент,— отец всегда работает с этим Котофеичем. Сидит животина на бюро и поет, и будет петь и щуриться, пока отец не положит перо.
Сразу стало как-то просто от этого шутливого тона. Михайловский жмет нам руки.
— Прошу садиться… Что скажете хорошего?
У Ариадны лицо пылало от восторга. Она тяготела к народничеству, и Михайловский в ее глазах был окружен ореолом.
Путаясь и нелогично перескакивая с темы на тему, она рассказала все о нашем «стипендиате» и вытащила подписной лист, достаточно смятый в муфте.
Михайловский слушал с улыбкою, потом достал из бумажника деньги и протянул ей.
— Пожалуйста, распишитесь…— робко протянула
Ариадна.
— А это необходимо?
— Обязательно! Для отчетности.
— Для отчетности можно поставить NN.
— Нет, пожалуйста… ваше имя полностью…
— Тут надо понимать, отец, что твое имя привлечет больше жертвователей, как патока — пчел.
— Уж я и патокой стал! — засмеялся Михайловский, но взял перо и подписался.
Когда мы вышли, Ариадна взволнованно сказала:
— Подумай, мы получили автограф самого Михайловского.
И потом:
— Когда мы отдадим деньги Якову Сорвину, то поделим с тобою все автографы. За одного Михайловского я готова отдать тебе всех остальных!
Улицу за улицей отмеряем под дождем и попадаем па Николаевскую. Переходим на другую сторону и поднимаемся по широкой лестнице во второй этаж. На двери дощечка: «Игнатий Николаевич Потапенко».
Ариадна бубнит:
— Это тебе не фельетонист. Это тебе не нововремен- ский писака. Это тебе не кропатель исторических романов для «Родины». Это—автор «На действительной службе» и «Шестеро».
Она произносит все это значительно.
Мы тогда зачитывались повестями и рассказами Потапенко из духовного быта; герой его повести «На действительной службе» — идеальный деревенский священник, а его жена препятствует его благим начинаниям. Ариадна изрекла:
— Мура — это Александра Николаевна Засодимская. Вот муж ее — самоотверженное служение ближнему.
Я засмеялась.
— Как же это ты, друже, с одной стороны — народничество, с другой — идеальный священник?
Она фыркнула:
— Теперь не время спорить; слышишь, отпирают.
Горничная проводила нас сначала в залу, потом в кабинет к писателю.
Странное впечатление произвела на нас его квартира, должно быть очень большая, но пустая, беспорядочная и будто нежилая. Зал в несколько окон; по стенам — венские стулья.
Странный это кабинет. Письменный стол кая письменный стол, по стенам — открытые полки с книгами, как в библиотеках, только по всем этим полкам валяются дет
ские игрушки, женские перчатки, шляпка, вуаль; беспомощно раскинул руки с медными тарелками и улыбается дурацким липом из-под колпака с бубенцами. Предметы женского туалета и детские игрушки повсюду — на столе, стульях
Из-за стола к нам навстречу поднимается Потапенко. Небольшой, коренастый, с короткими черными волосами и умным смуглым лицом.
Ариадна берет слово и объясняет писателю • проект самоотверженного служения ближнему. Он слушает внимательно, и чуть заметная лукавая улыбка шевелит его полные губы, а глаза щурятся; вот-вот выпалит какую-нибудь украинскую занозистую шутку.
— Вам это более, чем кому-нибудь, понятно после вашей повести «На действительной службе»,— говорит Ариадна.
Губы писателя дергаются.
— Что-то, сколько помнится, у моего героя не было дела со стипендиатами-студентами. Що це таке?
И ткнул пальцем в лист.
Ариадна смотрела растерянно и переглядывалась со мной. Я думала: даст или откажет?
Но дверь внезапно открылась и в комнату шумно впорхнула девочка с куклой:
— Папка! Давай я поучу тебя с моей дочкой танцевать!
И виснет на шее у отца.
Мы встаем и мнемся. Даст или не даст?
Потапенко роется в боковых карманах.
— Вот и нашел,— говорит он с каким-то мальчишеским задором.— Ну, это ваше счастье… Нашли где шукать гроши — у Потапенко. Я в долгу как в шелку хронически. И долги за меня платят друзья… Вот вам лепта, не слишком большая, но иной я не имею. Добре, дивчата? Больше, пожалуй, нет во всем доме… Вот!
close_page
И протягивает рубль.
Девочка кричит:
— Папка, а на халву мне оставил?
Мы шагаем в районе Пантелеймоновской и Моховой улиц. Фешенебельный подъезд; дверь передней открывает горничная в наколке. Массивное зеркало, гобелены, ковры… В открытую дверь видно освещенную мягким светом комнату, видны цветы в вазах, слышатся голоса гостей, веселый смех…
Занавес из крупного разноцветного бисера и бус, прозрачная блестящая паутина, отделяющая гостиную от фонаря беседки, шевелится, слабо поблескивая; кто-то раздвигает ее руками, и в мягком голубом свете видны широкие лапы латании…
Через минуту хозяйка дома, шурша шелком нарядного платья, вырастает перед нами на пороге гостиной. Улыбаясь, она нежным голосом говорит:
— Курсистки? Разденьтесь, пожалуйста, войдите…
У нее прелестная улыбка, прелестное лицо, прелестные темные волосы и темные глаза, полные блеска; у нее грациозная фигура. Это — Мария Крестовская, дочь знаменитого автора «Петербургских трущоб», писательница и актриса.
— Студент? Нуждается? У меня сегодня собрались Друзья. Давайте сюда лист, это кстати…
В гостиной видны группы мужчин и женщин. Пьют чай за маленькими столиками. У раскрытого рояля зажигают свечи и разворачивают ноты. Кто-то собирается петь…
Подписной лист заходил по рукам. Замелькали знакомые по вечерам у Острогорских лица. Горбатый Коровяков — кумир учении школы выразительного чтения, окруженный молоденькими актрисами; длинноволосый, похожий на дьякона поэт Коринфский; четко вырисовывается библейский профиль поэта и переводчика Петра Исаевича Вейнберга; мелькнула гибкая фигура актрисы Мусиной, а рядом с нею актер Озаровский. Он что-то говорит о своей коллекции петровских и елизаветинских времен и о том, что ему обещали в Соляном городке отвести помещение под музей русского быта. Аккомпаниаторша уже взяла первый аккорд…
К Ариадне вернулся подписной лист и куча смятых бумажек, которые она беспомощно засовывает в муфту…
Я смотрела с интересом на красивую хозяйку дома; разве я могла подумать, что через несколько лет прочту в газетах печальную повесть об ее конце…
Зазвучали первые звуки рубинштейновского романса:
Вечерком гулять ходила Дочь султана молодая…
Мы пошли одеваться. В передней сильный звонок. Пение продолжается:
Я из дома бедных Азров, Полюбив, мы умираем…
Мы не сразу нашли галоши. И на момент нас приковал громкий голос:
— Вы слышали: Шелгунов умер. Завтра панихиды в десять утра и в восемь вечера. Послезавтра похороны.
— Воображаю, сколько будет народу!
— Необходимо позаботиться о венке от Литературного фонда.
Это говорит Вейнберг.
— Смотри, завтра у нас панихида, послезавтра похороны. А когда придет Яков Сорвин за деньгами?
Это уже голос Ариадны.
Мы даже не сговариваемся. Разве без нас могут обойтись хоть одни общественные похороны!
close_page
ОТ ПУТИЛОВЦЕВ… ПРОПУСТИТЕ, ТОВАРИЩИ
Мы собрали почти полностью сумму, которую назначил наш стипендиат. Мы сами занесли ему деньги чуть свет, и он сказал, что в тот же день уедет.
Каково же было наше разочарование, когда через неделю мы встретили его на Невском, спокойно шествующего с какой-то курсисткой. Они смеялись и весело болтали. Яков Сорвин сделал вид, что нас не узнал. Мы поняли, что были нагло обмануты.
Ариадна стала как вкопанная.
— Что же это… и Казань, и отец…
— Значит, все выдумал,— подхватила я.— Только рваные сапоги не выдумал,— видела: починил, а может, купил новые. И приоделся.
— Ну, что же, на его совести! — махнула рукою Ариадна.
Но я отклонилась от последовательного рассказа и вернусь несколько назад. Отдав деньги Якову Сорвину, мы отправились на панихиду по Шелгунове.
Имя Николая Васильевича Шелгунова в то время было очень популярно среди прогрессивной молодежи и рабочих. Реакция, власть Победоносцева загнали в подполье живую мысль, цензура опутала густою паутиной печать. Казалось, конца нет этому гнету. Общественные похороны были как бы отдушиной, в которую хоть ненадолго врывалось свободное слово. В похоронном пении молодых голосов был призыв к объединению вокруг дорогих вождей… И церковные напевы «Святый боже» и «Вечная память» часто переходили в революционный похоронный марш «Вы жертвою пали…», в «Варшавянку», в «Красное знамя», а то и в «Марсельезу». И тут же — речи. Горячая студенческая и рабочая молодежь готовилась к выступлению над могилою бойца, а случалось, говорили «очертя голову», экспромтом, и попадали с кладбища в «предварилку».
Правительство высылало наряды пешей и конной полиции, охранников, которые тайною цепью окружали про цессию, прислушивались я снимали Фотографии. Зачинщиков нередко ждало исключение из учебного заведения, сдача в солдаты, тюрьма и ссылка.
Эти панихиды и похороны в свое время сыграли большую роль в жизни революционном молодежи.— недаром же, как говорят, даже Александр III назвал их «смотром революционных сил».
В обычное время в среде радикальной молодежи было много разногласий, партийных противоречий. Вокруг гроба любимого писателя, представителя свободной мысли и слова, все это смолкло.
Н. В. Шелгунов в числе очень немногих тогдашних писателей-борцов пользовался заслуженной горячей любовью не только молодежи, но и сознательной части рабочих.
Маленькая тесная квартирка у Таврического сада.
Шли экзамены, но, несмотря на это, студенты толпами собирались у гроба писателя утром и вечером.
Когда явились мы с Ариадной, у ворот нам попались венки с черными лентами,— а красных тогда не было и помину. Ариадна возбужденно заговорила:
— И когда это только они успели? Ночью, наверно…
На лентах надписи: «Открывшему горизонты великан правды», «Ты будешь вечно жить в наших сердцах», еще. еще… С венками шли депутации от рабочих; в этом была уже что-то новое…
Мы протискались по узенькой лестнице. Какой-то студент, размахивая руками, агитировал, весь красный от волнения:
— В чем сила Шелгунова, товарищи? Чем он нам всем дорог? Много ли современных писателей решились возвысить свой голос до полных мощи нот. мужественно ободрить падающих, сказать тем. кто опустил руки, что мраку никогда, слышите, ни-когда не победить жизни?
— Правильно! — подхватили кругом голоса.
И сыпятся цитаты из статей покойного…
— От какой организации?—перебивает оратора звонкий голос.
— От путиловцев,— отвечают рабочие.— Пропустите, товарищи.
И огромный венок, шурша траурными лентами, поднимается все выше, выше по ступенькам лестницы.
«…в месте злачном, месте покойном»,— звучали слова старого священника в потрепанном, потускневшем облачении. Потом «вечная память», потом тушат свечи, и в душной комнате распространяется чад, смешиваясь с особенно резким в вечерние часы запахом цветов.
— Не открывайте окон и смотрите, чтобы цветы не касались лица, а то потемнеет…
— Завтра вынос ровно в девять. Организации должны быть раньше. Гроб понесем на руках до самого Волкова.
— А что Пашутин?
— Взгреет, понятно взгреет, под видом отеческого внушения.
И шепот:
— Что Пашутин? Как бы нас не разогнала полиция. Видели: везде шпики… вон… вон… так и шныряют…
— Пусть на здоровье шныряют! — громко и задорно прозвучал голос молоденькой курсистки.
Ответом был одобрительный гул голосов
В. В. Пашутин — начальник Военно-медицинской академии, а на этих похоронах студенты-медики играют роль первой скрипки.
— Завтра я приду за тобою ровно в восемь,— говорит Ариадна.
close_page
ПОХОРОНЫ
Невозможно было пробраться сквозь густую толпу, переполнившую шелгуновскую квартиру, лестницу, двор и даже улицу уже с самого раннего утра.
Мы с Ариадной ждали выноса на улице. Из раскрытых дверей вырывались торжественные, за душу хватающие звуки:
— Свя-а-тый бо-о-же…
Показался гроб на руках студентов. Мелькнуло красное взволнованное лицо пристава. Он протискивался к несшим гроб, и мы услышали его взволнованный голос:
— Прошу поставить гроб на катафалк… господа студенты, прошу…
— Мы понесем на руках!—слышались протесты.
Пристав закричал:
— Я не могу этого допустить! У меня распоряжение господина градоначальника… Я, наконец, требую, чтобы гроб был поставлен!
Гроб колыхался на руках студентов; его продолжали нести, не обращая внимания на требования пристава.
— Цепь! Цепь! Не пускайте фараонов!
— Начинается,— довольным голосом вскрикнула
Ариадна,— становись в цепь!
И потащила меня за руку, увертываясь от городовых. Мы мужественно пробивались вперед, иногда пролезая под руками блюстителей порядка; невдалеке звучал разъ яренный голос пристава и звучало одно и то же слово, произносимое с бешенством:
— Не до-пу-щу1
Из толпы прорывались крики, улюлюканье.
— Гони к дьяволу фараонов!
— Долой «не пущать»!
И громкий крик:
— Господа! Николай Константинович Михайловский просит поставить гроб на катафалк.
— Кто бы ни просил!
Завязался спор. Завязалась борьба. Городовые старались вырвать гроб у студентов. Из группы писателей раздались негодующие голоса:
— Какое безобразие! У гроба драка!
— Пустите вдову покойного!
Толпа расступилась, пропуская к гробу Шелгунову. Она что-то говорила, но мы не могли разобрать.
Напрягая слух, я разобрала, наконец, последние слова:
— Пожалуйста… на катафалк…
— Она просит поставить гроб на катафалк,— слышалось кругом.
— Смотри, смотри, толпа разбирает венки,— гудела Ариадна.— Давай возьмем понесем и мы!
Я не любила быть на виду и решительно запротестовала:
— Оставь, пожалуйста… Куда мы пойдем?
— Пока ты повернешься, всюду опоздаешь… Вон, вон, видишь?
Чтобы поставить гроб на катафалк, надо было очистить для него место, занятое горою венков, переполнявших и тележку, специально для них предназначенную.
Неожиданно на катафалк вскочила маленькая подвижная фигурка какой-то девушки. Через минуту в руках ее был венок. Черные ленты развевались в воздухе; крупная надпись кричала: «Поборнику демократических идеалов от сознательных рабочих Путиловского завода».
— Она что-то говорит! Тс!
Звонкий голос. Высоко поднимая над толпой венок, девушка кричала:
— Товарищи! Если нам не дают нести тело Шелгунова, так понесем венки!
А молодежь уже облепила катафалк, разбирая венки. Гроб был водружен на катафалк.
В рядах полиции и конных жандармов чувствовалась растерянность. Ариадна шептала мне в самое ухо:
— Ты посмотри только на шпиков… вон как они заметались… точно потревоженные тараканы… вон тот вас с тобою хочет съесть глазами… видит, что я… что я… едва могу удержаться от смеха… Этакая сволочь! Ну, любуйся, если мы тебе так понравились!
Ее захватило общее настроение, оно передавалось и мне.
Десятитысячная толпа двигалась густыми волнами во Таврической улице, влилась на Воскресенский проспит. Над головами, на фоне яркого солнечного света и лазури, пестрели огромные венки, развевая по ветру концы лент—
— Святым боже… святый крепкий… святый бессмертный…
Студент-медик дирижировал фуражкой.
У Ариадны хороший голос, и он ярко, красиво выделяется из хора. Лицо ее пылает…
Что происходит? Рядом слышу окрик проскакавшего конного жандарма:
— Противоправительственный акт!
Шпики зашныряли снова, как тараканы. В чем этот «противоправительственный акт», мы тогда не поняли, до нас долетели голоса шарахающихся на тротуары прохожих обывателей:
— Ишь студенты бунтуют!
— И полиции нс одолеть…
Неподалеку надрывался пристав:
— Венки нести запрещено! Положите их обратно на катафалк! Похоронные демонстрации запрещены!
Процессия сворачивала с Кирочной на Литейный.
Пристав продолжал надрываться; слышались отдельные слова:
— Господа студенты… лозунги… венки… по главным улицам… не полагается…
Но толпа не слушала
Яркое солнце. Море голов. Катафалк. И без конца венки. И ленты, как знамена… И молодые голоса…
На Литейном известный дом Победоносцева. По чьей- то «бунтарской» команде процессия останавливается и, по примеру служения литии православными, чтобы осмеять эту опору трона, раздается своя «лития»:
— Со святыми упокой…
Студент-дирижер неистово машет фуражкой…
Кресты, плиты, памятники, ангелы, плачущие вдовы в покрывалах, сломанные якоря — эмблема разбитых надежд, гранитные постаменты… Катафалк останавливается. Снова я у ворот Волкова кладбища.
Один из студентов рядом говорит:
— Вышли в девять утра, а теперь—три часа дня…
Гроб снят с катафалка. Несут. Знакомые мостки. Многие из здесь присутствующих были три месяца назад на этих мостках на традиционной панихиде по поэту Надсону. Его бронзовый бюст с высоко поднятой головой, вдохновенная работа Антокольского, смотрит с пьедестала…
Вот она, приготовленная могила.
— Вечная память! Ве-еч-ная па-а-мять!
Голоса усталые, но все еще звонкие… Потом речи.
— Станем ближе. Павел Владимирович говорит. Слушайте, товарищи! Слушайте!
Кто это призывает к порядку? Может быть, Ариадна, может, та девушка, что первая подняла венок от путиловцев? Все слилось воедино…
Красивая, сильная голова Засодимского высоко над толпой. Мы лезем на фундамент ограды, чтобы лучше видеть и слышать… Что он говорит? Пожалуй, ничего нового, но он попал в русло; голос его дрожит от волнения; речь ложится в душу. Да, да, конечно, Шелгунов умер, но Шелгунов жив; борьба за светлое будущее бессмертна, и оно придет, это светлое будущее…
Возле нас стройная фигура студента Судакова. Это студент умеренный, но все же передовой человек: в гимназии он даже был одно время в кружке с Александром Ильичем Ульяновым и с Генераловым, казненными царским правительством за покушение на Александра III, и незадолго до ареста Генералова с ним виделся.
Молоденькая девушка, несшая венок путиловцев, вся в слезах, шепчет Судакову:
— Шелгунов будет жить вечно в нашем сердце…
Гроб засыпан землею и горою венков. Толпа хлынула по мосткам, останавливаясь у могил любимых писателей.
Над каждой могилой была пропета «вечная память».
close_page
ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО
У входа затор. Полиция окружила группу писателей; до нас долетели спорящие голоса: тихий голос Михайловского и того, который только что довел слушателей до слез,— голос Засодимского. Сквозь решетку ограды была видна фигура пристава, но слов разобрать мы не могли.
— Арестовывают! — пронеслось в рядах молодежи-
— Кого? Кого?
— Сажают в карету…
На момент мелькнуло серебро знакомой головы и исчезло; колеса кареты загромыхали по мостовой.
Толпа вырвалась наружу.
— Вы видели: и Михайловского… их двух…
— Но почему обоих?
Вопросы сыпались перекрестным огнем, как и ответы:
— Зачем? Почему? Куда?
— Товарищи! Мы подслушали: их сейчас же отправляют поездом на высылку в Любань.
Шпики шныряли в толпе, высматривая и вынюхивая.
— Тепленько…— предупреждали друг друга студенты, когда замечали, что шпик приближается к какой- нибудь группе разговаривающих.
— Горит! — когда шпик был уже совсем близко.
Смеялись… Это были слова детской игры в прятки.
— Отвернитесь, коллега, снимают…
Многие замечали движение замаскированного фотографического аппарата. Где-то близко я услышала харак терное щелканье такого же аппарата, но не заметила, в чьих он был руках.
Рядом группа медиков переговаривалась в ожидании конки, которая не могла вместить всех желающих.
— Видели доктора Назаревского? На посту… наверное тоже щелкает фотографическим аппаратом…
— Этакая сволочь… зато, наверное, вместе с благодарностью Пашутина получит орденок или повышение.
— Здесь много штаб-офицеров, желающих выслужиться! Пашутин сумел организовать в академии сыск…
Я узнала голос Судакова. Кто-то ему говорит:
Ты, Иван Васильич, пожалуй, попал на заметку.
— Пристав видел меня. Я пробовал нести гроб, и штаб-офицеры это подтвердят, даром что меня в академии знают как «умеренного».
Студенты смеялись:
— Бывает, что и умеренность не спасает…
Штаб-офицеры в академии были то же, что суб-инспекторы в университете, только обладали большими правами, чем последние.
Помните, товарищи, как за панихиду по Чернышевскому у нас из академии уволили всех курсовых старост?— напомнил один из студентов.— И нас Пашутин не погладит по головке…
— Э. будь что будет!
— Слушай,— сказала я тихо Ариадне,— мы тут стоим в ожидании конки, а в это время дома у Засодимского и У Михайловского ничего не знают об их аресте… Надо бы предупредить…
— Знаешь что? Наймем извозчика…
— А деньги у тебя есть?
— А у тебя?
Я заглянула в кошелек. Была какая-то пустяковая мелочь. Да и извозчика поблизости нет.
— У меня осталось только на конку.— пробормотала Ариадна сконфуженно и сейчас же нашлась: — может быть, занять у Судакова?
Но Судакова и след простыл.
— Пойдем и мы пока что пешком, а набредем на конку — сядем,— предложила я.
— Ладно. Все-таки выиграем время.
Нам и в голову не приходило, как мучительно сейчас брести в разные концы города: к Михайловскому — в район Кабинетской и Загородного, к Засодимскому — в район Фурштадтской и Воскресенского, а потом домой, Ариадне — на Петербургскую сторону, мне — на Пушкинскую улицу. Ведь мы на ногах с самого раннего утра, а теперь пять часов, и шли до кладбища по вешней жаре больше шести часов!
— Идем… Сначала к Засодимским,— решительно объявила Ариадна.
Она открыла нам сама, эта вечно спокойная, полная, уравновешенная Александра Николаевна.
— А Павел Владимирович еще не вернулся.
Мы молчали и переминались с ноги на ногу.
— Что-нибудь случилось?
Я сказала, невольно приняв извиняющийся тон:
— Страшного ничего… просто маленькое недоразумение… выяснится, непременно выяснится…
— Попал в участок?
— Видите,— выпалила Ариадна,— их обоих с Михайловским выслали в Любань. Но это ничего; это же совсем близко.
Розовое лицо Засодимской сохранило обычное спокойствие.
— Я так и знала. Он хотел говорить на могиле.
— И без речи упекли бы! — злобно отозвалась Ариадна.— Фараоны так и рыскали, а шпики с аппаратами всюду.
— Я так и знала. Хорошо, что вы зашли. Теперь главное свезти Павлу Владимировичу денег, белья и кое- чего из вещей. И сына Михайловского надо известить.
— Мы сейчас туда! —крикнула Ариадна.
У Михайловского нам открыл сын. Он был в этот день нездоров и потому не пошел на похороны.
— Мы с кладбища,— объявила сразу Ариадна.
Она была того мнения, что все нужно говорить сразу, не скрывая. Он догадался и тоже сразу спросил:
— Отец арестован?
— Вместе с Засодимским.
— Придется поискать его по участкам.
Он что-то обдумывал, и его тощее длинное тело, похожее на складной аршин, как-то все сгорбилось, сжалось.
— А мне твоя прогулка обошлась в сто рублей,— добавил он.
Я ничего не понимала. Потом медленно выдавила из себя:
— Разве… разве кто-нибудь искал меня?
Он засмеялся, показывая два ряда чудесных белых зубов, такую удачную естественную рекламу зубного врача.
— Что ж, ты думаешь, я весь квартал нанял разыскивать «шелгуновку»?
Я вздрогнула. Так окрестили горячих приверженцев покойного публициста, собиравших ему на венок. Откуда он знает и это? А, наверное, был кто-нибудь у него на приеме из знакомых студентов.
— Какой-нибудь студент тебе насплетничал?—передернула я плечами.
— Может быть, он был сегодня и студентом, потому что он одевается, смотря по обстоятельствам.— отозвался зять.
— Да кто он-то?
Зять продолжал строго:
— В охранном отделении имеются студенческие мундиры, фраки, военные шинели, зипуны и лохмотья бродяг и нищих. Так вот у меня, в числе моих пациентов, есть такой «студент на время». Не знаю, как он был сегодня одет на Волковом кладбище, но, по заданию охранки, явился на похороны с фотографическим аппаратом и снял в процессии тебя с твоей сумасшедшей Ариадной. Я видел: с восторженной физиономией, с широко раскрытым ртом, упоена «вечной памятью», а рядом ты.
Я отвернулась.
— Что, не нравится? А мне нравилось исправлять твои глупости?
Он смотрел на меня вызывающе.
— Но я поправил дело, купил ваши вдохновенные физиономии ровно за сто рублей,— как раз цена заказа на полные искусственные челюсти! Немножко дорогонько, по-моему. Знаменитые фотографы — Левицкий и Шапиро. Деньер и Бергамаско, берут от двенадцати до двадцати рублей за полдюжины, а я заплатил сто за один скверненький снимок.
— Ничего не понимаю…
— И понимать нечего. Пришел ко мне этот пациент, который меняет свою внешность, сообразно обстоятельствам, по закону охранной мимикрии, показал фотографию, а я пригласил его, по случаю моего… кажется, рождения, в ресторан «Медведь»… Вот тут-то он меня сразу понял,— в таких случаях эти мимикрирующие очень понятливы,— и когда мы в отдельном кабинете спрыснули покойника, подарил мне на память «двух Аяксов», причем, охмелев, лез целоваться и уверял в своей неизменной дружбе и в том, что он мне может,— тут зять запнулся,— подарить фотографии… пикантнее… а «двух барышень- шелгуновок» лучше сейчас же разбить и забыть о неудачном снимке… Мы тут же и уничтожили негатив. Вот и все. Из этого ты должна понять, что попросту я тебя спас от ареста. А многие теперь поплатятся за прогулку на Волково кладбище.
Зять сказал правду: последователь закона мимикрии «честно» сдержал слово—не оставил никаких следов «двух Аяксов» в процессии шелгуновских похорон. Под пьяную руку он сболтнул зятю в ресторане, что в этот день не только полиция, но и высшие «сферы» растерялись, столкнувшись с организованною «дерзостью» демонстрантов, и оттого демонстрацию не успели пресечь в самом начале…
И на другой день зять возвратился к своему разговору с охранником, снова позвав меня в кабинет. Зять опять рисовал сцену своей «покупки» фотографии, рассказывал, как он говорил шпику, что удивляется его попустительству. Я же ясно видела угодливое выражение лица маленького, непременно маленького человечка, видела, как он, хихикая, отвечал, подмигивая:
— А это наш прием…
— Какой прием?
— Да попустительство. И в охранке у нас толкуют: как этакие тысячи демократии распустишь, а она прет и прет, без стеснения, вы думаете, «там» не возьмет сомнение?
— Где «там»?
— В «сферах». И станет им ясно, что для спокойствия государства российского и престола мы мы — охранное отделение, ну, понятно, и впридачу к полиции. Без нас не сохранить модержавие…
Передо мною ярко вставало противное лицо со шел ками хитрых глаз, лысая голова, склоненная над недопи1 тыми лафитниками, и захлебывающийся шепот:
— Мы опора трона…
И уже совсем тихо:
А что вы думаете? У нас высшие чины намекали, что если бы не мы, то бунтарская гидра из пустяковой демонстрации могла бы разрастись до настоящей революции…Ведь рабочих всколыхнули… подумайте: пу-ти-лов- цев «Зато сколько арестов!
— В «сферах». И станет им ясно, что для спокойствия государства российского и престола мы мы — охранное отделение, ну, понятно, и впридачу к полиции. Без нас не сохранить модержавие…
Передо мною ярко вставало противное лицо со шел ками хитрых глаз, лысая голова, склоненная над недопи1 тыми лафитниками, и захлебывающийся шепот:
— Мы опора трона…
И уже совсем тихо:
А что вы думаете? У нас высшие чины намекали, что если бы не мы, то бунтарская гидра из пустяковой демонстрации могла бы разрастись до настоящей революции…Ведь рабочих всколыхнули… подумайте: пу-ти-лов- цев «Зато сколько арестов!
Арестов было действительно много. В то время у меня больше всего было знакомых среди студенчества: знала , медиков и лесников, но совсем не имела связей с рабочими.
Говорили об арестах в Технологическом институте, есном, говорили о массе исключенных и высланных.
Студенты-медики рассказывали подробности о расправе с демонстрантами в Военно-медицинской академии, ачальник ашутин ретиво производил чистку, и «шел- уновцам» пришлось лихо. Пашутин требовал отчасти истосердечного сознания самих участников похорон, говорил, что, по сообщению шпиков, активистов — сорок человек, что они будут сданы в солдаты, но за чистосердечное признание наказание облегчат.
ашутин сыграл в этой истории недостойную роль, ывшии популярный либеральный профессор Казанского университета, знаменитый своими трудами по общей патологии, Пашутин во время шелгуновской демонстрации струсил и пустил в ход сыск.
Студенты не поверили его сладким обещаниям и на сходках выработали единую форму показаний о своей роли на похоронах. Он допрашивал их в кабинете поодиночке, но «чистосердечия» не добился. В числе допраши ваемых был и Судаков. При каждом слове Пашутин напоминал об угрозе военного министра Ванновского сдать виновных в солдаты.
Солдатчина, без права производства, была страшна, особенно для близких к выпуску. Началась агитация — пойти на компромисс, и некоторые студенты сломились, стали уговаривать товарищей сдаться на милость победителей. Начался ряд бурных сходок… В конце концов большинство капитулировало и изменило показания…
Непреклонных «шелгуновцев» из всей массы медиков оказалось немного.
История кончилась тем, что непреклонные были исключены, а отрекшиеся посажены на гауптвахту.
close_page
В. А. МАНАССЕИН
Полянка, окруженная соснами. Под ногами хрустит серый мох, а по кочкам краснеют, как рассыпанные красные бусинки, ягоды брусники. Мы с маленькой дочкой убежали сюда, как только услышали, что приехал урядник.
Это — дачная местность, недалеко от Луги, и сюда я уехала, чтобы скрыть свои следы. Теперь это покажется дико-смешным, но тогда на этой почве творилось много трагедий. Тогда муж имел право требовать жену по этапу, если она не хочет к нему ехать по доброй воле; это предстояло и мне, и я пряталась здесь, в маленьком выселке, среди леса. Паспорт, выданный мне мужем всего на полгода, кончался; новый он наотрез отказался мне выдать.
Теперь урядник, наверное, приехал проверить, получила ли я продление паспорта… Надо выждать, пока он уедет, и тогда обдумать, что делать.
Дочка сидела, прижавшись ко мне, и смотрела немного исподлобья своими темными, будто все понимающими глазами, и голосок у нее был тревожный.
Мое настроение передается и ей. Наконец, слышен колокольчик отъезжающей тележки урядника: он звенит все глуше, глуше и замирает у околицы. Наверное, уехал… Я еще немного выжидаю, потом поднимаюсь с лужайки.
Теплые детские руки обвились вокруг шеи; девочка задремала у меня на груди. Она вздрогнула и открыла глаза, полные неосознанного страха.
— Не бойся, девочка; сегодня же пойдем с тобою к одному дяде…
Вопросительный детский взгляд.
— Не к уряднику, не бойся… Я никому тебя не отдам…
Через два часа мы с дочкой в деревне Шалово, близ Луги, в трех верстах от наших Средних Крупелей на озере. С трудом добираемся до дачи профессора Вячеслава Авксентьевича Манассеина. Идти с двухлетней девочкой трудно: приходится ее временами тащить на руках, а у меня сил немного, все время прихварываю.
Манассеин — председатель Литературного фонда, начальник Военно-медицинской академии, громкое научное имя. У него большие связи, как у брата бывшего министра юстиции. Но, главное, он «друг человечества», редкий по душевным качествам человек. Я давно о нем слышала, и мне советовали в крайнюю минуту обратиться к нему за помощью.
Вячеслав Авксентьевич на даче отдыхает, но он сейчас же соглашается меня принять.
Помню просторные, удивительно чистые, залитые солнцем комнаты, кабинет с простой дачной мебелью и множеством книг, торопливые, легкие шаги, и на пороге он сам, в серой военной тужурке, в домашних мягких туфлях. Небольшая худощавая фигура; тонкое, красивое лицо, обрамленное седеющей бородой и густыми седеющими волосами, одному ему свойственная особая мягкая улыбка и пристальный добрый взгляд небольших темноголубых глаз.
Он сразу берет чудесно простой тон:
— Успели до дождя добраться? Не промокли? Смотрите, какой заколотил крупный дождик. Откуда шли? От Крупелей? Девочка-то небось устала, да и вы мне что-то не нравитесь. Сядьте, отдохните. Быть может, дождь сразу не пройдет, а девочке не должно быть скучно. Я ее сведу к жене.
Странно, точно всю жизнь знала этого человека, точно изо дня в день улыбались мне его глаза.
Как странно, он сам точно угадывает, в какой жизненный капкан я попала. Я рассказываю ему просто, без утайки, как бежала от преследований полиции в Дериг, как меня там скрывали студенты, а я, чтобы избежать встречи с вокзальными жандармами, прежде чем поезд остановился, прыгала с ребенком на ходу, и теперь живу здесь, боясь урядника.
Он слушает внимательно, и теплом синеет его понимающий взгляд. Он тихонько кивает головою во время моего рассказа:
— Так, так… с урядником все устроится… Вы напишите прошение на предмет отдельного вида на жительство и принесите мне; я его сам передам, куда следует. Сестры градоначальника — мои пациентки; они поговорят с братом, а ежели в это время к вам забредет урядник, пришлите этого стража порядка ко мне; я надену на себя все ордена и предстану перед ним во всеоружии: профессор, начальник Военно-медицинской академии, брат министра и чином тайный советник.— значит, фигура внушительная сам по себе для полицейского крючка.
Я собралась уходить. Он остановил:
— Погодите, пока не забыл: где учились? Чем занимались? Чем хотите заниматься? Ну, профессия ваша, кроме того, что вы напечатали несколько рассказов в детских журналах и выпустили книжечку по детской самодеятельности?
— Я кончила Фребелевские педагогические курсы и занималась с детьми.
— Хорошо, хорошо… Если будут уроки, возьмете?
— С удовольствием…
— А пока надо серьезно полечиться. Я напишу о вас одному специалисту, приятелю, прекрасному человеку. Он вас примет, и, пожалуйста, не вздумайте его обижать платой: мы с ним денег не берем, и он только оскорбится. Вот вам его адрес в Петербурге, здесь дни и часы приема. А теперь, кажется, дождь прошел,— в наших местах такая почва, что сразу делается сухо. Я сейчас приведу к вам дочку, а завтра вы снова пожалуйте ко мне с прошением о паспорте.
Он вышел и через минуту привел мне за руку дочку. Она шла весело, неся в передничке разные разности: были тут и картинки, и печенье, и шоколад.
— Тетя дала,— сказала девочка улыбаясь.
— Она недурно провела время у моей жены. Вот этой радости мы с нею лишены — детей!
Прошение было написано и отнесено; приехавший еще раз урядник угомонился, как только я ему сказала, что его хочет видеть Манассеин; надевал ли профессор все ордена, чтобы припугнуть блюстителя закона, не знаю, но я доживала лето спокойно.
Через некоторое время мои друзья, соседи по даче, принесли мне номер газеты «Врач», редактором которой был Вячеслав Авксентьевич, и я увидела в ней объявление: «Детская писательница, опытная фребеличка, ищет занятий с детьми, согласна на место корректора или секретаря редакции». Что-то в этом роде. А еще через некоторое время я неожиданно получила пятьдесят рублен из Литературного фонда как бессрочную ссуду, пересланную по ходатайству председателя В. А. Манасссина, без всякой моей просьбы. Это была сумма по тогдашнему времени значительная, а для меня, в моем положении, особенно значительная.
Рядом, на даче, заболела маленькая дочка моей приятельницы, и я побежала в Шалово к Маиассеину.
К нам вышла горничная и заявила, что «профессор принимают ванну, сегодня ни в коем случае поехать не решатся, как сказали их супруга, а завтра, если будет сносная погода, вероятно, приедут».
А погода, как назло, становилась все хуже и хуже; стало холодно, в окна хлестал совсем осенний дождь, небо было сплошь облачное…
Я вернулась в самом унылом настроении. Дома нашла приятельницу в слезах: у девочки сразу скакнула вверх температура…
Мы сидели и рассуждали, куда бы послать за доктором. В это время раздался заливчатый лай крупельских собак, грохот колес, и к даче подкатила двухколесная тележка. В ней, согнувшись, весь уйдя в воротник шинели, скорчился Манассеин; слабым голосом, едва различимым сквозь вой ветра, он спрашивал фамилию заболевшей девочки.
Он вошел, как-то виновато улыбаясь, и просто сказал с порога:
— Немножко задержался, простите. Домашние все отговаривали меня ехать сразу после ванны,— говорят, стар становлюсь, но это вздор, я совсем здоров, а тут, может быть, дело, не терпящее отлагательства. Я же доктор; этим все сказано. Давайте сюда больную.
Он даже привез с собою на всякий случай и лекарств, этот большой человек, имя которого было известно далеко за пределами родины.
Конечно, ни о каком гонораре он не хотел и слышать.
Когда девочка выздоровела, она вылепила из глины немудреное пресс-папье «грибы в лесу», раскрасила их и послала доктору.
Ко мне Вячеслав Авксентьевич продолжал относиться очень заботливо. По его требованию я, вернувшись в Петербург, обратилась к врачу-специалисту, у которого нашла самое внимательное отношение,— к Дмитрию Адриановичу Паришеву.
Говорили, что Вячеслав Авксентьевич интересуется женским движением с юных лет, что в ранней молодости он фиктивно женился на совсем не интересной ему девушке только ради того, чтобы дать ей возможность учиться и вырвать из рук семьи домостроевского закала; потом он женился на любимой женщине.
Зима. Пока тянется разбор моего дела об отдельном паспорте, я живу по отсрочкам из полиции, возобновляемым каждые три месяца, и усиленно лечусь и у Паришева и у Манассеина.
Вечер. Просторный кабинет в доме на Выборгской стороне, на Симбирской улице. Кабинет слабо освещен лампой с низко спущенным зеленым абажуром. Вячеслав Авксентьевич держит больных очень долго, и со мною в приемной ожидает очереди немало скромных фигур в платочках, в блузах и косоворотках. Я прислушиваюсь к их разговорам:
— И-и, мать моя, да нешто это простой доктор? Это ж чело-ве-ко-лю-бец! Не глядит, как кто одет, а сам все выспросит: и как живешь, и что ешь, и какая квартира… На одежу не глядит…
— Нет, глядит,— перебивает другая так же плохо одетая пациентка,— да еще как глядит,— каждого из нас в переднюю провожает,— посмотрит, кто в каком платье уходит, не скрыл ли свою нужду…
Студент, улыбаясь, присоединяет свой голос:
— Я, видите ли,— говорит он мне,— начинающий… рассказика два напечатали… ну, профессор проводил меня; не понравилось ему мое пальто на рыбьем меху… Смотрю, а во «Враче» объявление… ну, и получил урок, а тут и рассказик он мой еще пристроил; теперь же чинит то, что натворила раньше нужда: плеврит, бронхит, ну, всякое этакое… до чахотки не хочет допустить…
Манассеин пошел проводить и меня, чтобы посмотреть, есть ли у меня теплая шуба, вручив рецепт, читая который, в аптеке улыбались: рецепт был написан по-русски; оказалось, Манассеин всегда писал рецепты не по- латыни, а по-русски.
В передней он вспомнил:
— Вам надо непременно познакомиться с Марией Валентиновной Ватсону это очень, очень хороший человек и мой большой друг; это, знаете, та добрая душа, на руках которой умер молодой поэт Надсон. Она — литератор и вам будет хорошим другом. Я ей о вас скажу; она вас позовет к себе письмом. Вам нужно иметь друга одной с вами профессии.
Через несколько дней я получила письмо от Ватсон.
С Вячеславом Авксентьевичем я виделась редко. Меня лечил его приятель. Впрочем, через три года мне снова пришлось столкнуться с бесконечным вниманием и самоотверженностью этого «человеколюбца».
Я заболела тяжелой формой перитонита, и на пороге у меня точно выросла знакомая маленькая фигура Манас сеина. Я была при смерти и только благодаря ему выкарабкалась.
Через четыре года этого удивительного человека не стало.
Я в то время лежала в больнице и только что начала вставать, как газеты принесли весть о кончине В. А. Ма- нассеина. Это было так ужасно сознавать, что его уже нет… Я просила врача:
— Мне очень хочется с ним проститься…
И мне помогло необыкновенное обаяние этого человека. Случилось небывалое: лечащий врач разрешил свезти меня прямо с больничной койки на похороны.
Хочется попутно вспомнить добрым словом этого врача. Его фамилия Почебут. Он настолько чутко, не по- казенному подходил к больным, что одной нуждающейся женщине, подписывая больничный лист, прописал в рубрике лекарств не более, не менее как овчинный тулуп, который ей и был выдан при выходе из больницы.
Было морозно; голова сильно кружилась после долгого лежанья; поездка на извозчике на Симбирскую улицу казалась бесконечной.
Но мне удалось увидеть в последний раз чудесное, спокойное лицо с кротко опущенными веками, гроб, весь в цветах, окруженный плачущими, искренне огорченными людьми. Венки, венки; мелькают ордена официальных лиц и рядом платочки, картузы, заплатанные локти, потертые пальто и жалкие кацавейки. Молодые опечаленные студенческие лица… Скольким из них этот навсегда замолчавший человек выхлопотал стипендий, достал заработка, за скольких заступился перед начальством, скольких освободил из-под ареста, вызволил из ссылки…
Я опустилась на колени, услышав скорбную «вечную память».
Вечная память тебе, большое человеческое сердце!
close_page
ПАМЯТИ ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ ВЕЛИЧКИНОЙ
Чтобы рассказать а встречал с этим чудесным человеком. приходится еще раз заглянуть в далекое прошлое.
Шестьдесят лет назад, когда мне было двадцать лет и я делала свои первые шаги в литературе, выпустив не сколько рассказов и маленькую детскую книжку по самодеятельности, профессор Виктор Петрович Острогорский предложил мне работать для организовывавшегося «Критического указателя детской и народной литературы». Дело интересное, для меня новое, а потому страшное:
я никогда не писала рецензий, а тут еще приходилось работать об руку с известными писателями, профессорами, педагогами; во главе их стоял Николай Александрович Рубакин. Кружок работников для указателя—«Кружок библиографии», как называли мы его.—обосновался при журнале «Детское чтение» в 1893 году. Журнал изда
вался тогда Яковом Васильевичем Борисовым, бывшим народным учителем, и редактировался Петром Васильевичем Голяховским, тоже народным учителем. Борисову пришлось скоро из-за долгов продать журнал московскому общественному деятелю и педагогу Дмитрию Ивановичу Тихомирову. Коллектив остался без пристанища в без главы, Борисов уехал в Москву одним из редакторов громадного издательства И. Д. Сытина» Рубакин ото шел. Без базы, без руководства члены разбрелись. Казалось, «Кружок библиографии» умер.
Кто были его члены? Я могу назвать только некоторых: несколько учителей, из которых назову Ивана Степановича Петрова, опытного библиографа, и старика Налимова, помещавшего от времени до времени коротенькие заметки в педагогических журналах, несколько популяризаторов — Сергей Александрович Порецкий, Евгений Иванович Чижов и Александр Павлович Нечаев, несколько учительниц — дебютанток в литературе, редактор Петр Васильевич Голяховский и Елизавета Яковлевна Острогорская, начинавшая писать статьи по естествознанию.
Однако кружок кое-как собирался и пристраивался к тому или иному периодическому изданию или издательству. Так прошло несколько лет…
Я тогда с утра до вечера была пригвождена к письменному столу и отрывалась от механической работы — переписки под диктовку — только раз в две недели. Раз в две недели видела симпатичных людей, говоривших о творчестве, обсуждавших прочитанное, и эти маленькие собрания отрывали меня от трудных будней.
Тогда в России еще не было в ходу пишущих машинок; все переписывалось от руки, даже документы. У меня был разборчивый почерк; еще в тринадцать лет я состояла присяжной переписчицей ролей в Псковском театре, где был режиссером мой отец, а в эти девяностые годы прошлого века я с утра до ночи, «без выходных» писала под диктовку геолога-географа Александра Павловича Нечаева, члена нашего библиографического кружка. Работа спешная, напряженная, часто слишком специальная, с математическими формулами, причем Нечаев порой, увлекаясь, брал в руки первый попавшийся предмет, иногда даже мою голову и говорил с самозабвением:
— Здесь, следовательно, имеется кристалл, который под скрещенными николями… Не шевелитесь!.. Если провести вертикальную линию… Пожалуйста, не шевелитесь! Форма параллелограмма…
И дальше шли математические формулы под диктовку, без права переспросить: каждый вопрос вызывал взрыв возмущения.
Так я писала под диктовку целые толстенные томы специальных руководств, из которых двухтомник «Кристаллографии» Грота был труден даже студентам.
Понятно, как радовали меня после этого неосмысленного, напряженного труда встречи с живыми людьми в кружке.
Вот первое воспоминание, связанное с кружком: комфортабельная комната в казенной квартире артиллерийского полковника Алексея Николаевича Альмедингена на Захарьевской улице. Альмединген — издатель-редактор «Воспитания и обучения» и «Родника». По-своему он любил дело и имел некоторый вкус и навык, держась направления «умеренного либерализма».
Благодушный хозяин придал нашим собраниям у него своеобразный интимный характер, перезнакомив со всеми членами семьи и рекомендовав в кружок свою дочь и помощницу Наталью Алексеевну.
Год за годом… Кружок не развалился; напротив, сильно разросся к тому времени, когда Вера Михайловна Величкина стала в нем активно участвовать.
Появившись в кружке, среди группы, весьма пестрой по своему направлению, Вера Михайловна привлекла к себе внимание. Для некоторых из нас она была окружена ореолом «политического героизма», если можно так выразиться. Было известно, что ее муж посажен в Кресты. Этот арест не остановил деятельности Веры Михайловны, она продолжала работать и в нашем кружке, всегда ровная, спокойная. Помнится, это она помогла моему сотрудничеству в газете «Вятский край», где я короткое время помещала популярные очерки о промыслах нашей страны.
В конце 1907 года был выпущен из Крестов В. Д. Бонч-Бруевич и сейчас же принялся за организацию нового издательства «Жизнь и знание», ученым секретарем которого стала Вера Михайловна.
Она приходила в кружок бодрая, деятельная, светилась надеждами на будущее, связанными с развитием нового дела.
Ее миниатюрная фигура, с лицом, обрамленным тем ными гладко причесанными волосами, милая, застенчивая улыбка и как будто во что-то внимательно всматривающиеся близорукие глаза, неторопливая речь, простая и ясная, и благородная скромность в каждом движении обращали на себя внимание, особенно рядом с крупной фигурой О. И. Капицы, говорившей густым голосом, уверенно и немногословно, и с державшейся как-то особняком, горделиво О. В. Пассек.
Простота, мягкость и какая-то особенная девическая скромность были во всем облике Веры Михайловны, даже в ее речи с чуть неправильным произношением,— во всем было что-то удивительно подкупающее. Она напоминала тех милых девушек шестидесятых годов, которые ради просвещения народа уходили в глушь деревни.
Вера Михайловна писала рецензии главным образом на книжки, предназначенные для народных библиотек, и книжки по природоведению. Впервые мы разговорились по поводу работы Налимова.
Это был больной старый человек, писавший когда-то немало статей в педагогических журналах, кажется, бывший тоже народным учителем, теперь отставший от века. Впрочем, он часто верно оценивал книги, писал дельные рецензии, но невероятно тяжелым, суконным языком, с длиннейшими периодами. Сам он на собрания не являлся из-за старости и недугов, а рецензии присылал со старушкой сестрой на обрывках серой бумаги, обложках тетрадок, написанные неразборчивым витиеватым почерком. Впоследствии мне пришлось как-то быть у него на квартире, и я увидела, в какой тяжелой обстановке жил этот человек и как дорожил он и каждым заработанным рублем и тем, что участвует в коллективе.
Как-то на одном собрании был поднят вопрос о неудачных рецензиях Налимова в кружке. Заговорил, сколько помню, педагог Петров. Альмединген как-то сконфуженно пробормотал:
— Если таково будет мнение большинства о старом сотруднике педагогических журналов и, в частности, «Воспитания и обучения»…— и замолчал.
И вдруг тихий голос Веры Михайловны:
— А что, если поговорить с самим Налимовым?
В ответ — фырканье желчного Петрова:
— Да разве у нас школа для рецензентов? И потом у Налимова свое самолюбие… и потом… многие из нас егс и в глаза не видали…
Вера Михайловна не сдавалась. Все так же тихо, спокойно, но твердо опа настаивала:
— Но ведь суть-то у него не вызывает возражения?
В принципе он прав. Все дело в форме.
Петров развел руками.
-— Недостает, чтобы мы делали классное переложение писаний старого литератора!
И снова спокойный голос:
— Тут, по-моему, нечему удивляться. Это просто — редактирование, а почему нам не редактировать друг друга?
Ольга Иеронимовна Капица попробовала деликатно напомнить:
— Но ведь это будет уже не его рецензия, а изложение ее, которое может даже иной раз изменить характер, усилить или ослабить критику…
-— И этого не приходится пугаться,— стояла на своем Вера Михайловна,— ведь так часто делает Короленко в «Русском богатстве». Иногда он совсем перерабатывает статьи.
Мне показалось, что Вере Михайловне известны условия жизни старого, доживающего, может быть, последние годы Налимова, когда-то видного рецензента и педагога, что она считается и с его самолюбием.
И я подала голос:
— Если надо упростить рецензии Налимова, то я берусь это сделать.
Мои слова были встречены смехом:
— Упростить… скорее перелицевать!
Засмеялась и Вера Михайловна:
— Ну что же, пусть и «перелицевать» — слово нестрашное.
— Недаром Маргарита Владимировна выбирает для рецензий заведомо плохие книги — ей не привыкать к балласту! — вставил Петров.
Вера Михайловна укоризненно посмотрела на маленького тщедушного человека с болезненно-желтым лицом и усмехнулась:
— А вот тут Маргарита Владимировна сделает исключение и возьмет не плохую, а дельную рецензию.
Эти слова положили конец спорам.
В кружке я действительно старалась брать на рецензии заведомо плохие книжки, которых большинство товарищей избегало, и делала это с тайной целью: учиться, как не надо писать.
С тех пор все работы Налимова, после прочтения и обсуждения на заседании, поступали ко мне, и я их переводила на язык, не вызывавший нареканий. Автор был доволен, видя свою фамилию под рецензией, напечатанной в «Воспитании и обучении», и получая оплату, хотя, сказать правду, совершенно мизерную, но удивлялся, не узнавая в рецензии своего стиля. Дипломатичный Аль- мединген, впрочем, нашел несколько успокоительное объяснение: таковы, мол, требования коллективной работы, чтобы не было разнобоя, и требования цензуры. Цензура — слово, перед которым приходилось смиряться…
Альмединген задумал упрочить положение нашего кружка, а кстати сделать это и для своего журнала. Во время одного из собраний он заявил:
— Предлагается нам быть одной из секций Педагогического музея военно-учебных заведений в Соляном городке— «Секцией библиографии детской и народной литературы»— и собираться в здании музея, как и теперь, раз в две недели.
После его уверений, что мы будем в этом учреждении так же свободны, как были до сих пор, мы выразили свое согласие и даже благодарность.
И вот мы в Соляном городке, в здании, где проходят научные доклады, собеседования и публичные лекции лучших профессоров, собираемся раз в две недели за длинным зеленым столом.
Ох, этот длинный зеленый стол, казалось, одним ви дом своего казенного сукна замораживающий свободную мысль! Мы сразу почувствовали к нему вражду. Началось с того, что возле стола, сбоку, на стуле около стены, появилась незнакомая фигура в мундире Министерства просвещения. Это был автор известной всем книжки народных присловии, прибауток и присказок для детей, изящного «подарочного» издания,— Иван Иванович Феоктистов. Он появился внезапно, без просьбы ознакомиться с нашей работой и тут же заявил:
— Предлагается секции выбрать председателем Алексея Николаевича Альмедингена.
Альмедннген смотрел именинником и раскланялся с улыбкой на румяном благодушном лице. Мы опешили… Собрание было скомкано; уходили домой возмущенные. Дорогой Вера Михайловна взволнованно говорила:
— Недаром мы все ежились от зеленого сукна. При таких условиях вряд ли кому захочется работать: сегодня нам навяжут председателя, завтра заставят по указке министерства высказывать свои мнения.
Она говорила горячо, негодуя. И. С. Петров, преподаватель учительской семинарии, сказал, чуть посмеиваясь:
— Вот что значит не иметь связи с чиновничеством! Мы. учителя, знаем, что такое Министерство народного просвещения и цензура.— часто приходится скрепя сердце подчиняться даже тому, что тебя возмущает. У Веры Михайловны, по-моему, в медицинском ведомстве куда свободнее. А Вера Михайловна непримиримая, социал-демократка, марксистка!
Мы скоро узнали, что такое подчинение Министерству народного просвещения. Феоктистову было поручено следить за нами, и на следующем же собрании он обнаружил свои полномочия.
При чтении одной рецензии речь зашла о крепостном праве и о вынужденных революционным движением кургузых реформах Александра II, а затем и о судьбе последнего. Феоктистов немедля вмешался:
— Просьба в стенах музея не касаться некоторых во просов. К сожалению, сейчас здесь мелькнули имена и упоминания об исторических событиях, о которых рассуждать и которые критиковать не следует…
— Это о Халтурине и Перовской? — насмешливо отозвалась Вера Михайловна.
Все рассмеялись. Раздался звонок председателя.
— Время собрания истекает, господа, и я попрошу собрание перейти к вопросу о регламенте следующего дня и дать мне заранее разметку, кто какие взял для рецензирования книги.
Дипломатичный Альмединген замял столкновение с министерским чиновником.
Но Альмединген в сущности не спас положения. Выйдя на улицу, мы возмущенно говорили между собой:
— Скоро нам будут приказывать, что и как рецензировать!
— Отряхнем прах от ног своих!
— А жаль кружка!
— Надо было этого ожидать от министерства…
— Надо было ожидать этого и от дипломатии полковника артиллерии Альмедиигена!
— Зачем он нас устроил в музей? Как было хорошо, когда мы собирались у него: он не решался нас останавливать…
Одинокий голос Ольги Владимировны Пассек остался без поддержки:
— Господа, нельзя же так сразу поставить крест на хорошем начинании! В самом деле, есть темы, которые запрещены цензурой, я это хорошо знаю, и их следует обходить…
Она это хорошо знала от отчима, министра юстиции Манухина.
И вдруг непривычно резкие слова в устах деликатной, тихой женщины:
— Что касается меня, то меня не будет за этим зеленым столом и я не буду работать в присутствии навязанного председателя и чиновника от министерства!
Вера Михайловна повернулась и, ни с кем не простившись, в сетке падающего снега побежала, чтобы вскочить на ходу в проходившую конку.
И я молча повернула на набережную Фонтанки, зная, что тоже не перешагну порога музея, н чувствуя обиду за разрушение хорошего дела: ведь наш кружок был первым в России коллективом критиков детской и народной литературы после указателей X. Д. Алчевской «Что читать народу».
Некоторое время нам посылали повестки, но на собрания являлось все меньше н меньше членов, и скоро существование секции прекратилось.
Кружок замер… А дело было хорошо пошло! Книг получалось достаточно; мест, где можно было печататься, хоть отбавляй: наши рецензии помещались не только в особом отделе «Воспитания и обучения», но и в других журналах, так как традиция была прочная.
Некоторое время еще допечатывались наши работы, а когда им пришел конец, дело стало. Скоро умер и Аль- мединген.
К этому времени нам удалось выпустить несколько брошюрок наших рецензий под заглавием «Критический указатель детской и народной литературы». Брошюрки были нужные, доступные по содержанию, языку и цене,— они продавались по тридцать копеек и раскупались нарасхват. Неужели бросить начатое?
Я, как один из старых членов кружка, связанный с многими литературными организациями, решила действовать. Выбор мой остановился на скромном издании Александры Николаевны Пешковой-Толиверовой, где я давно работала.
Александра Николаевна с радостью согласилась сделать свой журнал «На помощь матерям» базой для нашего кружка, причем нам не возбранялось печататься одновременно и в других изданиях, а также выпускать брошюры «Критического указателя».
Собрались маленькой основной группой; мной был выдвинут проект собираться по очереди друг у друга; его одобрили.
Таких мест, удобных для собраний, оказалось несколько. Я взялась вести переговоры о печатании рецензий в журналах.

С фотографии 1918 г.
Помню, как в первый раз я пришла в этот дом, сыгравший большую роль в моей жизни.
Квартира Бонч-Бруевичей была, сколько я помню, просторная и какая-то пустоватая- Точно только что переехали и не успели обзавестись обстановкой. Впрочем,
было все необходимое, но ничего лишнего. Мне думается, что хозяин этой квартиры В. Д. Бонч-Бруевич находил что картины хороших художников должны украшать стены музеев, а не частных лиц. Но зато было много шкафов с хорошими книгами.
Здесь я встретила в первый раз поэта Демьяна Бедного, басни и стихи которого Владимир Дмитриевич в то время пропагандировал. Демьян Бедный произвел на меня впечатление веселого, грубоватого человека с необычайно образной, красивой русской речью. В разговоре со мной он сразу установил простой, почти дружеский тон, узнав, что я принадлежу к одной с ним литературной корпорации.
Вера Михайловна свела меня к своей дочке Леле. Девочка ложилась спать, мать пришла с нею попрощаться. Тоненькая девочка лет семи обвила руками шею матери, прижалась к ней всем телом; Вера Михайловна с рассеянной, какой-то мечтательной улыбкой гладила темную головку с заплетенной на ночь косичкой, что-то торопливо обещала, и в ее ласковых словах сквозили грустные нотки…
Страстно любя дочь, она не могла отдавать ей много времени: заработок и нелегальная партийная работа отвлекали ее от дома.
Мы договорились с Владимиром Дмитриевичем о печатании в «Жизни и знании» моих сочинений и сговорились с Верой Михайловной о доставке книг издательства в наш кружок.
Грянула война. Война породила и в нашем кружке новые настроения и размышления. В обществе выявлялось два типа людей, по-разному относившихся к войне. Одни, захлебываясь, говорили о могуществе России и ее победах и сентиментально сюсюкали о наших героях — «солдатиках», даже восхищались тем, что императрица с дочерьми, надев косынки сестер милосердия, не гнушались будто бы делать перевязки «милым солдатикам». Другие резко отрицательно относились к шовинизму.
В нашем кружке на отношения к войне сходились принадлежавшие к разным общественным кругам женщины: О. В. Пассек н Евгения Егоровна Соловьева, обе известные но педагогической деятельности.
Ольга Владимировна выспренне рассказывала:
— Понимаете, она, своими руками, не привыкшими ни к какой работе, не гнушается перевязывать самые гнойные раны!
Вера Михайловна точно ушатом холодной воды обливает О. В. Пассек с ее восторгами:
— Как не допустить императрицу?
Это такал честь
— Для ухода за ранеными надо ксе-что уметь, и пло
хая, неумелая перевязка часто может принести не пользу, а вред. Спросите-ка у Александры Николаевны, сколько она училась, прежде чем работать среди гарибальдийцев.
Хозяйка дома, боявшаяся конфликта между гостями, мягко сказала:
— Но ведь мы не знаем.— вероятно, и императрица с дочерьми училась перед началом работы в госпитале.
— Конечно! Конечно! — подхватила Е. Е. Соловьева.— А главное здесь — внимание к человеку, чуткое отношение к герою. Вчера я была в одном госпитале и вот что видела собственными глазами: там солдатикам хо
тели создать такую, знаете, домашнюю атмосферу… прислушиваясь к индивидуальным желаниям раненых, иногда даже капризам: им принесли сардинок и домашних тянучек.
Бывший здесь ветеринар Н. Е. Ельманов расхохотался:
— И у них сразу закрылись раны!
Евгения Егоровна обиженно отвернулась.
Вера Михайловна смеялась одними глазами. Она смотрела пристально на Стефанию Степановну Караске- вич-Ющенко.
— А что вы скажете, Стефания Степановна?
У Караскевич-Ющенко— строгое лицо со сдвинутыми бровями. В глазах— горькая дума. Она только что отправила сына-студента в действующую армию и теперь сказала твердо:
— Надо вести войну до победного конца, непременно до победного конца, чтобы наши дети вернулись победителями…— и отвернулась.
Меньше чем через год она получила известие, что сын ее убит в одном из кровопролитных неудачных боев; его смерть сразила ее.
Наступило неловкое молчание. Его нарушил знакомый тихий голос:
— Надо кончать войну. Надо перестать лить кровь… Какие там Дарданеллы! А мне пора, господа… Я теперь вряд ли скоро смогу присутствовать на собрании. Вот оставляю книги и рецензии. На меня не рассчитывайте.
Вера Михайловна ушла и на следующих собраниях не появлялась…
И вот весна, и приезд Ленина… Я слушала выступления Ленина на митингах в Морском корпусе и на Пути- ловском заводе; его выступления потрясли меня. Я прониклась правдой Ленина и сразу же начала работать с большевиками. Мне поручили редактировать солдатские письма для газет Военной организации большевиков. Это было в мае 1917 года — незабвенное для меня время!
О своей работе в газетах «военки» я расскажу в следующей главе; сейчас же, вспоминая Веру Михайловну, хочу выразить ей свою благодарность: у меня не было марксистской подготовки, и я сильно сомневалась, справлюсь ли с порученным мне делом. Вера Михайловна поддерживала: «Справитесь». Она говорила:
— Нужно редактировать письма, написанные малограмотными людьми, но от чистого сердца. Нужно к ним бережно относиться, иной раз они бывают удивительные по глубине, если вдуматься в них…
Несколько месяцев спустя мне предложили взять на себя обязанности секретаря «Солдатской правды», а когда организуют газету для деревни — «Деревенскую бедноту», то и «Деревенской бедноты».
И снова я усомнилась, хватит ли знаний и уменья. И вновь меня поддержали, укрепили веру в свои силы в доме Бонч-Бруевичей.
— Да разве я могу быть секретарем? — вырвалось у меня с отчаянием в беседе с Верой Михайловной.
— А почему нет? — спокойно возразила она.— Подвойский видел вашу работу и остался ею доволен.
— Но я не понимаю даже, что должен делать секретарь?
— Все. У Подвойского все, но это не так страшно, нужно только хотеть.
Вера Михайловна добавила:
— Скоро будете работать в лучшем помещении и вместе со мной…
Накануне октябрьского восстания редакция «Солдатской правды» и «Деревенской бедноты», и я с нею, перебралась в Смольный. В комнате третьего этажа я наскоро устраивала новое «рабочее место» и вдруг слышу знакомый голос:
\— Вот мы снова вместе, бок о бок работаем!
Оборачиваюсь — Вера Михайловна! Усталое бледное лицо со слегка прищуренными глазами, улыбается.
— И Владимир Дмитриевич тут же, за перегородкой. Слышите его голос? — говорит она…
Нам недолго пришлось работать бок о бок. А вскоре меня горестно поразила весть о болезни и кончине Веры Михайловны. Она умерла от свирепствовавшей тогда «испанки».
Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич в одном из писем ко мне дополнил недосказанное о последних днях прекрасной жизни В. М. Величкиной. Привожу этот рассказ:
«Вера Михайловна так неожиданно, так внезапно скончалась от этой проклятой испанки, заразившись от пришедшей к нам на квартиру больной уборщицы, у которой оказалась температура 40°. Она не могла сама идти домой, меня не было дома, а Вера Михайловна, констатировав у нее воспаление легких, сама повела ее длинными коридорами домой. Больная изнемогала. Она положила голову на плечо Веры Михайловны, и та еле-еле ее вела. Больная порывисто дышала прямо в лицо Веры Михайловны. Никто не помог из встречных ее вести. Вера Михайловна вернулась домой, обтерла лицо одеколоном, но испанка была ужасно заразительна: через два дня она заболела. Температура 39. А в Наркомпросе ее ожидали с делами (в отделе здравоохранения); она поехала туда, подписала чеки для провинциальных ассигнований на питание детей и поехала в Совнарком, где должна была добиться получения больших ассигнований для питания и одеяния голодающих детей как Москвы, так и всей РСФСР.
…Выйдя из заседания, Вера Михайловна шаталась. Лицо ее пылало, жар, очевидно, повысился, и я с трудом ее отвел домой. Погода была резкая, холодная, морозная, ветреная. Пыль клубилась по площади Кремля, засыпая глаза. Дома мы уложили Веру Михайловну в постель, но она, положив лед на голову, потребовала сейчас же вызвать к себе главного бухгалтера отдела и своих помощников и заставила их сейчас же разассигновать всю отпущенную большую сумму, в несколько десятков миллионов рублей, выписать всем чеки и до тех пор не успокоилась, пока не подписала все чеки: их была целая куча.
— Ну, теперь могу умереть спокойно,— вдруг тихо сказала она,— все дети будут накормлены, согреты, одеты,— и впала в полузабытье, иногда открывала глаза и делала еще дополнительные распоряжения по своему отделу. В этот же день испанкой заболели Леля и ее няня. Пришлось лечить троих и за троими ухаживать. Вера Михайловна. как самая слабая, через три дня скончалась. Лелю и няню с трудом удалось отходить…»
Весть о кончине Веры Михайловны глубокой болью отозвалась в моем сердце. Я пошла проститься с милым человеком, сыгравшим короткую, но значительную роль в моей жизни.
Кремль. Знакомый длинный коридор Кавалерского корпуса. Знакомая квартира… И незнакомый предмет — гроб, а в гробу Вера Михайловна — милый друг…
close_page
В РЕДАКЦИИ «СОЛДАТСКОЙ ПРАВДЫ» И «ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ»
Я СЛУШАЮ ЛЕНИНА
Я хочу закончить свои воспоминания рассказом о своей работе в большевистской печати в первые годы Октябрьской революции. Эта работа и связанные с нею незабываемые встречи озарили последний этап моего жизненного пути.
Много лет я была дружна с революционным студенчеством Горного института; у меня на квартире происходили студенческие собрания; я прятала прокламации, целый год у меня скрывался сподвижник лейтенанта Шмидта — матрос Фесенко.
Когда я вечеру 9 января возмущенные рабочие стали строить баррикады на Васильевском острове, я всем существом потянулась к мим — я была на баррикадах.
В конце 1905 годя у меня на квартире составлялся первый номер большевистской газеты «Молодая Россия, помню, что ближайшее участие принимали тогда М. Горький, А. В Луначарский, М. С. Ольминский. Номер газеты оказался единственным и конфискованным. Тем не менее я, к сожалению, прямого, деятельного участия в революционном движении не принимала.
В 1917 году один знакомый студент-горняк Глеб Иванович Бокии предложил мне пойти послу тать выступление Ленина на митинге в Морском корпусе.
Этот день определил мою дальнейшую дорогу.
Помню, как сейчас, все моменты знаменательного для меня вечера.
Люди тянутся гуськом по набережной Васильевского острова, возле старого здания Морского корпуса. Несколько месяцев назад сюда входили только чистенькие кадеты, лощеные гардемарины и элегантные морские офицеры: чтобы учиться в Морском корпусе, надо было быть непременно дворянином. Теперь сюда свободно шли рабочие, навсегда выставив дворянчиков из пожелтевшего здания.
Тщательная проверка пропусков. Кто? Зачем? От кого получили пропуск?
В огромном конференц-зале так тесно, что трудно шевельнуться. Воздух скоро делается тяжелым, густым: слабо светят в тумане человеческого дыхания огоньки люстр.
Я оглядываюсь; мне кажется, что я одна женщина- интеллигентка в массе рабочих… Я стараюсь освоиться, но вот внимание привлекает шум; толпа расступается; к трибуне идут два человека: один невысокий, плотный, коренастый, в кепке; у него маленькая рыжеватая бородка и слегка прищуренные глаза. Я успела рассмотреть, что глаза — зоркие и словно смеются,— Ленин. Другой — выше, с продолговатым лицом, блондин; говорит сильно на «о» — Н. И. Подвойский.
Ленин быстро, почти стремительно поднимается на трибуну. Гром аплодисментов.
Как ясно, как просто и убедительно говорит он. говорит о войне, о братании на фронте, и я ловлю себя на мысли: «Как же все люди не видят гнусных целен империалистической войны?» Перерыв. Ленину неистово аплодируют.
Вносят на руках обрубок человека — безногого солдата. Он протягивает георгиевский крест, единственную ценность, которую он может пожертвовать на фронтовую газету «Солдатская правда».
Сбор идет по всему залу. Вокруг инвалида группа, расспрашивающая его о фронте. По рукам ходят свеже отпечатанные экземпляры «Солдатской правды». Гул, веселый, бодрый гул. Около Подвойского толпа: он разъясняет ленинский доклад, голос его раскатывается своим округлым «о».
Снова движение в толпе, и снова на трибуне Ленин — такой ясный и уже такой близкий человек.
Он заканчивает речь среди шумных оваций, которые сливаются с торжественными звуками «Интернационала». В первый раз я слышала, как рабочие поют «Интернационал». До сих пор помню впечатление, какое произвело на меня это мощное пение: оно подхватило меня, вовлекло в рабочую массу, смущение мое мгновенно прошло. Я пела со всеми и чувствовала неразрывную связь с этой массой, чувствовала веру в человека, которого только что, в первый раз в жизни, услышала и которому светло и радостно— я видела это — верили рабочие…
Толпа выплеснула меня из зала на улицу. Мы шли и пели. Все пели, и это пение объединяло…
close_page
ВО ДВОРЦЕ КШЕСИНСКОЙ
И потому нет ничего удивительного, что я очутилась во дворце Кшесинской, где обосновались в то время большевики. Это случилось после того, как я передала нескольким знакомым партийцам (в том числе и Вере Михайловне Бонч-Бруевич) свои впечатления от митинга в Морском корпусе. Г. И. Бокий, бывший тогда секретарем Петроградского комитета партии, предложил мне помочь работникам большевистской печати в редактировании солдатских писем для газет.
— Ровно в пять будьте во дворце Кшесинской. Второй этаж. Петроградский комитет партии.
Квадратная комната в два окна. Стены обтянуты светлой бумажной материей с цветочками; такой же материей обита модернистская мебель и ширмы с медальонами из кусочков зеркала. По стенам жиденькие рамочки с полочками и с пошленькими цветными эстампами: пейзажи с заходящим пурпурным солнцем и морские виды с пару сами — обстановка, рисующая быт прима-балерины, возлюбленной Николая II. Дешевка. Безвкусица. Но здесь никто не обращает на обстановку внимания, здесь идет большая работа, идет с напряжением всех сил. За одним столом, справа от двери, секретарь ПК Г. И. Бокий выдает рабочим партийные билеты и беседует с ними. Над столом краткая надпись: «Рукопожатия отменяются».
Налево, за другим столом, над тазом склонились две женские фигуры: худенькая блондинка с бледным тонким лицом — Нина Августовна Подвойская и еще одна девушка— тоже Нина (фамилии не помню). Они моют типографский шрифт и перекидываются негромкими фразами.
Я жду, пока освободится Бокий. Входит женщина с рассеянным взглядом близоруких выпуклых глаз и с застенчивыми движениями. У нее мягкость в голосе и во взгляде и во всем облике — скромность: простая блузка, старенькая шляпа полумужского фасона, дешевые прюнелевые ботинки.
С нею здороваются.
— Надежда Константиновна…
Так вот она, Крупская, жена Ленина…
Бокий освободился, ведет меня в комнату, занимаемую Военной организацией. Я заметила: в комнате Петроградского комитета во всем педантичная аккуратность, здесь — нечто хаотическое: стопки газет, груды газет, они всюду — на столах и мягких пуфах, на стульях, просто на полу. И рукописи, часто конверты, надписанные разными корявыми почерками, каракульками, какими пишут малограмотные люди.
Обо мне здесь уже знают. Ко мне подходит белокурый молодой человек в военной форме — заместитель Н. И. Подвойского.
— Механошин,— рекомендуется он и сразу приступает к делу.
— Вот вам солдатские и крестьянские письма, просмотрите. На первый раз хватит этой пачки.
— Что с ними делать?
— Нам для газеты «Солдатская правда» нужен, материал. Письма масс — это база газеты, основной ее фонд. Отредактируйте, но помните, что нам дорог не только смысл, но и самый стиль, а потому подходите к работе осторожно, берегите, по возможности, каждое слово. Нам нужно поставить отдел переписки с читателями,— это лучшая агитация, потому что она опирается на голос самих масс.
Я сунула в портфель пачку писем.
— Принесите отработанные как можно скорее.
— Конечно, конечно, я долго не задержу.
Я ушла, торопливо спустилась по мраморной лестнице.
Вечер. Ночь. Голубая майская ночь. Я сижу, как пригвожденная к столу. Передо мной мелькают, нижутся кривые и косые буквы, часто написанные такими бледными чернилами, что их трудно разобрать, часто нацарапанные чуть заметно карандашом. Иногда в письме трудно уловить какую-либо мысль. Но едва ли не в каждом— крик наболевшего сердца. Некоторые письма написаны деревенскими или фронтовыми борзописцами, витиевато, с росчерками, авторы расхваливают большевиков.
Из-за стилистических завитушек бьет горячей струей один и тот же крик:
— Долой войну! Больше нет сил терпеть! Хотим новой жизни!..
Шли дни. Письма, письма, письма — потоком. Я редактировала и относила во дворец Кшесинской и работала до того напряженно, что потеряла сон и осязание. Перо валилось у меня из рук; сон бежал от глаз, а тяжелая дрема одолевала каждую минуту. Я стала плохо соображать. Необходимо было уехать из города.
С сожалением я сказала об этом в редакции. Меня пробовали уговаривать, но я не могла остаться, у меня начались припадки полуобморочного состояния.
Пришлось уехать в глушь, в деревню.
А там газеты вскоре принесли известия об июльских событиях, истолкованные вкривь и вкось.
У нас в деревне (тогдашний Гдовский уезд, ныне Псковская область) население питалось главным образом газетами «Копейка» и «Сельский вестник», и обе были одинаково грязным и клеветническим источником. Поэтому не удивительно, что в нашей деревне немного было сочувствующих большевикам.
Вскоре буржуазные газеты оповестили и о разгроме редакции «Правды».
Я написала Вере Михаиловне Величкиной, просила рассказать подробнее о событиях и объяснить их. Ответ пришел лаконичный:
«Когда вернетесь в Питер, все расскажу. Газетам не верьте; на деле совсем не так. В эти дни мы показали, как никогда, на деле свою силу и связь с массами».
close_page
ГАЗЕТА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Я вернулась в город в сентябре и стала усиленно искать связи с большевиками.
Вера Михайловна дала мне сведения и о большевистских газетах и об отдельных членах Военной организации.
В конце сентября я была приглашена Н. И. Подвойским на должность секретаря «Солдатской правды».
Сначала я отказывалась. Я никогда не работала в газетах. Я была автором многих популярных исторических романов и повестей для юношества, но ничего не понимала в газетном деле. Если я умею писать простым, ясным языком, понятным подросткам и широкой массе читателей, то это еще не значит, что я могу работать в партийной газете. А тут еще секретарство, не угодно ли. Секретарь строит номер. Что я могу построить. ак могу я быть недобросовестной по отношению к большевика? Я редактировала письма для «Солдатской правды». это была узкая работа и притом бесплатная, теперь предлагали жалованье, так как в Военной организации получали жалованье.
Но Вера Михайловна настаивала:
— Не смейте отказываться. Жалованье вам платить должны,— ведь вы будете заняты целый день и у вас не останется сил ни на какую другую работу, а то, что вы до сих пор не занимались журналистикой и не секретарствовали, это не беда, я вам помогу, а потом и сами станете на ноги.
Я согласилась.
Это было в конце сентября. Наша Военная организа ция занимала тогда тесное помещение в начале Литейного проспекта, недалеко от Литейного моста.
В большой проходной комнате помещалась контора и работала единственная машинистка; другую комнату, тоже проходную, узкую и длинную, в одно окно, отвели под редакцию; тут же за маленьким столиком белокурый солдат беседовал с приехавшими с фронта товарищами, за другим столом работал Н. И. Подвойский; третий стол предоставили мне.
Мне опять навалили массу писем и кучу буржуазных газет. Что со всем этим делать? Как составлять номер? Ведь нельзя же по плану «Речи» или «Новой жизни»? И где взять материал для разных отделов: для хроники, фельетона, где взять стихи? Ведь стихи, поднимающие дух, совершенно необходимы. Как бы по неопытности не наделать ошибок.
Подвойский мечется, часто уходит в заднюю комнату- клетушку, где, очевидно, собираются совещания, где иногда в тишине пишутся статьи.
Я, разумеется, не скрываю своей неопытности. В сущности в сорок пять лет я здесь только ученица. И я не хочу, чтобы знали, что я писатель-профессионал. Тогда со мной, может быть, будут церемониться. Так лучше. Учиться так учиться. И я скрываю свой литературный псевдоним, называя себя по паспорту ничего не говорящей фамилией — Ямщикова.
Подхожу к Подвойскому.
— Скажите, что я должна делать? Предупреждаю — не переоцените: я не газетный работник, у меня имеется только опыт популяризации и ничего больше.
— И желание работать. А это самое главное. Мы уже знаем вас по редактированию писем.
— Тогда я прошу об одном: взять меня на испытание и через две недели дать отставку, если не подойду.
— Большевики не церемонятся,— было ответом.
— Итак, мои обязанности?
— Собирать материал, группировать, составлять номер. «Шапку» вам будут давать редакторы. Старайтесь привлекать сотрудников из масс. Сюда приходят фронтовики; ловите их, расспрашивайте, записывайте; стройте беседы и фельетоны о жизни на фронте. Потом вы должны держать в порядке архив, подшивать использованные рукописи, чтобы можно — было всегда навести справку, а неиспользованные хранить тоже для справок; в этом отношении нужно быть крайне щепетильной: часто авторы заходят справляться о своих письмах или заметках; от вашей внимательности и умения подойти к человеку зависит многое. Потом, конечно, вы должны подумать об интересной хронике и резолюциях с фабрик и заводов; потом…
Я слушала, чувствуя, как у меня по спине бегают мурашки. Сколько сразу обязанностей! И когда все это выполнить?
А Подвойский, словно спохватившись, добавил:
— Скоро мы вам подкинем еще газетку «Деревенская беднота» — для крестьянских масс.
Вторая газета! А помощники? Какой будет у нее формат? Вон «Солдатская правда» растянулась в простыню «Нового времени». Громадина. Чем ее наполнить, этакую прорву?
Передо мной спокойное лицо Нины Августовны Подвойской.
Я говорю ей:
— Да разве возможно это выполнить? Все готово должно быть к четырем часам, а тут еще ловить фронтовиков и делать записи об окопной жизни… и стихи… и подшивать этот архив…
Она улыбнулась.
— А вы не пугайтесь и не придавайте буквального значения словам Николая Ильича. Работайте, как умеете, и — до отказа.
Ну хорошо. Попробую.
Маленький стол, тесно. Никак не поместиться. Кладу стопки бумаг на стул, на пол. Шумно. Поминутно мелькают входящие и выходящие люди. Станут перед самым носом и говорят, заслоняя свет. Говорят без конца. Гудит в ушах от шума. Беру резолюции, правлю.
Резолюции, резолюции… Другого материала пока нет. Выбираю хронику из буржуазных газет и одним ухом прислушиваюсь к тому, что делается за другими столами. Особенно интересно слушать солдат с фронта. Я подзываю к себе одного и расспрашиваю.
С непривычки очень трудно начать беседу и ставить четко вопросы. Но мне удается это преодолеть. Некоторые солдаты радуются возможности высказаться в печати и облегчают мою задачу.
Один интересно рассказывает об австрийском плене. Записываю торопливо карандашом и так же тороплрГво отделываю. Фельетон готов. Это первый мой фельетон для «Солдатской правды».
Я не могу сказать точно, когда это было. Дни сливаются в один трудовой напряженный день, с лейтмотивом— справиться с задачей.
Люди приходят и уходят. Часто в редакции мелькает небольшая плотная фигура Н. В. Крыленко,— будущего главковерха, с его резким, издали слышным голосом, знакомым мне по митингам, где он выступал под кличкой «товарищ Абрам». Рядом с ним вспоминается белокурая, бледная, с прекрасными голубыми глазами Елена Федоровна Розмирович. Твердой походкой приближается Людмила Николаевна Сталь, заходит изящная А. М. Коллонтай. слышится тихий, неторопливый и мягкий голос Менжинского…
— Товарищи,— говорю я,— ведь нельзя же наполнять все полосы одними резолюциями! Давайте статьи!
Редакторы — у кого есть время — проверяют мою работу. Сегодня один занят на заводе — его заменяет другой; не знаешь, перед кем отчитываться. Нина Августовна Подвойская исчезла: кажется, перешла на работу в Петроградский комитет. Подвойский почти недоступен; он целый день словно в котле кипит — рядом в маленькой комнатке идут совещания.
Мелькают новые лица и исчезают в тайниках крайней комнаты. А я строчу, подбираю, строчу…
Материал все еще беден и скуден. Некому работать. Поэтов нет, а как нужны зажигательные стихи, песни!
Придя домой, берусь за перо и набрасываю первые строки. Какой я поэт? А приходится. Стихи, конечно, никуда не годятся, а все-таки лучше, чем ничего.
По крайней мере редакторы одобряют — стихи появятся на страницах «Солдатской правды»; есть пища для ненасытного жерла газеты.
Двухнедельный срок испытания давно уже прошел. Я все еще не уверена в себе и спрашиваю Подвойского:
— Кому передать полномочия?
Он поначалу даже не понимает вопроса, потом решительно протестует:
— Кто это вас отпустит? Никому ничего не передавать.
Круглое «о» делает его речь простой и веской.
И я остаюсь.
Занозой торчит архпв. У меня совсем нет способностей к канцелярской работе, а Николай Ильич, в прошлом статистик, ценит аккуратность. Я от природы неаккуратна, и у меня на письменном столе дома хаос. Я даже не умею подшивать архивные бумаги. Нина Августовна опять приходит ко мне на помощь и учит меня. Беру архив домой и вечером подшиваю: нужно, чтобы каждое письмо было на месте для справок.
Помню, как меня одобрил один из редакторов газеты:
— А знаете, вас совсем не приходится править. У вас хороший стиль.
Я промолчала. Мне не хотелось говорить, что я уже двадцать восемь лет упражняюсь в стиле и что три года назад общественность праздновала мой двадцатипятилетний литературный юбилей.
close_page
ВЕЛИКИЕ ДНИ
В последнее время в редакции какая-то тревога или особенная напряженность обстановки. Мне приходится иногда уходить в переднюю большую комнату, где помещается контора и канцелярия, и, примостившись где-нибудь на тычке, продолжать прерванную работу. В обеих комнатах идут партийные совещания, на которых я не могу присутствовать.
Работать тяжело. Кроме громадной «Солдатской правды», прибавилась еще маленькая газета для крестьян — «Деревенская беднота». Печатают ее не то на Мойке, не то на Екатерининском канале, в типографии «Сельского вестника», и хотят, чтобы наша газета залетела во все уголки, где прежде читался «Сельский вестник».
Но маленькая черносотенная газета читалась главным образом из-за своего сельскохозяйственного отдела. А «Деревенская беднота» — газета чисто агитационная. Крестьянин дорожил разными рецептами примитивной агрокультуры, а кто у нас из наших сотрудников может это дать?
Вскоре, впрочем, попробовали разрешить вопрос, пригласив какого-то специалиста, и он давал короткие статейки по сельскому хозяйству и по домоводству.
Памятный день накануне восстания. Подвойского нет, В редакции настроение затаенного ожидания.
Меня вызывают на совещание.
— Вот что, товарищ Ямщикова,— говорит мне В. И. Невский,— редакция должна перебраться в Смольный. Вы согласны туда ехать? Не боитесь?
Я удивилась. Чего же мне бояться, если я уже связала свою судьбу, свою работу с Военной организацией большевиков?
— В таком случае поскорее соберите весь материал — архив пока может остаться здесь — и поезжайте скорее. Машина ждет. Газеты должны выйти во что бы то ни стало, как всегда. Возьмите себе помощника…
Я остановила свой выбор на молодой, энергичной и добродушной девушке, умевшей работать на пишущей машинке, что по тем временам было немалым достоинством. Машинистка, товарищ Анка, как ее звали, оказалась хорошей помощницей.
На автомобиль взвалили газетный материал, канцелярские принадлежности и покатили…
Смольный. Как он преобразился! Сюда, в аристократический «институт благородных девиц», тринадцатилетней девочкой приходила я с теткой навещать свою двоюродную сестру Толстую. И как странно было видеть, что у величественного подъезда Смольного царит необычайное оживление: стоят грузовики, переполненные вооруженными солдатами и матросами, подходят группы рабочих, красногвардейцы, солдаты. И мне кажется, что у всех какие-то особенные лица, и везде — грозные винтовки. Спрашивают пропуска.
Мы подымаемся по лестнице на третий этаж. По дороге я похищаю в коридоре маленький столик и тащу его наверх. И так со столиком влезаю в помещение, которое отныне должно быть нашим пристанищем.
У нас две комнаты: первая узенькая, как коридорчик, проходная, с одним окном, вторая огромная, в несколько окон, похожая на зал, перегороженная фанерной перегородкой: бывший дортуар воспитанниц Смольного института.
В комнате два стола: за одним — Мария Ильинична Ульянова с «Правдой», за другим — Вера Михайловна Величкииа с маленькой газетой «Рабочий и солдат».
Оглядываться и разговаривать некогда; я водворяюсь со своим столиком посреди комнаты и погружаюсь в работу. Номера должны выйти во что бы то ни стало, как всегда.
Машинистка куда-то исчезает, а с нею и надежда на помощь. В моем распоряжении несменно один курьер — Вячеслав Петров.
Никогда не забуду я этого славного паренька, товарища Вячеслава, искреннего, преданного коммуниста, с чистой, словно детской душой, с молодым открытым лицом и простодушной улыбкой. Сидел он в маленьком «предбанничке» — крохотной комнатке перед редакцией, и обязанности его были очень разнообразны: относил материал в типографию, принимал подписку на газеты, приносил нам кипяток и хлеб. Всегда он был бодр и весел. Жил он в общежитии Красной Армии, и там иногда ему перепадало кое-что из еды. Он все притаскивал в Смольный и делил по-братски между нами, уверяя, что нам нужно больше, чем ему, потому что у него работа легкая, у нас тяжелая. Это был чудесный товарищ, беззаветно преданный большевизму, храбрый вояка, кончивший жизнь славной смертью на фронте гражданской войны.
Разбираюсь в ворохе материала.
Строчу. Сумерки. Зажигают электричество. Строчу. Ко мне подходит Прасковья Францевна Куделли. Мы с нею встречались раньше в редакции детского журнала «Всходы», где вместе сотрудничали. Она кладет мне на плечо руку и говорит:
— Смотрите, как она спокойно работает и не боится!
close_page
РАБОТА В СМОЛЬНОМ
Скудна была обстановка работы в Смольном в первое время. К моему маленькому столику примащивалось неопределенное количество людей. С уголков свешивались, как лапша, длинные исписанные полоски бумаги все
газетным материал, и я боялась двинуть локтем, чтобы не выбить вера из рук у Анки, работавшей рядом со
Стол «Правды», за которым работает Мария Ильи- ильича, от меня на расстоянии протянутой руки. Кто-то из товарищей принес Марии Ильинишне меховую шапку- ушанку для Владимира Ильича. Здесь же была и Наделла Константиновна. Достать тогда одежду в Петрограде было нелегко. Надежда Константиновна рассматривает шапку в простодушно говорит:
— А у Володи уже есть такая. Я ее себе возьму.
Ушанка, надвинутая на самые глаза, слишком велика для ее головы. Надежду Константиновну это не смущает: шапка теплая, а ведь это главное.
В те дни Мария Ильинична не могла достать даже ножниц для газетных вырезок и раз ваяла их в финотделе у молоденькой делопроизводительницы в ее отсутствие, а та, когда вернулась, то затеяла спор, доказывая, что финотдел для государства важнее всякой газеты. Мебели не хватало. Иной раз приходившие в редакцию товарищи устраивались работать стоя на коленях на полу, табуретка становилась столом. Частенько, придя утром на работу, мы не находили иа месте своего стола, а наши бумаги оказывались сложенными в угол. Приходилось стол и чернильницу отыскивать в других комнатах и не без борьбы водворять на место.
Наш телефон был источником мучений. Он стоял просто на полу, и, пользуясь им, надо было стоять на коленях и усердно крутить ручку. Эти досадные и комические упражнения в ручной гимнастике были почти безрезультатны, так как дозвониться мог только волшебник.
Как сейчас, вижу на полу фигуру моей помощницы Анки — красивая голова с копной черных кудрей у самого аппарата, а рука энергично накручивает:
— Барышня! Вы слышите? Опять ничего… Ба-а- рышня! «Кнопка А», соедините… Мне нужен телефон номер… Ах, опять ничего! Ба-а-рыш-ня! Нет, это кошмар! Полчаса бьюсь!
И Анка с новым приливом энергии накручивает ручку немого аппарата.
Сотрудников у нас прибавилось: Яков Иосифович Буров с женой Надей, которая разбирала и сортировала под моим руководством письма, Александра Михайловна Якубова.
Этих писем теперь приходило приблизительно до шестисот в день. Необходимо было для пользования ими выработать какую-нибудь систему. Шкафов у нас не было и в помине. Я просила сделать нечто вроде полок вдоль стен, расположила на них папки, на папках сделала надписи: «Земельный вопрос», «Учредительное собрание», «Злоупотребления», «Школы», «Религия», «Фронтовые беспорядки», «Агитация на фронте», «Агитация в деревне» и т. п.
Основным редактором «Солдатской правды» и «Бедноты» был Владимир Иванович Невский. Приходя в редакцию, Владимир Иванович решал, о чем и в какой газете он будет писать, и говорил мне примерно так:
— Сегодня я пишу передовицу в «Солдатскую правду», а вы обработайте туда письма для фельетона.
На другой день работа распределялась иначе:
— Приходили ходоки из деревни?—спрашивает Владимир Иванович.— Нет? Ну, если «живой записи» нет, возьмемся за письма. Я сегодня напишу передовую в «Бедноту», а вы выберите что-нибудь поинтереснее и напишите для «Солдатской правды». А к завтрашнему дню дайте мне «Агитацию на Дону». Надо там поднажать — неладные оттуда слухи.
Мне пришлось теперь почти ежедневно писать фельетоны; если кто-нибудь из партийцев писал фельетон-беседу для одной газеты, я писала фельетон-картинку для другой.
Каждый день приходилось бежать с Петроградской стороны через Неву, тратя на хождение по два часа в один конец. Это пешее путешествие по мосткам через Неву было мучительно. Ветер бил в лицо метелью или измо- розью; ноги начинали невыносимо ныть от жгучего мороза, у меня не было теплой обуви. Остановишься, муфтой трешь ноги и бежишь дальше; иногда на момент, чтобы перевести дух, заходишь в первый попавшийся подъезд. Но таких подъездов было не особенно много: по пути раскинулась ширь Невы и снежная пустыня Марсова поля.
Позднее я приладилась ездить иногда в Смольный вместе с Е. Ф. Розмирович на автомобиле. Но возвращаться домой было не так просто: если не ночевала в редакции для посылки экстренных листков на фронт, то возвращалась домой глубокой ночью — всегда находилась какая-нибудь неотложная работа.
Фронт и деревня посылали нам все новых и новых сотрудников. По большей части это были делегаты. Говорили они часто очень путано, туманно, и порой нелегко было докапываться до сути.
Приходит однажды донской казак. В это время на Дону шла кровавая борьба и царила неразбериха. Богатеи-казаки сочиняли и усердно распускали о советском правительстве слухи один другого нелепее.
Пришедший казак заявляет:
— Покажите мне мою рукопись. Что вы с нею сделали?
— Какая рукопись?
— А стихи: «Четыре сезона, или черт на крюку».
Я в большом смущении. Ведь мы должны быть очень внимательны к сотрудникам из масс, а я не могу отдать казаку его рукопись, которой он так дорожит: его нескладные длиннейшие вирши — в архиве, злополучный архив — на Литейном, в Военной организации.
Делаю попытку выйти из положения:
— Мы наведем справки о вашей рукописи.
Запомните: «Четыре сезона, или черт на крюку».
— Ну да, ну да. «Четыре сезона, или черт на крюку».
У нас ничего не теряется, но архив в другом помещении и придется его вытребовать, а к вам пока просьба: напишите нам про Дон, про то, что у вас делается по стани цам, про то, как с вами обращаются офицеры; много ли у вас сочувствующих большевикам?
Он чешет в затылке.
— Мы сейчас же поместим,— соблазняю я,— завтра же прочтете вашу статью в «Солдатской правде».
Я прихожу к нему на помощь:
— Я могу ускорить вашу работу. Диктуйте мне, я буду записывать, а потом отдам переписать на машинке, и, повторяю, завтра же вы прочтете все, что рассказали, в газете.
Предложение заманчиво. Казак начинает рассказывать о злоупотреблениях власти в станицах, как распространяли клевету на большевиков; рассказывает о грубости и самоуправстве офицеров, о том, как долго скрывали на Дону правду об октябрьском перевороте. Я пишу.
Когда он уходит, я привожу в порядок его хаотический рассказ, тщательно отделываю.
На другой день статья о Доне появилась в «Солдатской правде». Автор был в восторге. Он читал, не веря глазам, восхищался каждым словом и поминутно хватался за бока, разражаясь взрывами хохота.
— Ото ж здорово! Та выкусите, охвицерье окаянное! Нехай послухають газету свинячьи охвиперские уши! Слухайте,— разом обернулся он ко мне,— дайте мне тысячу, нет, десять тысяч газет, я их, паршивых кутят, в газету носом…
Он смачно выругался и обвел торжествующим взглядом комнату.
— Одной моей статьей весь Дон большевикам покорю!
Мы нагрузили на него целый тюк газет, и он уехал, сияя и позабыв о своем детище «Четыре сезона, или черт на крюку».
Работа в Смольном кипела ключом. Я писала с энтузиазмом статьи, стихи, с таким же энтузиазмом правила письма с фронта и из деревни, будучи, как и все, хронически голодна. В столовой Смольного было очень грязно, и я не могла заставить себя там обедать и пробавлялась чаем.
От администрации Смольного мы получали сначала чай, сахар, а порою и масло. Эта роскошь очень скоро была отменена, и нам стали давать только кипяток.
Сюрпризом для редакции был ящик с сахаром и коробкой чаю, которые мне удалось скопить для товарищей, предвидя неизбежный пост.
А чай пить любили в наших редакциях, и не только мои сотрудники, но и все, кто приходил на огонек.
На моей обязанности было править рукописи всех начинающих сотрудников, и этим широко пользовался Н. Степной (отец будущего драматурга Афиногенова), ополченец, вернувшийся только что из французского плена. Он печатал у нас и в «Известиях» отрывки из своих «Записок ополченца». Мы скоро привыкли к Степному, и кто-то его прозвал «Козлик». Эта кличка очень к нему подходила, к его реденькой бородке, жидкому голосу и слегка подпрыгивающей походке. Ежедневно приносил он мне беспорядочные клочки бумаги, мелко и неразборчиво исписанные; у него был странный, отрывистый, неряшливый и неясный стиль, или, вернее, никакого стиля, а сплошная недоговоренность. Гораздо лучше он рассказывал. Тогда у него являлись неожиданно и яркие образы, и выпуклость рисунка, и анализ душевных переживаний.
Но как только он брался за перо, все тускнело…
Оригинальным сотрудником был мальчик шестнадцати лет из Олонецкой деревни — Петя Лукин. Вместе с матерью и маленьким братом он ходил побираться из села в село и, наконец, в четырнадцать лет решил бежать на фронт. Но фронт ему опостылел, и, услышав об октябрьском перевороте, Петя Лукин бежал в Петербург, где и разыскал Смольный.
Он писал бойко и вполне грамотно, тем простым языком, который был нам нужен, но писал жидко, отчего трагизм описываемой им фронтовой действительности не трогал.
Этого мальчика мне удалось оставить при редакции при помощи А. В. Луначарского и поселить в Доме крестьянина; кормился он кое-как в Смольном.
Простая форма письма увлекала Якова Иосифовича Бурова, старого большевика и нашего постоянного сотрудника. Писал он главным образом для «Деревенской бедноты».
Я втянулась в работу. Уличные разговоры, подслу шанные во время длинных переходов с Петроградской стороны в Смольный и в очередях но воскресеньям, натолкнули меня на тему об отношении обывателя к большевикам, о ренегатстве многих радикалов, о либеральных господах и дамочках, и я отважилась написать для «Солдатской правды» фельетон-сатиру «Большевистская гильотина». Я слышала, что средн буржуазных писак эта сатира вызвала негодование: меня называли «продавшейся большевикам», «изменившей интеллигенции» и т. и.
Много к нам ходило пароду из других отделов и редакций, заходили товарищи подумать вслух, потолковать о партийных мероприятиях. Приходила красивая молодая Лариса Рейснер. Она что-то писала для «Правды». Часто проплывал к столу Марии Ильиничны тяжеловесный Демьян Бедный. Был он балагур, оптимист, веселый циник. Еще издали, бывало, слышен его смех, шутки-прибаутки. Бывал у нас и автор «Конька-Скакунка» Сергей Александрович Басов (Верхоянцев). Тогда он был еще левым эсером, перенесшим и тюрьму и тяжелую ссылку. Характерная, живописная фигура. Широкоплечий, большеголовый, с несколько расплывчатыми чертами умного, приветливого лица. Характерный говорок не то тульский, не то тамбовский: «хлебушко», «морозец». Человек непомерной физической силы, он шутя сгибал медный пятак. Был он сердит на большевиков за неосмотрительность: генерала Краснова выпустили на честное слово, кровавые Романовы еще не уничтожены.
— Вот видите,— горячился Сергей Александрович,—- как негодяй Краснов держит свое слово: сейчас уж он орудует па Дону. Вот и с Романовыми. Пока хоть один корешок ихнего племени жив, нельзя быть спокойным.
Приходили и так называемые «раскаявшиеся саботажники». Мы прозвали так интеллигентов, не желавших вначале работать с большевиками и не веривших в прочность новой власти.
Между ними были люди, занимавшие еще недавно высокое положение, владевшие пером, люди с широким общим образованием. Одни из них растерялись, другие ненавидели и поначалу открыто злобно высказывались в том духе, что пусть, мол, попробуют — без нас, носителей высокой культуры, что-то у них выйдет?

Центральном Комитете Российской Соц Дем Рабочей партии,
страницы 1-я и 3-ья.
Вскоре они увидели, что советская власть справляется со своими задачами и обходится без интеллигентных саботажников, а вот последним трудно было обойтись без помощи народного правительства.
Они стали приходить в Смольный, вспоминая о случайных знакомствах среди большевиков и всех, кто с ними близко соприкасался, приходили, конечно, и ко мне. Они искали работы, но как-то беспомощно, недоверчиво, и довольно быстро самонадеянность и высокомерие чиновников от культуры сменились в них заискиванием.
В редакцию приходили анонимные письма о том, что под Смольным заложена адская машина и что мы должны со дня на день ждать взрыва. Вечерами часто гасло электричество, тогда пропадали револьверы из карманов пальто. Очевидно, в Смольный, несмотря на строгий контроль, удавалось проникнуть жуликам и врагам.
Я приготовила восковые церковные свечи (стеариновых в продаже не было) и спички и, как только гасло электричество, зажигала свой огонек и при его слабом свете продолжала работу.
Когда из банка привозили необходимые для ведения газеты деньги, казначей отдавал их мне на сохранение. Приходилось с комической важностью садиться на туго набитый сотнями тысяч портфель или ходить с ним всюду: во второй этаж, в «Известия», и в Бюро печати за новым материалом, и в кабинет Ильича, и к управделами В. Д. Бонч-Бруевичу, и в Петроградский комитет.
Ждали открытия совещания полковых представителей Петроградского гарнизона. Интеллигенция в большинстве продолжала все еще саботировать, отказывалась работать в учреждениях, устраивала забастовки. Потому у нас в С мольном не было стенографисток и машинисток. И когда наступил день совещания, пришлось задуматься, кто будет записывать речь Ленина и выступления делегатов.
Еще накануне меня просили записывать, но я отказывалась: я очень боялась, что не поспею за ораторами, что Не схвачу услышанное и перепутаю, тем более что на съезде должен был выступать Ленин и запись его речи была слишком ответственна.
Но в день съезда Людмила Сталь убедила меня, что идти записывать выступления необходимо, и я согласилась. От «Правды» пошла записывать Антонина Лифшиц.
Мы пришли в конференц-зал рано и уселись за стол корреспондентов. Я тщательно обдумала свой способ за- писи: нарезав множество узких полосок бумаги, очинив более десятка карандашей, разложила все это на столе, предварительно пронумеровав страницы, чтобы не перепутать, и приготовилась внимательно слушать.
Начинается… Сколько солдат! Весь зал полон ими. В президиуме появились знакомые лица видных партийцев, а кругом солдаты, солдаты, солдаты…
Первый оратор. Напрягаю внимание. Пишу. И Лифшиц пишет. Мы не видим друг друга, не видим теперь никого и ничего, даже выступающих. Видим только бумагу и карандаш. Уши — вот все, что сейчас нужно, все, что для нас сейчас важно и дорого. Карандаш скрипит; полоски бумаги откидываются в стороны. Их много, им нет числа… Сколько речей! Выступают товарищи, имена которых знает сейчас вся Россия; выступают безвестные фронтовики — горячие, взволнованные речи.
Как странно, сейчас уже вечер, я работаю с утра, а время летит незаметно, и усталости не чувствую.
На трибуне появилась знакомая фигура Ленина, раздалась его характерная, ясная речь, слегка картавит. Я вся обратилась в слух. Это было какое-то «священное» напряжение, иначе я не могу его охарактеризовать, когда ловишь на лету каждое слово и все существо наполняется гордостью от одной мысли, что записываешь это слово. Пишу… Ильич кончил. Как горячо ему аплодируют! А на трибуне уже новый оратор.
У меня была своеобразная «стенография», которую употребляли, как я читала, для записи выступлений деятелей французской революции: слово намечалось одной- двумя буквами. Такую запись необходимо сейчас же расшифровать и заменить полными словами.
Строчу, строчу, отбрасывая в сторону узенькие бумажные ленточки, не разгибаясь ни на минуту.
Не помню имен всех ораторов. Добросовестно записываю как известных ораторов, так и никому неведомых людей в серых шинелях.
Утром Людмила Сталь передала мне, что Владимир Ильич читал отчеты о съезде и сказал, что в «Солдатской правде» его речь изложена полнее и точнее, чем в «Правде».
Как я была счастлива! С этого дня Владимир Ильич запомнил меня. Я стала получать от него записочки, набросанные наскоро на клочках бумаги. Обычно содержание их было приблизительно такое: «Тов. Ямщикова. Используйте для газеты таких-то делегатов из деревни».
Меня со всех сторон обступали люди в полушубках, чуйках, кафтанах, с знакомым деревенским запахом овчин, сена и чего-то еще, похожего на запах деревенской бани. Я их расспрашивала и записывала. Рассказы были интересные, в них отражалась вся тогдашняя разворошенная крестьянская жизнь: много жалоб на различные непорядки и великая вера в Советскую власть, которая поможет деревне зажить по-новому.
У меня, к большому сожалению, не осталось ни одной записки любимого Ильича. Деревенские ходоки так горячо всегда просили отдать им на память о Ленине эти записочки, что у меня не хватало духа им отказывать. Я думала, что навсегда останусь работать в Смольном с любимым Ильичем, а они унесут в свои занесенные снегом глухие деревни слова дорогого вождя.

С фоторафии 1917 г.
Общаясь с людьми из деревень и с фронта, я испытывала какое-то особенное чувство — радостное от созна- ния, что я стою так близко к народным массам, что могу как-то посодействовать удовлетворению их нужд что вошла в работу, связующую их и Ленина. Я знала, что Ленин верит в народ, знала также и на каждом шагу убеждалась в том, что народ верит Ленину.
Помню до сих пор немудреные стихи какого-то крестьянина, кажется туляка: они были напечатаны в одном из номеров с Деревенской бедноты»:
Здравствуйте наш Ленин,
Вождь наш дорогой!
Из села Тенгичева
Шлем привет мы свой.
Сколько лет прошло, а я все помню это четверостишие!
Великая идея рабочей партии и любовь к нашему литературному делу питали меня в те удивительные дни, и потому ни голод, ни бессонные ночи, ни бесконечные путешествия через Неву в непогоду, в мороз не были страшны.
В Смольном забывалось обо всех невзгодах жизни.
У нас здесь были и веселые, полные шуток и юмора часы…
Время было такое — мы, работники пера, возвращаясь после утомительного дня домой, при встрече с редкими в то время автомобилями без всякого стеснения останавливали их и, когда нам говорили, что это машина такого- то наркома, просто обращались к самому наркому, прося нас подвезти, потому что мы — из «Солдатской правды».
Этого было довольно: магические слова открывали нам двери всех авто.
Наш газетный коллектив соединяла крепкая дружба. Помню, с каким сочувствием мы слушали рассказы маленького Пети Лукина о его скитаниях с матерью по олонецким деревням, а потом, как он «бил вошь в окопах» и плакал, когда ныли от мороза ноги.
Петя Лукин особенно привязался ко мне—вероятно, Потому, что я была его учителем. Осенью 1918 года он выпустил в Москве в издательстве «Коммунист» маленькую брошюрку в красной обложке — свои фронтовые воспоми нання. Мы думали работать вместе в Москве, но в гражданскую войну он ушел на фронт и, вероятно, сложил там свою хорошую голову — с 1919 года я о нем ничего не слышала.
close_page
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
С фронта приходили неутешительные вести: немцы приближались к Пскову.
Однажды ночью в моей квартире затрещал телефон.
— Товарища Ямщикову.
— Я у телефона.
— Сейчас же приходите в Смольный. Заходите за Вячеславом; он тоже нужен.
Что случилось? Бросились на улицу и остановились ошеломленные: город гудел и стонал продолжительными гудками… По улицам торопливо шагали люди, спешили на призывные голоса.
Едва мы уговорили отощавшего извозчика везти на своей еще более тощей клячонке. Проезжаем мимо заводов у Сампсониевского моста; в открытые ворота вливается, словно поток, масса рабочих, а гудки продолжают свою тревожную песню…
Заезжаем на Литейный в дом Красной Армии и Флота, где живет Вячеслав Петров. Вызываем его. Он уже знает:
— Псков взят немцами.
Вячеслав в полной форме, в руках винтовка.
— Зачем это, Вячеслав?
— Иду на фронт.
— А редакция?
— Вот те на! Курьера вы найдете и без меня. На фронте я нужнее. Прощайте! До встречи!
И фигура его тонет во тьме ночи.
Я думала, что меня вызвали для составления экстренного ночного выпуска фронтового листка. Но распоряжения выпустить этот листок не последовало.
Утром работали, как и раньше, только во всех углах Смольного притаилась настороженность. Мы отлично понимали, как близок враг к Питеру.
«Социалистическое отечество в опасности» — эти слова пронеслись из края в край нашей родины, подымая рабочих и крестьян на ее защиту. Отряды только что организованной Красной Армии задержали немцев под Псковом и Нарвой. Владимир Ильич страстно боролся за мир, во имя спасения революции и советской власти, против предателей ее. В «Солдатской правде» появилась передовая, выражавшая волю партии и ее вождя, разъяснявшая необходимость заключения мира. Эта передовая была опубликована в последнем номере «Солдатской правды».
Ночью в двенадцать часов нас всех собрали в Наркомате путей сообщения. Здесь были Подвойский, Менжинский.
Нам сообщили:
— Завтра в шесть часов вечера все, кто хочет продолжать работу, должны быть на вокзале. Мы переезжаем в Москву.
Я бросила свое обжитое питерское гнездо. В шесть часов мы явились на вокзал.
Поезд тронулся. Длинный путь, медленный путь, когда приходится самим пассажирам добывать топливо для паровоза… Москва.
В Москве провели две недели без толку; через две недели нас прикрепили к газете «Беднота», издававшейся при ЦК партии. Она совмещала нашу питерскую «Деревенскую бедноту» с московской «Деревенской правдой».
Началась новая работа.