Памятные встречи — Ал. Алтаев
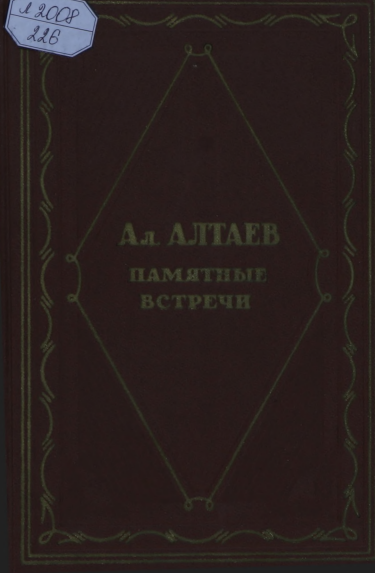
| Аты: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Әдебиет |
| ISBN: | |
| Баспагер: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Жылы: | 1957 |
| Кітап тілі: |
Страница - 58
МАТЬ И ЖЕНЩИНА
Александре Николаевне я поверяла свои думы и мечты, достижения и ошибки. А ошибок было немало.
Моя личная жизнь сложилась трудно. Разойдясь с мужем, я боялась, что он украдет у меня дочь, и потому никогда не оставляла ее дома с прислугой. Уходить по делам надо было довольно часто, и я таскала ее с собой по редакциям. Иногда мне приходилось пробыть где-нибудь до позднего вечера, и тогда я приводила ребенка в «Игрушечку» и оставляла на попечение Александры Николаевны, даже иногда на ночь. И Александра Николаевна радовалась, что может мне оказать эту услугу, тем более что девочка чувствовала себя у нее очень хорошо.
Раз, засидевшись у Александры Николаевны поздно вечером, я решила оставить у нее дочь до утра, чтобы не таскать по конкам ночью.
Сидим в спальне у камелька. Тихо. Топится печка: огоньки перебегают по углям, трещит уютно сверчок. Мы пьем чай, сидя на низеньких креслах, и шепотом беседуем, а на диванчике спит моя девочка.
Воркует тихий голос Александры Николаевны:
— Вот жизнь... Вы знаете, дорогая, почему я так близко сошлась с вами, почему мне так понятна ваша душа, почему я стараюсь вас остановить, если вы не туда идете? Я вас понимаю; я знаю, что ошибки, продиктованные молодостью, сердцем, а не холодным расчетом,— за конные ошибки. Холодный расчет — вот что я осуждаю, вот что мне всегда было чуждо. Я не говорю уже о фальши. Я говорю только об искренности.
Она помолчала, а я, глядя на нее, вдруг ясно увидела ее молодой, бесконечно прекрасной, такой, какой изобразил ес на портрете Верещагин. Ей было почти шестьдесят лет, но я знала ее молодое, чудесное сердце, никогда не старящееся сердце, и потому такое близкое молодым.
Мне хотелось, чтобы она рассказала о своей жизни, о том, за что ее любили, как она любила, как жила, участвуя в героической борьбе Гарибальди. Но она была подлинно скромна и молчала.
Она положила мне руку на плечо и, заглядывая в лицо теплым взглядом, сказала, точно угадывая мои мысли:
— О себе не хочется много говорить... В моей жизни было немало бурь. Одну из них я вам, пожалуй, расскажу, и тогда вы поймете, почему я к вам так отношусь. Вы — мать, и я — мать, и, когда вы прячете своего ребенка, я вспоминаю ту страшную пору, когда мне, как и вам, приходилось прятать мою Верочку: ей тогда едва минуло три года. Она всегда была хорошенькая и кроткая девочка и, как игрушка, нравилась своему отцу. У меня была большая и, казалось, прочная любовь к человеку, но для него карьера и деньги были дороже любви. Он ушел от меня, и я осталась одна с маленькими детьми, из которых Надю еще кормила грудью. И этот человек захотел отпять у меня моего ребенка, он попросту украл Верочку.
Я ужаснулась, я представила себя на ее месте. А она продолжала:
— Я нагнала его тогда, когда он увозил ребенка. Я бросилась к лошадям, повисла на оглоблях и... остановила... Я не помню, как меня сначала волокло по улице, как лошади, наконец, остановились, как я впилась в девочку, как тащила ее, как потом несла домой... Ну, вот и все... А затем была нужда, беспрерывная работа, тяжелая работа из-за куска хлеба... как у вас... совсем, как у вас... И оттого вы так близки мне с вашей девочкой...
Она работала много, очень много, несмотря на возраст, и, поднимая людей, переживала с ними все — от светлой радости до глубокого отчаяния. Постепенно убеждаясь, что у нее с мужем Пешковым нет ничего общего, она перенесла свою привязанность исключительно на детей.
Сыновья выросли, но вышли неудачными, и оба умерли. Тяжело умирал от чахотки на ее руках Толя; старший сын умер еще раньше, далеко от матери. Остались две дочери, ее опора и утешение.
Она не замкнулась в личную жизнь, я работа в журнале не удовлетворяла ее полностью, тем более что в журнале нашлись у нее помощники: географ-геолог А. П. Нечаев для научного отдела и я — для беллетристики.
Правда, кроме «Игрушечки», у нее теперь были два журнала: «Для малюток» и педагогический «На помощь матерям», но ей хотелось работы в более широкой области.
Александра Николаевна увлеклась громким названием «Женское взаимно-благотворительное общество», которое возглавлялось карьеристкой Шабановой, и вербовала меня в число членов. Но я отказывалась, хоть и не хотела обидеть Александру Николаевну. Меня отталкивал «благотворительный» характер этого общества, снисходительный взгляд на «низы» и на женщин из этих «низов», что, разумеется, вовсе не было свойственно нашей Александре Николаевне.
Меня сердило и огорчало, что ради этого общества Александра Николаевна забросила редакционные дела, и касса журналов все больше и больше пустела, несмотря на то, что Нечаев сумел поднять подписку. С долгами трудно было справляться, и часто журналы опаздывали на несколько месяцев, потому что задерживалась плата в типографию и за бумагу.
Так дотянули мы до юбилея Александры Николаевны в 1897 году. Она, по своей скромности, и не думала о нем, ко мы с Нечаевым, будучи к ней привязаны, хотели отметить ее заслуги. И, кроме того, в юбилее был выход из материальных затруднений журнала.
И вот начались «юбилейные» хлопоты, свалившиеся всецело на мои некрепкие плечи. Приходилось с утра до ночи бегать по морозу в тоненькой кофточке, на голодный желудок колесить из конца в конец громадный город, вести переговоры с бесконечным числом официальных и неофициальных лиц и, возвращаясь домой, валиться в постель, не в состоянии от усталости проглотить ложки супа.
Сколько тогда я встречала разных людей! Как сейчас, вижу небольшую квартирку Мамина-Сибиряка, кажется, где-то в районе Загородного проспекта. Хозяин ее — широкоскулый, похож на азиата, и подчеркивает это большой бронзовый идол Будды у него в гостиной. И возле Будды он — своеобразный, бестолковый и капризный. Подписывая адрес Толиверовой, он вдруг начинает ко мне приставать и пристает так сердито, почти грозно:
— Почему вы — Алтаев, когда была женщина Алтаева?
Пристает, из себя выходит, все хочет показать мне книжки этой Алтаевой, рыщет на полках среди хаоса книг и, конечно, не находит.
Холодный, респектабельный Авенариус. Сух, вежлив, сановник в звездах. И другой сановник, тоже в звездах, еще недавно мой профессор-педагог, благодушный шутник Каптерев. Оба подписывают адрес.
И торопливая Клавдия Лукашевич: вся розовая, пышная, предлагает свои услуги в организации юбилея.
И маленькая переводчица, грудью защищающая подступы к Каразину. Она явилась потом на юбилей с каразинской виньеткой на адресном листе, вся в ярко-лиловых шелках, в страусовых перьях — экзотическая птица.
Контрастом был Горбунов-Посадов, в толстовской блузе, с подчеркнутой простотой длинных волос, окладистой бороды и некрасивого, но симпатично-открытого лица.
Проходит целый ряд фигур: импозантный Василии Иванович Немирович-Данченко, с его холеными бакенбардами и важными движениями, и другая, спокойно-уверенная фигура с красивой головой и длинной серебристой бородой — Петр Исаевич Вейнберг, и милая, с тонким, женственным лицом, приветливая Щепкина-Куперник, уютно зарывшаяся в подушки кушетки. А вот литературные неразлучки — Баранцевич с Альбовым: первый толстенький, лысоватый, с реденькой рыжеватой бородкой, второй — несколько мрачный, тощий, с тонкой шеей, прозванный «Дон Кихотом». Встает в памяти чета За содимских: он—патриарх, закинутая назад седая голова и белоснежная борода; она — полная, похожая на хлебосольную попадью.
И, наконец, бледное тонкое лицо Ивана Бунина. А рядом первый переводчик «Гайаваты» — седой, мягкий, благостный Михаловский, «дядюля», как зовут его в семье Александры Николаевны. Круг завершает Лесков со своим эпическим спокойствием. На фоне — суетливые «литературные дамы».
Результатом юбилейных хлопот была моя тяжелая болезнь. Но зато юбилей удался: маленькая квартирка на Сергиевской была битком набита народом... Александра Николаевна радовалась креслу к письменному столу, серебряной ручке для пера и особенно часам с кукушкой, взамен ее старых, плохо идущих часов. Ее забавляла птичка, выскакивавшая из окошка.
Юбилей мы праздновали несколько дней: и товарищеским обедом в ресторане «Мало-Ярославец» и детским утром «Игрушечки» в большом зале городской думы. Необходимо было Александре Николаевне выступить в концерте и прочесть что-нибудь из своих сочинений.
Мы приставали к ней, чтобы она выбрала какой-нибудь отрывок из своих статей, но она только отмахивалась.
— Голубчики, да ведь все комплекты моих трех журналов к вашим услугам. Выбирайте сами.
Нечаев внимательно пересмотрел все комплекты «Игрушечки» и «Для малюток» и мрачно заявил:
— Это все пустяки, а надо для юбилейного утра что- нибудь поосновательнее. Вам следует прочесть из вашей жизни, из ваших воспоминаний, Александра Николаевна.
— Да что говорить? Вся моя жизнь у вас на глазах, а сказать — тогда-то родилась,— кому это интересно?
И опять нежелание выставлять себя, свою жизнь напоказ помешало ей коснуться пожелтевших героических римских страниц. Она скрывала от нас даже то, что была первой переводчицей Лермонтова и Некрасова на итальянский язык, да еще во время гонения в Риме на все русское...
Итак, мы должны были выбрать какую-то детскую сценку, написанную ею мимоходом, и она прочла ее тихо, слабым голосом, вызвав жидкие аплодисменты плохо слушавшей аудитории детей, занятых веселым праздником, хлопушками, масками и костюмами снегурок и морозов...
