Путь Абая. Книга вторая — Мухтар Ауэзов
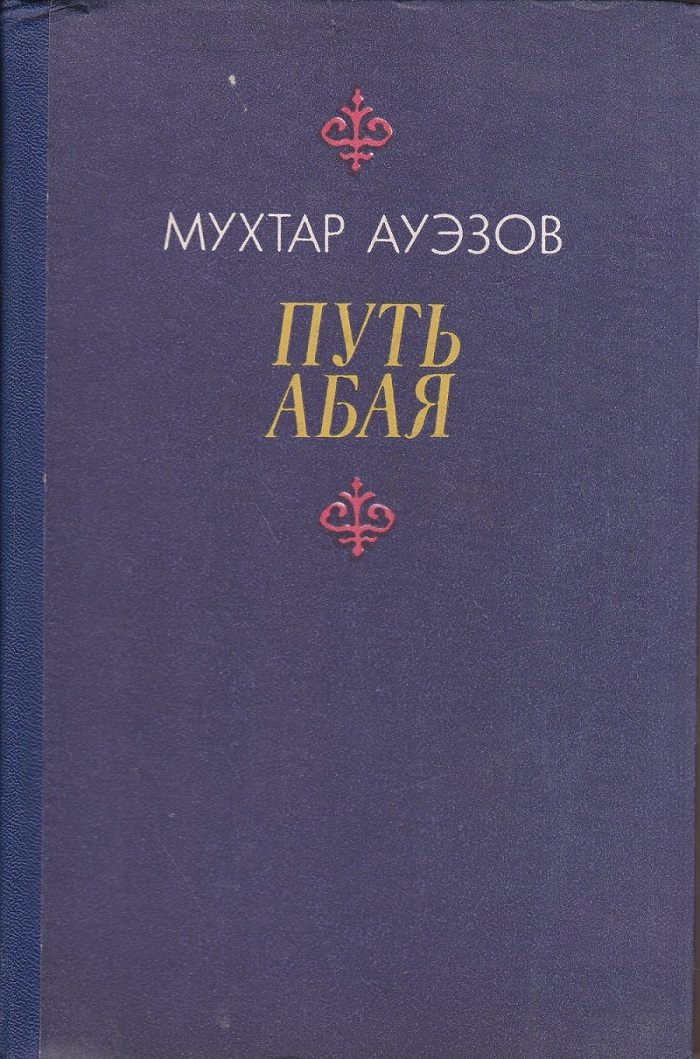
| Аты: | Путь Абая. Книга вторая |
| Автор: | Мухтар Ауэзов |
| Жанр: | Әдебиет |
| Баспагер: | Жибек жолы |
| Жылы: | 2012 |
| ISBN: | 978-601-294-109-8 |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Страница - 13
Тут раздалась внутри юрты чудно исполняемая красивая песня. Услышав ее, услышав голос, Абай решил не прерывать пения и, подойдя к двери, присел на землю и стал слушать. Никто в доме не заметил его появления, только одна лишь Злиха, хлопотавшая у наружного земляного очага, увидела его и подбежала, желая открыть ему дверь. Но Абай тихо подал ей знак, чтобы она не шумела, подошла к нему.
- Злиха! Не утруждай себя. В дом сама тоже не заходи. Ай- герим поет красивую песню, пожалуй, не будем ее прерывать, Злиха. Лучше послушаем! – шепотом произнес Абай.
– Но в юрте нет света! Пойду, зажгу лампу, – тихо ответила Злиха.
– И этого не стоит делать, айналайын! Испортишь только песню!
Злиха беззвучно засмеялась, в полутьме сверкнули ее белые, крупные, чудесные зубы. Молодая служанка поняла его настроение и, тихо отступив, растворилась во мгле сумерек. И вскоре ее силуэт мелькнул перед открытым пламенем земляного очага.
Абай же, сняв с головы тымак, шире распахнув под чапаном ворот белой рубахи, подставил лицо прохладному степному ветерку и, умиротворенный, счастливый, стал слушать песню Айгерим.
Она пела над своим маленьким первенцем: вместе с ее пением слышен был лепет ребенка. Потом он затих, видимо, дитя уснуло.
Айгерим пела песню Биржана «Карагоз», с нежной, прозрачной мелодией. В таинственной предночной тишине, в которую погружался уходящий день, звучала тихая песня грусти и печали. Айгерим пела не в полный голос, и так ее ис-
полнение раскрывало особенные, ранее не слышанные Абаем музыкальные богатства.
Черноглазая красавица моя Остается там, далеко… Если ей без меня легко, Что скажу, безутешный, я?
Айгерим пела нежно, сердечно, отдельные строчки она сегодня исполнила, чуть изменив, и в слова припева вложила не только свою сокровенную сердечную тоску, но и сегодняшнюю тоску и тревогу Абая: его любимая жена, казалось, удивительным образом передавала все самые глубокие, тайно хранимые чувства его души.
После посещения сэре Биржана разнеслась по всей Арке молва об Айгерим, жене Абая, как о необыкновенной, большой певице, живущей в роду Иргизбай. Но в самом ауле Кунанбая эта слава воспринималась как нечто порочащее высокое достоинство богатого аула.
По возвращении Кунанбая из Мекки стали говорить о недопустимости того, чтобы коснулись ушей хаджи слухи, что одна из его невесток распевает песни среди акынов, - Кунан- бай запретил в своих аулах всякие легкомысленные игры и развлечения. И от злых козней Дильды разошлось повсюду, среди многочисленных келин и золовок, мнение, что Абай попустительствует Айгерим, позволяя ей петь. И если случалось, что, оставаясь вдвоем, она, по просьбе Абая, что-нибудь пела для него, об этом начинали судачить по всему аулу как о безнаказанном зле – и при этом опять обвиняли Айгерим.
Поэтому любимое искусство пения, к которому она чувствовала истинное призвание, после замужества в род Иргизбай стало ей не в радость, а в горе. Однажды она попросила мужа, чтобы он больше не просил ее петь. Абай знал причину столь странной просьбы, высказанной со слезами на глазах.
Жалея свою любимую разумную жену, он старался больше не навлекать на Айгерим неприятностей. Но в душе он мучился тем, что, зная о большом таланте жены, он невольно помогает зарыть его в землю.
Он хотел принести ей хоть какое-то утешение, и вскоре она стала охотно внимать ему. Оставшись наедине, они садились напротив, и она с огромным наслаждением слушала его сочинения или исполнение Абаем известных в степи кюев. В такие мгновения жизни музыка приводила их любящие души к волшебному слиянию. В один из таких вечеров, глухой зимою в душном зимнике, где-то очень близко от старых родителей, в минуту, когда Абай закончил игру продолжительного, сложного кюя, Айгерим, словно неслышно охнув, бросилась лицом к нему на колени. Абай отложил домбру в сторону и, осторожно приподняв ее за плечи, спросил:
– Айналайын, Айгерим, что с тобою, любимая? – Обняв жену одной рукою за шею и приблизив свое лицо к ее лицу, он вдруг увидел, что ее глаза полны слез.
И тогда он произнес горькие, беспощадные обвинения против себя:
– Да, я знаю, что ты была соловьем! Ты пела – тебе бы всегда петь соловьем, на весь белый свет, всему живому миру на радость! Тебе бы петь перед истинными ценителями, всех приводя в восхищение! А вместо этого я, тот еще безумец, поймал соловья и запер в золотую клетку! Ты стала пленницей Иргизбая! Я вместе со своим аулом оказался душителем твоей песни, тюремщиком твоего редкого дара!
И вот сегодня плененный соловей тихо изливал свое горе, скрытый в тихом уголке своей невольничьей клетки. Мелодии «Карагоз» она придавала разные новые оттенки, ведя ее по новым утонченным и дивным путям. В Айгерим, кроме ее необыкновенного голоса, обнаружился музыкант, способный творить новые мелодии и обогащать уже существующие. В песне, которую она пела над уснувшим ребенком, слышались
ее и только ее душевные переживания. Она переводила в измененный напев свои чувства - материнской нежности, тревоги за маленького ребенка, спящего возле ее груди, и была в пении ее боль за свою судьбу, и тревога за самого Абая, и признание в великой любви к нему. Абай слушал ее, забыв обо всем на свете.
Долго пела Айгерим, почти до самой полуночи. Абай сидел у порога и слушал ее. Он вошел в юрту только после того, как смолк ее поющий голос. Увидев его, шагнувшего через порог, Айгерим смутилась, но и обрадовалась и живо вскочила на ноги.
– Когда вы приехали? – неуверенным голосом вопросила она.
– А тогда, жаным, когда ребенок еще не спал, а ты начала петь «Карагоз».
Вошедшая вслед за ним Злиха наконец-то смогла разжечь масляную лампу.
В эту ночь Абай поделился с женою одним своим решением.
– Знаешь, что я надумал, пока сидел снаружи и слушал тебя? – начал он. – Сегодня я слышал плачи Каражан. Хоть она и мать умершего Макулбая, но оплакивать свою великую утрату она не умеет. Я слушал твое пение, и в моей голове стали складываться слова под напев «Карагоз». И вот что я решил: я напишу слова плача по бедняжке Макулбаю, а ты найдешь под них напев и споешь завтра в траурной юрте Такежана. Там будут все аксакалы и карасакалы наших аулов.
Айгерим поддержала его. В ту же ночь Абай написал слова плача. Айгерим сидела рядом и заглядывала через его плечо в тетрадку. Она обладала даром музыкального сочинительства, Абай восхищался ее новыми мелодиями, Айгерим же глубоко почитала его поэтический дар. И, глядя на то, как изящно летает его рука над бумагой, как он отрешенно сосредоточен, она по-
нимала, что присутствует при рождении нового выдающегося произведения поэта.
Эта ночь еще более сблизила их. Абай работал вдохновенно и за короткое время написал слова поминального плача.
У сокола, что всех смелей, Злой стрелок соколенка убил; У дерева, что всех пышней, Злой пожар вершину спалил; Срезаны под корень без следа Хвост и грива статного коня… Любовалась на тебя родня – Ты ее покинул навсегда.
Ты померк, и вспыхнуть не успев! Ранней смерти рана тяжела… Солнце греет ниву, а посев Сгубит вьюга, холодна и зла… Жалости у жадной смерти нет, Жди не жди, приход ее жесток: Губит все, стирает жизни след, – Как не лить горячих слез поток? Всеми был дарами наделен, Ласков и разумен мой родной, Рано этот мир покинул он, Нас рыдать оставив над собой…
Когда муж прочел вслух строки поминального причитания, Айгерим расплакалась. Она близко к сердцу восприняла смерть Макулбая, но в слезах ее также была скорбь всех матерей, которым приходилось терять своих детей. Абай прочел стихи несколько раз, и памятливая Айгерим запомнила их наизусть. И тут же в ее душе начала рождаться мелодия к словам.
На следующий день, забрав с собой поминальное приношение, Абай с Айгерим, вместе с неизменной служанкой Злихой,
отправились в траурный аул Такежана. Когда они приблизились к юртам, Айгерим своим бесподобным высоким голосом, исполненным беспредельной скорби, начала плач. Траурная юрта, как и вчера, была полна скорбящих. Айгерим, войдя, прошла к Каражан и села ниже ее, скромно отворачивая лицо от старших женщин семьи и от байбише соседних аулов. Сев боком к их почетному кругу, Айгерим подперлась руками в поясницу и, мерно раскачиваясь, продолжала свой нежный, скорбный плач. Вслушиваясь в него, все аксакалы во главе с Кунанбаем притихли и, потупив головы, замерли. Слова о безвременной смерти совсем еще юного, не пожившего ребенка и беспредельно печальный, хватающий за душу напев Айгерим растрогали и покорили всех. Рыдания, шедшие уже на убыль, вдруг возобновились с новой силой. Аксакалы и карасакалы плакали, как дети, и рукавами утирали слезы на глазах. Не выдержала и запричитала срывающимся голосом старая Улжан.
– Ойбай, жеребеночек ты мой, рано покинувший этот свет! – жалобно вскричала она.
Потрясая головами, лия горючие слезы, карасакалы и ак- сакали расплакались еще сильнее. И Абай, также сраженный скорбью по умершему ребенку и многими другими скорбями и печалями, случившимися в его жизни, и предчувствием неведомых еще потерь и утрат в будущем, бурно разрыдался.
Пение Айгерим траурного плача словно свело всеобщую печаль по умершему ребенку под один общий шанырак, и все почувствовали, что горе у них одно: смерть мальчика, так мало видевшего земную жизнь. И все плакали искренне, горько и безутешно.
После оплакивания настало время читать заупокойные молитвы из Корана. Когда они отзвучали, и в доме стало спокойнее, Кунанбай обратился к Улжан.
– Причитания по нашему внуку вполне можешь доверить своей младшей келин. Пусть она остается в твоем доме до сороковин, пока будут идти люди на жаназа. Пусть она проводит плачи по нашему маленькому Макулбаю.
Эти слова совпали с желанием самой Улжан. И в последующие дни Айгерим, находясь рядом с Абаем и сидя на скорбном месте возле Каражан, исполняла положенные по обряду плачи по умершему Макулбаю – вместо его родной матери.
Всю поминальную неделю Кунанбай оставался в доме Такежана, не возвращаясь в аул Нурганым. Эта задержка послужила причиной для тяжких наветов на кунанбаевскую токал, ибо в его отсутствие по-прежнему Базаралы оставался гостем дома, – Нурганым принимала его уже в отсутствие мужа. По аулам расползлись темные слухи, и хотя открыто ничего еще не было сказано, Оспан не знал, как обуздать свою неуемную ненависть и нетерпимость к Нурганым. Он ненавидел младшую жену отца с самого первого ее появления под шаныраком Кунанбая, и со временем противостояние Оспана и Нурганым, скрытое от посторонних глаз, все больше нарастало, а в связи с последними обстоятельствами дошло до края.
За несколько дней до этого Базаралы приезжал к Кунанбаю, чтобы приветствовать вернувшегося домой хаджи. Кунанбай же всегда выделял Базаралы из всех джигитов Тобыкты, оказывал ему знаки внимания, каких не удостоился перед ним никто из его детей и родственников. Между ними бывало всякое, но Ку- нанбай неизменно считал его одним из самых славных казахов нового поколения. При встрече Кунанбай расспрашивал джигита, как дела у его родителей, правда ли, что они испытывают нужду, и внимательно выслушивал ответы.
Самолюбивый и гордый Базаралы никому не жаловался на свою бедность, но он рассказал Кунанбаю о сиротах сосланного Балагаза: его старшие дети пошли в наемные батраки к состоятельным родичам, младшие бедствуют, не имея даже ежедневного молока. Сам Базаралы приехал в плохонькой одежде, на захудалом коне. Увидев это, Кунанбай велел пере-
дать в его аул пару дойных коров, пять жеребых кобылиц, чтобы они могли доить их все лето. Поручил Нурганым, чтобы она заказала сшить для самого Базаралы тымак и всю верхнюю одежду. Не забыл напомнить, чтобы заказали и кожаные кебисы у сапожника.
Так что у Нурганым не было причин чураться достойного сородича, которого сам муж привечал. Она так и сделала, как он повелел: немедленно приступила к заказам разной одежды для Базаралы, а он по-прежнему жил у них как почетный гость. Но тут случилась смерть мальчика, и Кунанбай немедленно отбыл на его похороны и поминки, Базаралы же остался в его доме, что и дало повод для подозрений и глухой ярости Оспана. Однако Нурганым, обладавшая ясным умом и здравым смыслом, понимала, что ей не надо обращать внимания на него, если распоряжения по дому даны самим хаджи. Не раз посторонние люди говорили ей о гневе и угрозах Оспана, но своенравная красавица на это отвечала лишь одним словом: «Бешеный!»
И вчера, отправляя Акылбая за охотничьей добычей, Нурга- ным хотела лишний раз позлить Оспана, посмеяться над ним, хорошо зная, что воспоследствует со стороны буйного и грубого кунанбаевского сынка. Вернувшийся Акылбай в точности подтвердил все ее предположения, рассказав, как нехорошо и нелепо поступил тот с племянником, который и знать не знал о тяжелой вражде между старшими родичами. Но и это не обеспокоило, а только развеселило Нурганым. Единственное, что задело ее, было откровенное выражение Оспаном своей вражды перед старшим братом, Абаем. Но тут она подумала: «Не может быть, чтобы Абай пошел у этого бешеного на поводу! Посмотрим!»
Прошло еще пару дней, и предел нарастающей злобе Оспа- на, казалось, наступил. Сегодня, ведя в поводу коня к водопою и проходя мимо отцовской юрты, он услышал, как Нурганым и Базаралы громко хохочут, потешаясь над какой-то шуткой. В темном бешенстве Оспан набросился на служанку из дома
Нурганым возле колодца, которая пришла за водой, и стал грубо прогонять ее:
- Убирайся отсюда, да поживее! Для Нурганым в этом колодце нет воды! Не позволю ей поганить свой колодец. Так и передай ей! И впредь, если кто подступит к колодцу за водой для Нурганым, – голову тому оторву!
И тут же, в присутствии замерших от страха и любопытства молодух, приказал своим джигитам, Масакбаю и Дархану: «Днем и ночью караулить колодец! Ни глотка воды не давать для Нурганым!»
Затем, осуществляя свое намерение, Оспан и на самом деле весь день маячил возле колодца, не позволяя никому из дома Нурганым взять воды. Сел на землю, положив рядом тяжелую толстую камчу. А то вдруг вскочил на своего гнедого коня и, выкрикивая страшные угрозы, стал разгонять целую толпу женщин из аула Нурганым, решивших штурмом брать колодец. Кое-кого из них даже огрел плетью.
Вечером заметил двух женщин, которые на верблюде везли в бочке воду, набрав ее в реке, до которой было не так уж и близко. Оспан подскакал к ним и велел слить воду из бочки, прямо с верблюда. При этом передал Нурганым салем: «Капли воды не получит. Пусть лучше сдохнет от жажды. Базаралы пусть поскорее выпроводит. Да поживее, пока его душа не рассталась с телом! Пусть поторопится, если не хочет накликать на себя беду!»
Он не давал им воды целый день, всю ночь, наутро продолжалось то же самое. Оспан в это утро выглядел страшно: огромный, черный от гнева великан. Не находил места, где присесть, мрачно бродил по аулу, растопырив руки, потеряв всякое самообладание. Да и аул Нурганым стал терпеть самое настоящее бедствие, оставшись без воды. Но страшнее этого бедствия был для ее дома тот позор и унижение, что могло обрушить на него безумное поведение Оспана. Обе стороны приближались к опасной черте.
Сама Нурганым была разгневана не менее Оспана. Молодая женщина не стала в угоду ему выпроваживать гостя. Более того, она удвоила внимание к нему, ничего не рассказывала про выходки Оспана. Если она, идя по аулу, была темнее тучи, то, входя в свой дом, принимала беззаботный вид и сияла улыбкой. Базаралы, умный человек, прекрасно видел все то, что происходило из-за него в ауле Нурганым со вчерашнего дня. Водяную осаду Оспана скрыть было невозможно: шум на два аула был великий. Обо всей недостойной семейной войне этой он подробно знал от одной из прислужниц Нурганым. Но, любуясь ее румяным, излучающим любовь радостным лицом, Базаралы делал вид, что ничего не замечает. Он восхищался ее стойкостью, ее бесстрашием и веселым характером, способностью закатиться громким заразительным хохотом в самую, казалось бы, неподходящую рискованную минуту. Он хорошо понимал, что может ожидать его любимую Нурганым и его самого, но пока что не в силах был ничего предотвратить. И не мог просто так уйти, оставив Нурганым одну отвечать за все, поэтому, следуя своему жизненному правилу, решил спокойно выжидать: что же будет дальше?
А Нурганым тем временем нашла замечательный ход, как обойти водную осаду Оспана. Плоская луговина, на которой было разбито стойбище аула, являлась частью обширных заливных лугов, земля там была сырой у самой поверхности, а на небольшой глубине уже подходили грунтовые воды. Нурганым догадалась об этом и решила вырыть свой колодец. Продумав все, она пригласила трех молодых парней от соседей, завела в свою кухонную юрту и сказала:
– Выройте мне колодец прямо тут.
Зная, что с женге Нурганым никогда не надо спорить, джигиты тотчас принялись копать. А Нурганым, наблюдая за их работой, посмеивалась, заранее торжествуя:
– Пусть Оспан грозится своей дурной силой, а мы как раз и оставим его в дураках! Копайте, родные, копайте быстрее да ставьте скорее самовар!
И она со свойственной ей величавостью, грациозной поступью, поводя высокой грудью, гордо прошлась по аулу. Тяжелые шолпы в ее волосах вызывающе позванивали, словно посмеиваясь над Оспаном. Женщины обоих близлежащих аулов подивились дерзости и бесстрашию Нурганым, которая вскоре станет живой легендой среди людей этого края. Еще одной легендой о гордом, сильном характере степной женщины-казашки, которая беззаветно предана своей истинной любви и не побоится за нее отдать жизнь, если дело дойдет до этого...
В эти дни на прохладном, широком урочище Ералы, по долине реки Корык, верстах в пятнадцати от аула Кунанбая, готовились к выборам нового волостного старшины, и поднялась великая суета. Нынешней весной сюда подтянулось более ста аулов, – тут были Бокенши, Иргизбай, Жигитек, Котибак. Также прикочевало многочисленное племя Мамай, зимующее на горе Орда. Потому и проводить выборы было удобнее всего здесь, на Ералы. В стороне от аулов рядами были поставлены большие белые юрты, количеством более двадцати – целое юрточное городище, предназначенное для приема начальства уездного дуана. На этот раз ожидался начальником выборов не кто-нибудь из крупных чиновников корпуса, в сопровождении более мелких «чиноулыков», но сам семипалатинский уездный аким по фамилии Кошкин. Говорили, что он выехал лично сам в степь не только для выборов, но и для расследования какого- то важного дела.
Он появился в Ералы в сопровождении большого каравана из «чиноулыков», урядников, вооруженных стражников, многочисленных аткаминеров двух волостей. Повозки с тройками, с колокольчиками на дугах образовали целый поезд, впереди которого по обеим сторонам дороги скакали шабарманы с медными бляхами на груди и казенными сумками через плечо. В первый же день своего появления в степи, по дороге на выборы, уездный аким Кошкин подверг наказанию розгами двух волостных начальников, кызыладырского и чингизского,
имевших какие-то провинности, но тем не менее выехавших навстречу высокому начальству. И полетела впереди властного каравана зловещая весть, что едет не начальник, а зверь, и кличку ему дали мгновенно: Тентек-ояз, что означало - Бесноватый начальник.
Абай в эти дни вернулся в свой аул, чтобы пожить в уединении, но все его друзья присылали своих гонцов, настойчиво призывая его быть в Ералы на выборах. Пришлось выехать.
Отправившись из Акшокы по дороге вдоль реки Корык, Абай заехал в один бедный аул, находившийся совсем недалеко от временного чиновничьего городища.
Аул состоял из многочисленного скопища ветхих юрт, вид которых не радовал глаз путника. Юрты все были из серого, взлохмаченного войлока и смотрелись как грязная, залатанная одежда нищих, аул же напоминал их безрадостную толпу, бродившую после джута по степи в поисках пропитания. На пустоши вблизи аула не было видно ни одного привязанного сиротливого жеребенка, ни одной пасущейся лошади или верблюда. В самом ауле, на тех местах, где должны быть загоны для скота, не было видно овец. И лишь в некотором отдалении от аула маячили в полынной степи разрозненно пасущиеся коровы. Это все явилось картиной ужасающей бедности и полной беспросветности существования жителей аула.
Абай знал, что этот аул называется в народе Коп-жатак – то есть бедняк на бедняке. Здесь действительно собрались бедняки из самых разных племен и родов. Еще ранней весной, когда Абай перекочевал в одиночку на Акшокы, к нему за помощью приходили аксакалы из этого аула, который плохо перенес прошедшую зиму. Приходивших стариков звали Дандибай и Еренай. Тогда Абай оказал им посильную помощь, они увезли с собой продукты пропитания. В тот раз изможденный Дандибай поведал ему следующее:
– Мы, жатаки всей степи, из единого рода, и род наш можно назвать Жатак, бедняк то бишь. В наш Жатак пришли люди
разных племен и народов – сорок родов передали нам своих бедняков. Одна часть из нас зимует на Байгабыле, Миялы, другая часть – на Киндикти и Шолпан, эти урочища находятся недалеко от тебя. А в нашем Коп-жатаке живут те, что ушли искать свою судьбу из племени Мамай, зимующего у горы Орда, а также горемыки из разных родов, гоняющих скот через Чингиз по перевалу Кокше. Зимой всем скопом спасаемся, как можем, расползаемся по низинам, залезаем в брошенные зимники и пытаемся как-нибудь не замерзнуть да не помереть с голоду. С приходом весны, по теплу, сбиваемся в артель по три-четыре очага и принимаемся копаться в земле. Знаем – кто копается в земле, тот не останется совсем без пропитания, поэтому и занялись земледелием. Для нас это хорошо, что вы строите зимовье возле нас, мы всегда будем готовы помочь вам чем угодно! Понадобятся рабочие руки – обращайтесь к нам!
В тот раз Абай не воспользовался предложением Дандибая, ответив так:
– Коли вы оказались в племени Жатак, и вам земледелие дает верную пищу, то и надо вам заниматься землей! А весна для земледельца самая ответственная и тяжелая пора – вам надо посеяться. Благодарю за вашу готовность помочь, но я не хочу отвлекать на себя ваши силы. Построить зимник – люди сейчас найдутся, а вот потом мне ваша помощь понадобится. Будем добрыми соседями!
И вот теперь он впервые попал в этот аул Коп-жатак. Абай решил свернуть сюда, прежде чем прибыть на выборы. Еще на подходах к аулу Абай с неизменным другом и спутником Ерболом молча переглянулись: кто здесь может жить? И догадались – жатаки.
– Да, это Коп-жатак. Апырай, как страшно может выглядеть нищета! Что это за кучи рухляди валяются по краям аула? – спрашивал Абай, остановив коня рядом с Ерболом, который невольно натянул повод, увидев жутковатый аул на пути.
Но это была не выброшенная рухлядь, не горы мусора и не свалка старых вещей – перед путниками, въехавшими в аул, предстали маленькие черные убогие балаганы, накрытые заплатанной во многих местах кошмой, приземистые, серые, скособоченные глиняные строения без окон, с плоской крышей. В тесных захламленных двориках в великом беспорядке валялись вперемешку старые сломанные деревянные кровати, старые выброшенные сундуки для хранения вяленого мяса, плетеные короба для перевозок на верблюдах, пришедшие в негодность вьючные седла, воткнутые в землю рогатины. И кое-где посреди этого ералаша можно было увидеть черные круглые головы детишек, попадались на глаза укутанные в ветхие шубенки и чекмени старики и старухи, еле живые от своей старости и бедности.
Но Ербол воспринял всю эту картину безысходной разрухи совсем по-особенному.
- В Ералы иногда дуют страшные ветры. Думаю, что недавно здесь прошел такой ветер и порушил дома. Вон там, на той стороне аула, особенно сильно прошелся ураган, видишь, все юрты посрывало.
- Сейчас узнаем, что случилось, - отвечал Абай, заворачивая коня к низкому, кривому, подслеповатому саманному зимнику, окруженному толпой черных шалашей, покрытых старым войлочным драньем.
И тут навстречу вышел огромный костлявый старик Дар- кембай. Абай был поражен, что встретил его в этом поселке жатаков.
– Уа, Даркембай, и ты здесь? Как же я ничего не слышал об этом? – воскликнул Абай.
- Не слышал, потому что я перебрался сюда совсем недавно. Вот, думаю, жизнь доживать буду в этом ауле, среди этих людей, – не сразу ответил старик. – Тридцать-сорок очагов в ауле этом ничуть не богаче моего, но и не беднее, мы ровня. Оказалось, я ничего не нажил за свою долгую жизнь, плетясь
за стадами Суюндика и Сугира. А когда постарел, никто из их богатых домов не сказал мне: «Когда ты был молод и в силе, ты оказывался нашим защитником, стоял за нас с соилом в руках. Зимой ты охранял наши табуны. Пусть твои труды вознаградятся тебе на старости лет. Да не станет тебе старость тяжкой обузой». Но удел мой таков, наверное, – ничего подобного я не услышал. И не стали звать меня, как будто не знают меня. Но и сам я не хочу больше плестись за их караваном, с трудом нести свое ветхое тело за стадами чужого скота. Я хочу успокоиться среди подобного мне люда. Буду заниматься тем же, чем занимаются они. – Так рассказывал Даркембай, стоя на дороге перед Абаем, с насупленными бровями, горько улыбаясь.
Путники спешились, привязали лошадей к ограде и уселись на земле вместе с Даркембаем.
– Есть ли у тебя здесь сородич, хоть какой-нибудь близкий человек есть? – спросил у него Ербол. – Говорится ведь, что даже яд легче принимать вместе с родичами. Когда уходил от своих, подумал ли о том, на кого ты можешь опереться, кто может заступиться за тебя?
Он спрашивал с таким видом, таким голосом, словно упрекал Даркембая, который был из того же рода Бокенши, что и Ербол. Старик, не оглянувшись на него, говорил одному Абаю.
– У меня и в Бокенши нет близкого человека, как и в Борсак. Никто не может заступиться за меня. Мои родственники теперь – сорок бедных очагов этого аула. Родственники не по крови, но по жизни. Братья по несчастью. Нас породнило общее горе.
Ербол хмуро посмотрел на него:
– Как же это так?
Даркембай, по-прежнему глядя на одного Абай и упорно не замечая Ербола, отвечал:
– А вот так, Абай.
Посидев в глубоком молчании, Даркембай вдруг поднял голову и, обводя концом толстой палки убогие лачуги аула Коп-жатак, снова заговорил. Теперь в его голосе не звучало
горечи и обиды, заговорил он спокойно, ровно. Лишь изредка едва заметно проскальзывала под седыми усами старика едкая улыбка.
– Вон там живут люди из родов Карабатыр и Анет, они круглый год пасли скот у иргизбаев Акберды, Мырзатая, да и у твоего отца в ауле Кунке. А вон там – «бедные соседи» аулов Божея, Байдалы и Тусипа. У этих баев люди ходили в прислугах, в пастухах, наемных батраках. И что же? Все они, так же, как и я, к старости оказались голыми и плешивыми, на большой дороге, с нищенским посохом в руках. Если спросят, какие же баи проживают в этом ауле, то скажут, что здесь проживает старый Даркембай, худосочный старик Дандибай и еле живой, хворый старик Еренай! Все – славные и богатые владетели! Все пробегали жизнь за чужой скотиной, растратили здоровье, спасая чужие табуны и стада в лютые снежные бураны, спали на снегу, под голову подложив кусок льда! Зайдите в каждую из этих дырявых юрт – и увидите, о Алла, одних убогих, больных стариков, рядом с ними - их молодые сыновья, которых слишком рано убила бедность или какая-нибудь злая болезнь. Один болен грудью, кашляет, у другого суставы разнесло, трещат, у третьего руки отморожены. Кто-то лишился глаза, кто-то ноги – словом, одни калеки убогие! Вот это и есть жители рваных лачуг и черных шалашей, и все богатство их – немеряная нищета и бедность. Люди, оказавшиеся не в силах бежать за богатыми караванами Кунанбая, Божея, Байсала, Суюндика, Каратая – и брошенные на дорогах. Вроде того хлама и грязной ветоши, дырявых ведер, что остаются на месте становий, когда уходит аул. Да, и я такая же выброшенная ветошь – чем я лучше? Ербол, вот ты говоришь: «Даже яд принимать вместе с родственниками легче!» Ты прав. Но сегодня, сейчас, мои родственники – здесь. У меня общий с ними родовой клич: «Жатак!»
Глубоко задумавшись над словами Даркембая, Абай, ломая шапку в руках, то, сокрушенно вздыхая, то, хмурясь гневно,
беспокойно ворочался на месте. Наконец, близко склонившись к Даркембаю, молвил, заглядывая ему в глаза:
- Оу, Даркембай! Зло и бедность терзают народ. И это раскрыло тебе глаза. Ни к чему наше казахское красноречие, наше остроумие, искусное славословие, если слово не обладает силою правды! Какой же Кунанбай, какой Суюндик устоял бы перед разящей силой твоего правдивого слова? Неужели нашлась бы хоть одна честная, разумная душа, которая могла бы возразить Даркембаю? Нет, каждый бы сказал: «Всех разом, одним ударом уложил Даркембай!»
