Путь Абая. Книга вторая — Мухтар Ауэзов
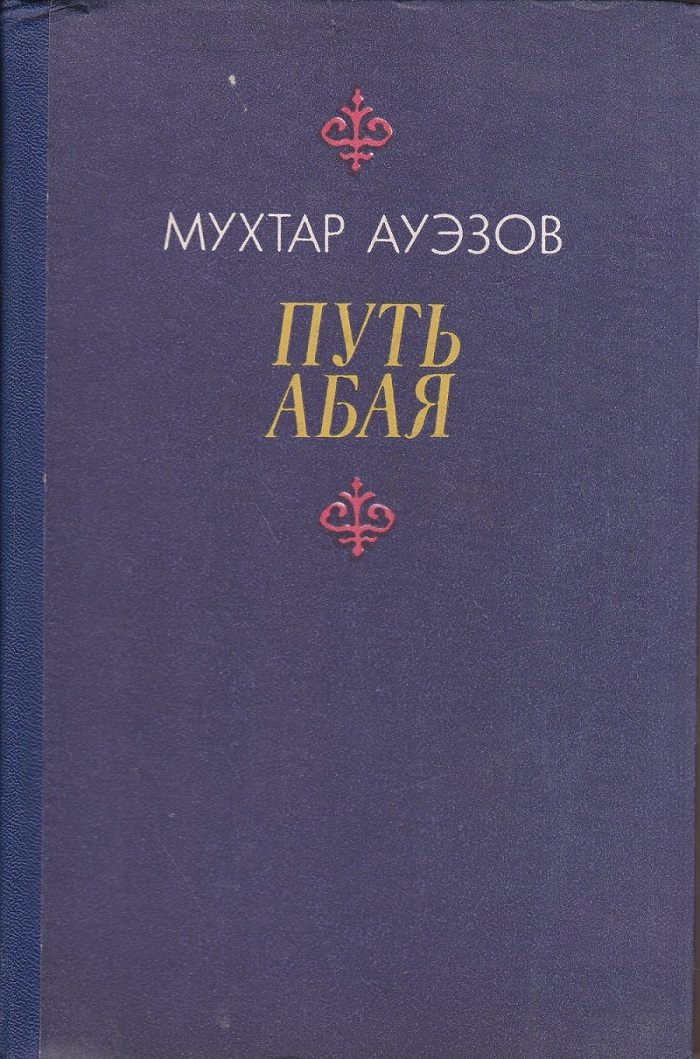
| Аты: | Путь Абая. Книга вторая |
| Автор: | Мухтар Ауэзов |
| Жанр: | Әдебиет |
| Баспагер: | Жибек жолы |
| Жылы: | 2012 |
| ISBN: | 978-601-294-109-8 |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Страница - 33
Эти две книги были никому другому в ауле не понятные книги русских акынов – Пушкина и Лермонтова. С появлением этих книг в доме хозяином были забыты все «хикметы», «шейхи», «хафизы», «рубаяты», но некоторые благочестивые правоверные, коим приходилось останавливаться в доме Абая, видя его читающим эти толстые книги, преисполнялись к нему величайшего уважения: они думали, что он читает шариат, и пытались угадать, что именно.
- Наверное, читает поминальный хатым из Корана. Сам читает, ему и муллу не надо просить! Это большая заслуга перед Аллахом! Зачтется ему.
Но увидев, что книга раскрывается не с той стороны, как арабские книги, и в ней нарисованы какие-то картинки, благочестивый гость оказывался убитым наповал и замолкал, вытаращив глаза и ухватив себя за бороду.
– Но для чего же читать с таким усердием эти неправоверные писания? – молвили они язвительным шепотом. – Е! В нем это гордыня говорит, высокомерие сказывается! Хочет показать, что он ближе к русским властям, чем все остальные!
Абай знал, что многие из тех, любимых, что пришли в его жизнь из этих книг, останутся бесконечно чуждыми, словно призраки, для тех людей, которые окружают его в просторном степном доме. Но он старался особенно не переживать из-за этого.
Знал он также, что многих его соплеменников беспокоит то, что он столь привязан к неживым своим друзьям из книг. Но разве можно назвать их неживыми? Нет, они-то как раз не мертвы – они бессмертны, они заповедали миру навеки запомнить их имена!
Люди умирают, в память о них остаются одни могильные холмики. Но и эти бренные знаки внимания к ушедшим со временем
стираются, могилы оседают и сравниваются с землей. С этим память о любом человеке и угасает навсегда. Угасает в вечности. Тогда и приходит конец ему - истинный, окончательный, бесповоротный... А эти два русских человека, которых казахи даже не знают, утвердили память о себе на земле, незыблемую и величественную, как две вершины Акшокы, вознесшиеся к небу.
Абай подумал: «Благословен народ, просветленный великим искусством. Уа, если бы и нам предки могли оставить такие драгоценные клады знаний!» Эти два русских поэта представляются Абаю двумя близкими между собой людьми, как родные братья.
...Был старший брат, в котором кипели сила ума и гнев, который умел побеждать грозным оружием своего искусства, умел ненавидеть и любить, и который сгорел от своего пылающего внутреннего огня. За ним - младший брат, видевший всю отчаянную душевную муку старшего брата и со словами: «Погиб поэт, невольник чести!» – сам бросившийся в смертельную схватку с убийцами и погибший от их рук.
Абай задумчиво пробегал глазами строки письма Татьяны Онегину.
– До чего прекрасен язык! – невольно воскликнул Абай. – Не стихи, а дыхание сердца! Его живое, сильное биение! И какая глубина и сила нежности!
Тут глаза Абая ушли в сторону от книги, – и он вспомнил свои стихотворные строчки, которые пришли к нему вскоре после прочтения письма Татьяны:
Речь влюбленных не знает слов.
У любви язык таков:
Дрогнет бровь, чуть вспыхнут глаза – Вопрос иль ответ готов.
Это были начальные строки стихотворения, рожденные сочувствием к чужой страстной и нежной любви, а не своими лю-
бовными чувствами. Их отсвет уже ускользал из его души, как тает утренний туман. Он захотел вспомнить: «Приходилось ли мне слышать от кого-нибудь подобные слова?» И тогда сразу два светлых женских образа явились перед его внутренним взором. Две яркие звезды пронеслись по небосклону его жизни, сгорая – вспышкой своей любви взывая к его сердцу. Одна сгоревшая звезда – молодая, пламенная Тогжан; вторая – Салтанат, которая погасла, не согрев ни свою, ни его душу.
Вчера Абай начал перевод на казахский письма Татьяны. С неимоверной болью в сердце понял, что все эти три женские судьбы, одинаково страшно и бесповоротно подчинившиеся здравому смыслу и воле недоброй судьбы, вынуждены были отказаться от великой своей любви и покорно склонить шею под ярмо житейской обыденности. И все то время, пока Абай переводил письмо Татьяны, в его памяти всплывали невыносимо печальные, тоскливые прощальные слова двух женщин, любивших его. И в строчки его казахского письма Татьяны Лариной сами собой вплелись слова и чувства Тогжан и Салтанат. «Если они когда-нибудь услышат эту песню, то поймут, что песня – про них...» – думалось ему.
Чем дальше работал он над переводом письма, тем всё более выразительные и близкие душе Татьяны казахские слова он находил. Правда, язык нежной русской девушки на казахском звучал проще, обыденней, но то была невольная уступка – дань уровню новых слушателей. Однако и в этом случае Абай тревожился: поймут ли они? Поймут ли акыны – Кокпай, Мука, остальные?
Между страницами «Евгения Онегина» оказалось заложенное туда письмо Михайлова, привезенное из Семипалатинска Бай- магамбетом, когда тот последний раз ездил в город за книгами. Это письмо русского друга было ответом на восторженный отзыв Абая по прочтении им стихотворного романа Пушкина. В письме Михайлов, в частности, написал: «А в Москве и Петербурге все светское общество, вся публика сходит теперь с ума, слушая
новую оперу по «Евгению Онегину». Говорят, что музыка удивительно точно передает чувства пушкинских Татьяны, Ленского, Онегина. Жаль, что нам здесь этого услышать не суждено!»
Вновь прочитав это место в письме, Абай усмехнулся, подумав: «А все эти Акылбай... Мука... Бедолаги, как они стараются спеть своими красивыми голосами всякую чушь несусветную за подачку от какого-нибудь прославляемого бая, бия, волостного...» Он взял в руки домбру и, все так же усмехаясь, подумал: «Пожалуй, попробую дать им заработать вместо дешевой бязи – дорогого шелку...»
На него снизошло истинное вдохновение. Забыв обо всем, он сидел у окна и, время от времени поглядывая слезящимися глазами на ослепительно белые вершины Акшокы, наигрывал на домбре мелодию и тут же подбирал к ней слова. Тихим голосом напевал:
Амал жоқ, қайттім білдірмей, Япырым-ау, қайтіп айтамын?[19]
Эти две строчки легли в начало абаевской песни «Письмо Татьяны», которой вскоре суждено было стать любимой песней во всей степи.
Не скоро он закончил свое новое сочинение, но, проиграв несколько раз мелодии трех куплетов, Абай почувствовал, что работа завершена. Улыбаясь, весело сверкая глазами, он обратился к Баймагамбету:
– Шырагым, Байке, чем ты занят?
Баймагамбет несколько растерялся. Он как-то пропустил тот момент, когда столь резко переменилось настроение Абая. С не очень уверенным видом глядя на хозяина, нукер-секретарь протянул руку, в которой была камча с рукояткой из таволги и новым ремешком-петелькой на конце.
– Вот, Абай-ага, приделал петлю, стало быть, – ответил он.
- А ты понял что-нибудь из песни, которую я сыграл? - спрашивал Абай.
– Чувствую, что в вашу песню попало что-то русское, – был ответ.
– Правильно почувствовал, Байке! Теперь пойди, айналайын, приведи сюда Кишкене-муллу.
Отдав распоряжение, Абай снова склонился к домбре и заиграл свою новую мелодию. Когда Баймагамбет выходил из комнаты, в дверях он столкнулся с Айгерим. За ее спиной толпились какие-то люди. Она вошла, посторонние люди вошли вслед за нею. Абай продолжал играть. Айгерим молча, с отрешенным видом, стояла в ожидании, когда он кончит играть. Наконец он завершил мелодию и, подняв голову, молвил:
– Уа, какой сегодня мороз, оказывается!
Айгерим, все с тем же отрешенным видом, к которому добавилось удивление, сказала:
– Абай, какой мороз? Сегодня он не так уж и крепок!
Абай:
– Я-то думал, что мороз с улицы ворвался, а это, оказывается, люди пришли!
Айгерим поняла, что имеет место один из тех случаев, когда Абай говорил что-то непонятное для окружающих людей - возможно, иносказательное. Улыбнувшись, она оставила приведенных гостей перед Абаем, сама покинула комнату, ушла через боковую дверь к себе.
В эту же минуту пришел Кишкене, за кем Абай посылал своего нукера. Мулла Кишкене как раз закончил занятия с детьми в соседнем школьном домике. Увидев его, Абай встрепенулся и обратился к нему, по-прежнему не уделяя внимания посетителям.
– Ты хотел переписывать письмо Татьяны, молдеке. Так вот, теперь Татьяна и запела у меня.
- Это хорошая новость, Абай-ага! А я как раз успел все переписать.
- Теперь напиши письмо Муке и Магашу. Напиши так: «Татьяна шлет свои салем и желает, чтобы они познакомились с нею». Кажется, наш Мухамеджан собирается поехать в город, через него и передай письмо, – сказал Абай.
Мухамеджан также находился в комнате, зашел вместе с Айгерим и посетителями. Он удивился, что всегда занятый своими мыслями Абай знает о его предстоящей поездке. И ему захотелось узнать основательнее и о письме Татьяны, и о песне, которую она «запела».
Посетители между тем ждали, сидя у выхода, даже не сняв шапки и не распустив пояса. Им совершенно было непонятно, что это за песня, что за Татьяна, да им и понимать всего этого не хотелось, и они сидели не шелохнувшись, как истуканы.
Мухамеджан решил задержаться в комнате, снял верхний чапан, свернул и отложил в сторону, снял тымак и спросил у Абая:
– Ага, что вы пели сейчас? Хотелось бы еще послушать.
Абай молча, не удивившись просьбе, взял домбру и тотчас начал вступительный проигрыш. Потом запел – и спел три куплета из только что сочиненной песни. Закончив петь, также не стал ни о чем говорить, а отложил домбру – и наконец-то обратился к посетителям:
– Какие новости? Куда держите путь, зачем?
Мухамеджану хотелось еще раз услышать песню, чтобы лучше запомнить мелодию и слова «Письма Татьяны», но просить об этом Абая было сейчас не к месту. И Мухамеджан решил остаться на обед, чтобы задержаться в доме и все же послушать повторение песни. Он вместе с Кишкене отправился к нему, в школьный дом.
Сидевшие перед Абаем люди были один из рода Кокше, двое из Уак. Абай смотрел на них, и вдруг ему показалось, что происходит некое сверхъестественное явление. Эти люди, в том же составе, в тех же одеждах и шапках, с теми же косными, черствы-
ми лицами, в тех же самых позах и на том же самом месте, уже сидели перед ним. Странная мысль пришла к нему: может быть, он когда-нибудь видел их во сне, а теперь они пришли к нему наяву? Или наоборот: он встречался с ними когда-то, а теперь видит эту встречу во сне? Или имеет место некое раздвоение жизненных явлений?
Но посетители заговорили, и Абаю вскоре все стало ясно. Никаких раздвоений бытия – эти степняки, вор из племени Кокше, по имени Турсын, и пострадавший от него Сарсеке из рода Уак, действительно уже были разок в этой комнате. Уходя в мир творчества, Абай хотел забыть о некоторых наиболее непривлекательных делах и тяжбах, которые он разбирал для просителей – и он забывал о них. Но они его не забывали. В прошлый раз конокрад Турсын, кряжистый, как корявый обрубок ствола, сидел точно так же, низко опустив голову, и из-под лохматого тымака был виден только кончик толстого носа. И пострадавший истец, коротышка Сарсеке, все так же корчился, расползался жирным телом, и с пеной на губах доказывал свою правоту... И в этот раз он делал то же самое – и точно так же суетливо, крикливо, многословно... Только на этот раз шла речь не о трех лошадях, которых украл вор, а о пяти, угнанных им при повторной барымте.
- Он прошлым разом так решил: «Уак не дал мне попользоваться добычей, вывернул меня наизнанку перед Абаем, а я его за это еще раз накажу. Посмотрю, мол, что на этот раз сможет сделать со мной уак». И угнал пять лошадей, и еще – погрузил на них вьюки с украденными в моем ауле коврами, шубу спер. Абай-ага, разберись с ним! Это злодей тот еще, люди плачут от него! – Так обвинял дважды пострадавший Сарсеке, и голос его тарахтел размеренно, как пестик в деревянной ступе.
Абай захотел посмотреть вору в глаза - другого способа подобраться к правде не было у третейского судьи. Но громоздкий, как чурбан от толстого кряжа, Турсын сидел, низко опустив голову
над скрещенными кривыми ногами, – словно скрывая свое лицо под шапкой, и отнюдь не намеревался отвечать истцу, делал вид, что не слышит его.
Все же ему пришлось отвечать на вопрос Абая, заданный грозным тоном: «Ну, а ты что скажешь?» Черный мерлушковый тымак Турсына медленно поднялся – и взору Абая предстали маленькие и острые, как буравчики, глаза скотокрада. Они зыркнули на Абая и тотчас ушли в сторону. И ответ его был таков:
– В прошлый раз я о...о...отдал ему свой скот. Вы же ве...ве... велели, Абай-ага. Я и отдал – всех своих ко...коней, – наконец произнес Турсын, заикаясь. – Че-чего мне... возмещать всякую его потерю?
Кто из них прав? Кто лжет? Но когда же его соплеменники перестанут воровать друг у друга, лгать, клеветать, разбойничать? А он, поэт Абай, – разбираться, копаться во всем этом дерьме? Только что, совсем недавно с ним рядом был Пушкин, изливались нежные, как шелк, слова Татьяны из ее прелестных уст... А теперь? Толстомордый истец, со звериной жадностью оспаривающий свой скот, и матерый вор, лелеющий свою воровскую радость в дремучей душе.
«Такова наша жизнь? Не пройдет никогда эта беспросветная муть. Оу, зачем она нужна, такая жизнь! Прозвучит ли в ней твой звонкий, удалой голос, Пушкин? А мой собственный?» - так думалось Абаю в эту тоскливую для него минуту, и он снова взял в руки домбру и начал играть вступление к «Письму Татьяны».
Но на этот раз музыка не взлетела, не поплыла по воздуху, она заковыляла, словно спутанная лошадь. Видно, жалобы Сарсеке и отговорки Турсына подавили ее. Абай в досаде отложил в сторону домбру.
Между тем истец и ответчик принялись спорить между собой, в своей перепалке забыв про судью. Абай послушал их обоих и выяснил для себя – и без допроса, – что у пострадавшего нет свидетеля, который подтвердил бы повторное воровство Турсы- на. Абай тяжко вздохнул и сказал:
– Апырмай, братья! Почему бы вам за разрешением вашего спора не обратиться к другому человеку? Я не могу здесь увидеть истину. Вы обратитесь лучше к Акылбаю!
Его предложение не приняли оба. Турсын заявил: «Мы готовы подчиниться любому вашему решению. Судите!»
После этих слов Абай более приветливо, чем раньше, посмотрел на отъявленного вора и конокрада.
– В таком случае поклянись, что скажешь мне правду! Если даже придется тебе умереть! Ты брал лошадей или нет?
Турсын не дрогнул, ответ дал без промедления. Заикаясь, молвил с самым истовым видом:
- Абай-а...а...ага! Клянусь... Чтоб мне по...подохнуть на месте... Вот Аллах, а вот Ко...ко...коран...
И с самым решительным видом, словно и на самом деле готовый умереть перед уважаемым Абаем-ага, неуловимо быстрым, истинно воровским залихватским движением схватил за околыш свой черный мерлушковый тымак и мигом задрал его со лба на макушку, предоставляя судье полюбоваться своим честным лицом. Абаю ничего не оставалось делать, как быстрее выносить свой судейский вердикт:
– Сарсеке, у него нет твоих коней. Ищи свой скот в другом месте.
Турсын с довольным видом, молча вернул тымак на свое место, то есть надвинул на глаза. Промолчал и толстенький Сарсеке, только низко опустил голову на грудь. Завершив суд, Абай бодрым голосом сказал:
– Ну все, мои братья! Спор окончен. Теперь идите в гостевую комнату, хорошенько там покушайте!
С душевным облегчением, отпустив посетителей, Абай снова взял домбру в руки и склонился над книгой, возвращаясь к письму Татьяны. Ему в одном месте хотелось проверить и улучшить по музыке.
Между тем Турсын, Сарсеке и его спутник, не промолвивший ни слова на суде, проходили по длинному полутемному кори-
дору, направляясь в гостевую комнату. Турсын пропустил истца вперед, сам пошел сзади, и сейчас, посмотрев на его уныло сгорбленную спину, залился тихим, но от этого не менее отвратительным для Сарсеке смехом. У Турсуна такая привычка была: закатываться долгим смехом, когда он бывал чем-нибудь особенно доволен.
Этот известный вор имел, сам ничего не ведая о том, замечательные способности лицедея. Дело прошлое – ненастной осенью, поленившись ехать за добычею далеко, он увел у своего же соседа Каная трех коней и пустил их на мясо. Тогда же Канай и Сарсеке, его родственники, потащили Турсына на суд к Абаю, и когда тот, веривший в добро человеческое, прямо спросил у вора: «Взял или не взял? Говори честно!» Тот смекнул быстренько, что ему не отвертеться перед прямыми уликами: нашли недалеко от его юрты место с кровью на земле и с выброшенной шкурой, – и ответил, глядя прямо в лицо судье: «Взял! Гадом буду, взял! Выноси скорей приговор!» Почти что растроганный, Абай воскликнул: «Считайте, что он купил меня, дал крупную взятку! Эта взятка – его чистосердечное признание! Пусть вернет трех своих коней, вместо ваших, – и кончим на этом!» А через несколько месяцев вор угнал у Сарсеке сразу пять лошадей, той же ночью сплавил их надежным образом и, когда снова его потащили на суд к Абаю, разыграл перед ним известную сцену... Его расчеты оправдались, он выиграл не только у Сарсеке, но и у самого Абая...
И теперь, проходя длинным коридором зимника Абая, вор смеялся именно над этим: как он ловко провел судью, наивно, словно ребенок, верившего клятвам и честному слову.
Итак, оставшись, наконец, в одиночестве, Абай принялся упорядочивать слова и мелодию песни Татьяны. Но работа что-то не шла, прошедший суд сбил всякое творческое настроение. Он еще мучился с домброй и книгой Пушкина, когда к нему вошли Кишкене-мулла, Мухамеджан, а впереди них, держа в руках до-
ску для игры в тогыз-кумалак и кожаный мешочек с костяными шариками, шел Корпебай, известный игрок.
Для Абая это была любимая игра. В зимнее время, засиживаясь у себя дома, он частенько зазывал к себе таких игроков в кумалаки, как Макишев Исмагул, Маркабай или – сегодняшний гость, Корпебай. Сам Абай также считался одним из сильнейших игроков в эту степную игру.
Увидев Корпебая с доской и мешочком в руках, Абай понял, что работы уже не будет, и отложил в сторону домбру и книгу Пушкина.
– Ну, давай, раскладывай доску, постараюсь не дать тебе ни разу выиграть! - говорил Абай, усаживаясь напротив Кор- пебая.
Точеные шарики из желтой кости со стуком посыпались на доску, проваливаясь в ямки. Правая рука Корпебая летала над ней, пальцы ее действовали удивительно быстро. Невозможно было понять, каким образом из полной горсти мастер тогыз-кумалака умудряется выбрасывать точно по девять шариков.
Противники погрузились в игру. Мулла Кишкене, Мухамеджан и Баймагамбет следили за ней.
Мухамеджан уже успел переписать стихи Абая к «Песне Татьяны», дал на проверку Кишкене-мулле, а рукопись Абая сложил вчетверо и спрятал себе в карман. Он не требовал назад своих рукописей, и если его ученики или друзья переписывали стихи, оригиналы разрешал им оставить себе.
Мухамеджан с тайным нетерпением ждал случая, чтобы еще раз услышать напев «Письма Татьяны». Однако Абай, увлекшись игрой, и не вспоминал о своей новой песне.
Мухамеджан, родственник Абая, тоже пел, он сам себя считал – и не без основания – неплохим сэре, а также баловался и сочинением стихов. Он знал наизусть многие стихи Абая и всегда старался первым разучить его новые песни. И в этот раз ему не терпелось скорей выучить мелодию и текст «Письма Татьяны».
Видя, что Абаю не до своей новой песни, Мухамеджан вынул из кармана рукопись Абая, разгладил бумагу на коленях и стал заучивать слова... и они словно впервые предстали перед ним! Необыкновенный, тонкий, трепетный, благозвучный язык «Письма Татьяны» захватил и поразил молодого поэта. Никогда еще он не читал у Абая таких совершенных стихов. «Это же новое слово!» – восторгался Мухамеджан, склонившись над рукописью.
Абай по-прежнему был целиком захвачен игрой в кумалаки, вел отчаянное сражение против Корпебая. И тогда молодой сэре, взяв домбру Абая, стал тихонько перебирать струны и попробовал напевать разные песенные мотивы, стараясь уложить в них слова «Письма»: «Амал жоқ, қайттім білдірмей, Япырым-ау, қайтіп айтамын?» Так, он попробовал мелодии знаменитых «Ак-Кайын», «Топайкок» – Татьяна не хотела петь на эти мотивы! Раздосадованный, он поднял глаза и поймал на себе взгляд Баймагамбета. Тот, понимая его и сочувствуя, решил ему помочь... Начал осторожно отвлекать Абая от игры.
– Оу, Муха! Не хочет, что ли, Татьяна знаться с «Ак-Кайын»? – нарушив тишину, довольно громко спросил Баймагамбет.
– Не только с «Ак-Кайын», ни с какой другой песней не хочет сойтись... Татьяна эта, оказывается, не простая...
- Может, бейт[20] или терме подойдут? - высказал предположение Баймагамбет и покосился в сторону Абая.
И только тут Абай обратил внимание на их разговор.
– Что вы такое несете! – с досадой проворчал он. – Какой бейт? Татьяна не «Акбала»! Никуда, в Багдад или Египет, не пойдет за песнями!
И тут Абай, быстро переметнув шарики, попал одним из них в срединную ямку противника. Абай радостно захохотал, весь сотрясаясь от смеха. Ошарашенный Корпебай нахмурился. Кишкене-мулла, азартно следивший за игрой, дернул свою рыжую бороду и закричал:
- Астапыралла! Да это же туздук[21]! Причем отменный туз- дук!
Столь чувствительный успех в игре поднял настроение Абая, и он вернул свое благосклонное внимание к молодежи.
– Что, Баймагамбет, не хочет Татьяна запеть по-нашему? Она, наверное, думает: «Пусть за меня споет казахам Мухамеджан. У него получится, он хорошо поет!» Ну-ка, дайте мне домбру, попробую я сам спеть.
Абай широко, непринужденно повел мелодию на домбре. Утреннее вдохновение словно вернулось к нему вновь. Он улыбнулся красивой своей улыбкой и, не прерывая игры, произнес:
– Все-таки она решила запеть!
Глядя на своих молодых друзей, Абай начал петь. Он исполнил два куплета своей новой песни, когда открылась дверь комнаты Айгерим, – и она вышла оттуда. Вслушиваясь, подошла и села рядом с мужем.
Мухамеджан попробовал запеть вместе с Абаем во втором куплете, но тут Корпебай, оставленный без внимания, неожиданно сделал самый большой туздук и победно завершил игру.
– Е! Как это он ухитрился? – вскрикнул Абай и, передав домбру в руки Мухамеджана, склонился над доской, пытаясь разобраться, что произошло.
Мухамеджан, наклонившись к Айгерим, злым шепотом прошипел:
– Убил бы этого коротышку с ноготок! Удушил бы на месте!
- Уай, жаным, ты за что его так? - с шутливым ужасом воскликнула Айгерим и, прислонясь к плечу мужа, тоже склонилась к кумалакам.
– Нарочно задержался... Хотел выучить новую песню агатая. А этот паршивец со своими кумалаками... – бормотал себе под нос джигит. - Теперь не вернется к нам человек, у которого хапнули большой туздук.
Айгерим оглянулась и увидела, что Мухамеджан с сокрушенным видом сидит, качает головой, разговаривает сам с собой. Переливчато рассмеявшись, она ласковым голосом спросила у него:
– Скажи, айналайын, что это за песня? Думаю, что ты ее уже давно выучил, светик мой! – предположила она. – Так что спой ее сам! Прямо сейчас и спой!
– Ойбай-ау! Женеше, да не успел я ухватить вместе слова и мелодию! Только один раз пришлось услышать песню, а слова заучил отдельно. Вот и сижу сейчас, набравшись терпения, вспоминаю и слова, и напев... Попытаюсь их соединить...
Он снова взял домбру и попытался спеть. Не получилось.
Абай оторвался от доски, отрешенными глазами посмотрел на юношу, прислушался, затем произнес:
– Не так! Не то играешь!
И он забрал у него домбру, заиграл сам, повторил песенный куплет несколько раз, после чего вернул джигиту домбру и сказал:
– Вот так надо!
Мухамеджан снова заиграл – на этот раз уверенно, чисто. Сыграл вступление, один куплет весь - и потом запел. Спел несколько строчек из текста, который успел заучить, и смолк, робея перед Абаем. Тот без промедления подбодрил юного сэре:
– Пой дальше!
И тогда, получив добро мастера, Мухамеджан запел во всю силу своего чистого, сильного степного голоса. Время от времени бросая взгляд на листок бумаги, лежавший у него на колене, он спел «Письмо Татьяны» от начала до конца. Игра в кумалаки была забыта.
Песню Абай прослушал всю - внимательно, не шелохнувшись. Смотрел в окно на далекие вершины Карашокы, не моргая, словно был зачарован словами и чувствами поющей Татьяны. Казалось, он забыл, что слушает свое собственное сочинение.
Лицо его было строго, взволнованно, отрешенно. Исполняемая чудесным, молодым голосом юного красавца-сэре, песня впервые предстала перед Абаем – словно отделившись от своего творца и отправившись в вечный полет.
Теперь, прослушав песню, Абай, знающий все ее тайны, вдруг открыл для себя, что бесплодность усилий любви Татьяны, Тог- жан и Салтанат, разрывавшая ему сердце, не дававшая покоя всей его жизни, касается и любимой жены Айгерим, сидевшей сейчас рядом. И она, самая близкая для него на свете душа, тоже разделила с ними, выходит, горькую долю любовной бесплодности и неутоленности...
Слушая песню, сочиненную им самим, он был потрясен тем, что открылось ему: русская девушка Татьяна имела подружек неутоленной любви и среди казахских кочевий, в глубине степной Арки! И она решила им поведать об этом устами этого молодого, нежного, красивого акына!
Забыв обо всем, не видя окружающих, Абай глубоко погрузился в свои раздумья. И люди вокруг, чувствуя нечто сверхобыденное в его состоянии, не смели его беспокоить. Словно забыв о нем, все стали выражать восхищение и восторг песней, обращаясь к молодому певцу. А он, закончив петь, сам проникся горячим сочувствием к Татьяне и разразился такой речью:
– Несчастная горемыка! Уа, какая печальная доля! Ее печаль пробирает до самой глубины души! Ну что это за человек такой, Абай-ага? Кто этот ничего не чувствующий джигит, который заставил ее окунуться в такой омут страданий? Как его имя хоть, Абеке?
И тут вылез вперед Абая всезнающий Кишкене-мулла, скороговоркой выдавший:
– Е-е, как же... Звать этого джигита Фошкин! Он заставил ее письмо написать.
- Нельзя ли воздержаться, хотя бы один раз, молдеке? - рассердился Мухамеджан. – Какой еще Фошкин? Я не об акыне спрашиваю, которого зовут, кстати, Пошкин... – И, обратив свой
взор на Абая, юный певец попросил: – Расскажите о нем, Абай- ага!
– Да, этот русский акын Пушкин подсказал Татьяне слова для ее письма, – начал рассказывать Абай, пробегая глазами рукопись и карандашом внося в нее какие-то правки. – Пушкин – это такой акын, джигиты, какого еще не знали не только мы, казахи, но и весь мусульманский мир...
– Ойбай-ау! Мне ее жаль! Как бесподобно говорит она о своей великой тоске-печали! – вздохнув, высказался и Баймагамбет.
– Но справедливо ли, Абай-ага, чтобы такой бесподобный голос остался без ответа! – добавил Мухамеджан. – Этот джигит, если у него есть сердце, должен ответить достойно на ее чистые и красивые чувства!
– Верно говорит Мухамеджан! И я так думаю. Сомнения наши вполне уместны, Абай! – присоединился и мулла Кишкене.
Абай сказал:
– Братья мои, все верно! Надо будет, чтобы заговорил и запел Онегин... Однако это трудно сделать, потому что, как мне думается, он вовсе не достоин ее... Надо будет еще раз почитать Пушкина.
В тот же день, пообедав в доме Абая, молодой Мухамеджан сразу уехал в Семипалатинск. Абай же весь вечер был занят чтением «Евгения Онегина». Прошедший день был для него благодатным днем сближения с великим Пушкиным. Он был для Абая не только учителем – теперь их соединило совместное творчество, и пушкинская Татьяна, столь похожая на чистых и возвышенных женщин степи, навсегда вошла в жизнь казахов. Абай ночью, когда сварилось мясо и сели за позднюю трапезу, высказал удивившие всех домашних слова:
– Русский друг Михайлов раскрыл мне глаза на мир. Он взял меня за руку и привел к сокровищам знаний. Отныне моя священная Кааба поменяла место: восток для меня становится западом, запад переместился на восток.
Мирный день завершился тем, что Абай расщедрился и до полуночи пересказывал домашним знаменитый роман «Три мушкетера» французского писателя Александра Дюма.
На восточной окраине Семипалатинска в доме мелкого то- роговца Танжарыка собралась казахская молодежь. Торговец к собранию и к молодым людям никакого отношения не имел – просто в его доме квартировал младший родственник, скромный джигит по имени Кысатай. По своим степным привычкам Кысатай из богатого аула был весьма щедр на угощения и любил собирать у себя друзей, которые, как и он, были отправлены родителями жить в город. Сам по себе Кысатай был тихого нрава, молчаливый и скромный джигит, однако скучая в городе, частенько устраивал в доме купца веселые молодежные вечеринки.
Сегодняшними его гостями были большей частью родственники Абая и молодежь, любящая поэтическое и певческое искусство, частенько устраивавшая молодежные айтысы и сходы акынов.
Одним из постоянных участников таких сходов был Шубар, племянник Абая. Потеряв на прошлогодних выборах волостного свою должность, Шубар пока что перебрался в город, здесь стал усердно посещать собрания молодых акынов, среди которых обрел некоторую известность как поэт. Он отрастил себе щегольскую бороду, носил городское платье, всегда был при жилете, из кармана которого свисала золотая цепочка от часов. Вместе с ним приходил на вечеринки и молодой сэре Кокпай, который после того как Абай вызволил его из судебной тяжбы, стал его горячим поклонником и учеником. Он, закончивший медресе, вернулся в город, тоже отрастил бороду, аккуратно подстригал ее. В городе усиленно занимался русским языком и подбирал для Абая книги, которые потом и отправлял ему в Акшокы. И Шубар, и Кокпай, считавшие себя учениками Абая, при встрече
с ним на поэтических сходах вели себя скромно, но на сходах молодежи оба смело выставляли себя большими мастерами и знатоками искусства, особенно Кокпай, обладавший могучим красивым голосом.
Пришел на вечеринку еще один гость, близкий Абаю, его сын Магавья, любимец отца, бледный, стройный юноша приятной наружности, с хорошими городскими манерами. Он заметно отличался от всего окружения на этих поэтических и певческих вечеринках. Несмотря на то что он был намного моложе других, Магавья держался всегда очень свободно, охотно вступал в разговоры и выказывал себя человеком образованным. С ним вместе пришел известный сэре Мука, среди шести-семи остальных гостей самый знаменитый. Обладавший высоким, звонким тенором, Мука однако был джигитом видным, рослым, воинского обличия. Два года назад этого одаренного молодого человека – певца, домбриста и, что редкость в степи, хорошего скрипача, Абай вывез из среды Уак и, приставив его к сыну Ма- гашу, предоставил молодому уаку все возможности показать в городе свои разнородные таланты.
Присутствовал здесь и Исхак, сын Ирсая. Он был талантлив в другом: в отличие от Кокпая и Мука, знатоков и исполнителей казахских поэм и сказаний, Исхак с помощью Абая, с одной стороны, и собственным упорным самообразованием, с другой стороны, смог стать отличным знатоком и сказителем арабских произведений, таких как «Джамшид», «Бахтажар», «Рустем», «Тысяча и одна ночь».
Молодежь решила у Кысатая ночевать, возниц отпустили по домам. В самый разгар собрания открылась настежь дверь и вошел джигит с огромным клокочущим самоваром. За ним проследовала в комнату белолицая и румяная супруга купца Танжарыка, со свернутым дастарханом в руках. Молодые гости с удобством расположились на мягких корпе, скрестив ноги калачиком, разлеглись на подушках, разбросанных по всей комнате поверх ковров и войлочных паласов. Посреди комнаты стоял
широкий низенький стол, дастархан был расстелен на нем, Кы- сатай достал и выставил на стол коньяк и зубровку. Вместе со сластями к чаю появились блюда с холодным мясом – аккуратно нарезанный кругляшками казы, кусочки жал и жая.
С удовольствием разглядывая все эти яства и бутылки с крепкими напитками, Исхак, арабский грамотей, с чувством произнес:
- Е-е! Кысатай, сын мой! Ты это прекрасно придумал! Настоящий пир падишаха! – Чем и вызвал всеобщий веселый смех.
На шутку его Шубар ответил своей шуткой:
- Ты, Исхак, должен был сказать по-другому: «бязми Джамшид», что означает, знаем мы с твоих слов, «царский пир Джамшида».
Магавья, Кокпай и остальные, не раз слышавшие эти слова из сказки, которую любил рассказывать им Исхак, дружно рассмеялись, ибо Шубар весьма похоже передразнил голос Исхака.
Гости, усевшись вокруг стола, угощались на славу, шутки не прекращались, молодой звонкий смех не умолкал. И в какую-то минуту Исхак, вспомнив, как любит Абай присутствовать на таких молодежных сходах, воскликнул с сожалением:
– Зря Абай-ага не приехал в этот раз!
– Не надо ему сейчас уезжать из дома! – возразил Кысатай.
- Я видел: в эту зиму он особенно много читал, работал с бумагами, сочинил немало песен. Думаю, пусть лучше Абай-ага сидит дома и работает, если напала охота творить.
Шубар, в продолжение своего шутливого настрооения, с озабоченным видом возразил Кысатаю:
– Ойбай-ау, не знаю, что и сказать тебе, бауырым! Если эта могучая чинара и дальше будет так разрастаться, то нам, мелкой поросли в его тени, совсем не достанется света! Не даст он распуститься слабым цветам молодых стихов!
Не всем показалось, что это безобидная шутка. Некоторые честолюбивые поэты и на самом деле чувствовали свою мелкость рядом с гигантским древом абаевского творчества. Да и у
самого Шубара, бросившего эту шутку, в глубине души нет-нет да и проскальзывала тень зависти.
В прошлые выборы этот честолюбивый джигит лишился должности акима волости. Он знал, как равнодушен Абай к власти, к должностям, но известность его и без этого росла день ото дня, и народное признание его акыном пришло к нему заслуженно. Скрывая свою зависть к старшему родственнику, он вошел в круг молодых поэтов и певцов, поклонников и приверженцев Абая, и здесь хотел добиться признания как акын и как сал, исполнитель терме. Магавья, знавший эти слабости своего старшего родственника, рассмеялся на его слова и молвил:
– В таком случае, Шоке, молодым слабым стихам не стоит распускаться раньше времени! Пусть набираются сил и ждут своего часа. Будем показывать ему только сильные цветы, хорошие стихи!
- Как узнаешь заранее, хорошие получились стихи или нехорошие! Вот, как-то написал стихи, на мой взгляд, почти такие же, как его собственные, ничуть не хуже, по крайней мере... Пошел ему показать. А он прочитал и говорит: «Этим размером пишу я, это я его придумал» - и отобрал у меня стихи! - пожаловался Шубар.
Вдруг раскрылась дверь из сеней – и на пороге гостевой комнаты встала промороженная, обсыпанная снегом фигура человека из степи, с обветренным лицом, с сосульками на усах и бороде, с кизиловой камчой в руке.
- Ассалаумагалейкум! - поздоровался со всеми этот человек.
Собравшиеся не очень-то дружно и отнюдь не сердечно ответили ему: все свои были на месте, никого больше не ждали. Минуту молодежь молча разглядывала его. Тут Исхак первым узнал его и воскликнул: «Ойбо-ой! Да это же Мухамеджан!» После чего лица у всех мгновенно изменились, засияли приветливыми улыбками.
Мухамеджан, выехавший пополудни из Акшокы, только что прибыл в город. Отвечая на первые распросы сидящих о родных в ауле, джигит живо раздевался – скинул промерзлые саптама, развязал пояс и снял верхнюю обледенелую одежду – словно выскочил из снежного мешка... Постоял на месте, жмурясь от наслаждения теплом, выжал в кулак мелкие сосульки с усов и бороды. Теперь его со всех сторон начали зазывать: «Сюда, сюда проходите, Муха!»
Мухамеджан вытерся поданным хозяйкой полотенцем, посмотрел в сторону тора, выбирая себе место.
– Ей, джигиты! Сегодня сяду-ка я между Мука и Кокпаем! – сказал он, и тотчас же Мука передвинулся, сел чуть пониже, освободив место. Когда Мухамеджан сел рядом с Кокпаем, этот сразу насторожился: абаевский джигит и «сосед» слыл за хорошего певца и сказителя, намного более известного акына, чем некоторые присутствующие здесь... Чего-то он сегодня заявился от Абая не в меру возбужденный. Кокпай решил для начала дружески поддеть его.
– Я-то подумал, кто это заявился в дом с сосульками на усах и бороде, а это, оказывается, аул пришел в город!
Мухамеджан в карман за словом не полез:
– Если тебе так не мил аул, то почему ты бросил медресе, божий дом, и сбежал назад в аул? Лучше бы ты помолчал. Будто сам не знаешь, что все благо человеческое – в ауле.
- Е! О каком благе ты говоришь, Муха? - воскликнул Кок- пай.
Мухамеджан:
– Ты спросил – я готов тебе подробно отвечать. Но только дай сначала, бауырым, чаю попить.
И все оставили его в покое, а сами, уже отведавшие и чаю, и закусок, отодвинулись от стола и вернулись к прежним разговорам. Поговорили, пошутили и, по просьбе Шубара, перешли к музыке, пению.
