Свеча Дон-Кихота — Павел Косенко
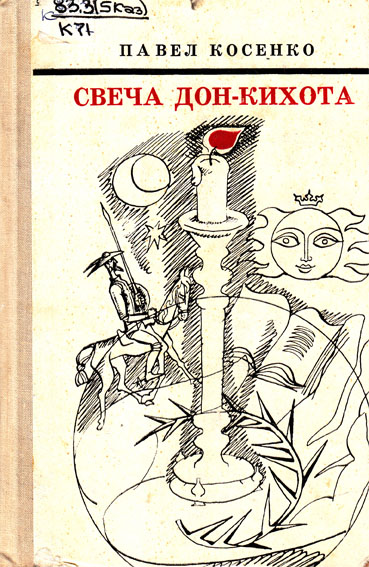
| Аты: | Свеча Дон-Кихота |
| Автор: | Павел Косенко |
| Жанр: | Әдебиет |
| Баспагер: | |
| Жылы: | 1973 |
| ISBN: | |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Страница - 11
Повесть об Антоне Сорокине
1
Бабушка моя Анна Александровна Лукьянова читать умела и в старости даже сама одолевала толстые тома романов Диккенса; требовалось ей, правда, на каждый том месяца два. Но вообще она, естественно, была так далека от проблем литературы, как и полагалось быть дочери сурового и богобоязненного солдата из кантонистов, который после службы осел в Павлодаре, очень рано осиротевшей, ставшей девчонкой на побегушках в доме знаменитого павлодарского богача Артемия Дерова, вышедшей потом замуж за такого же нищего, как она сама, парня, кочегара на первых иртышских пароходах, а позже — слесаря в Омских железнодорожных мастерских, и прожившей с ним в хлопотах и заботах шестьдесят лет. И все-таки о двух «историко-литературных фактах» я впервые узнал — в детстве — именно от нее.
Во-первых, она любила повторять, всегда довольно улыбаясь при этом, забавные, хотя малопонятные строчки, навсегда запомнившиеся мне с тех лет: «Разорвался апельсин у Дворцова моста. Где высокий господин маленького роста?» Уже став взрослым и закончив факультет языка и литературы пединститута я в простоте душевной полагал, что это из какого-нибудь лубка, и лишь значительно позже с удивлением обнаружил: это стихи Саши Черного, говорят они о событиях 1905 года в столице империи, разорвавшийся апельсин — это бомба дружинников, а «высокий господин маленького роста» — сам Николай II. Конечно, бабушка не знала, кто такой Саша Черный, но, выходит, знаменитые петербургские революционно-сатирические журналы девятьсот пятого года доходили и до сибирских железнодорожников.
А во-вторых, я впервые услышал от нее об Антоне Сорокине — и само имя его и кое-что из рассказанного ниже. Соблазнительно было бы мне предположить, что она знала Сорокина как земляка — оба они родились в Павлодаре в одном и том же 1884-м году; в доме Деровых миллионеров Сорокиных, их постоянных соперников и конкурентов, поминали, надо думать, часто, но боюсь, что это только мое предположение. Скорее же бабушка знала о Сорокине просто потому, что его знал весь город. Старожилы многое помнили о нем и десятилетие спустя после его смерти, и только война и гигантские волны эвакуированных смыли эту густую память.
А раньше в Омске его знали решительно все.
Он был такой же городской достопримечательностью, как каланча, как Любинский проспект, как купленный городским головой у бельгийцев железный мост, через Омку или горделивая память о том, что Достоевский прошел через «мертвый дом» именно здесь..
Им гордились, им хвастались перед приезжими, словно каким-нибудь редкостным экзотическим экспонатом в зверинце.
Любой омич знал, что он, счетовод управления Сибирской железной дороги Антон Семенович Сорокин выдвигал себя на Нобелевскую премию;
разослал одно из своих произведений главам всех монархий и республик мира (ответил только император Сиама, любезно сообщивший, что в его империи нет ни одного человека, владеющего русским языком, и поэтому, к сожалению, познакомиться с содержанием книги г-на Сорокина не представляется возможности);
опубликовал в «Огоньке» (еще дореволюционном) собственный некролог, где сообщалось: писатель Сорокин покончил с собой, выпрыгнув из аэроплана во время полета над городом Гамбургом;
печатал и расклеивал на стенах такие, например, объявления: «Каждому, прослушавшему, десять моих рассказов подряд, выплачиваю керенку, желающие благоволят приходить ко мне на дом. Национальный писатель, гордость культурной Сибири Антон Сорокин».
И совершил еще сотни подобных поступков — нелепых, дерзких, безумных, бессмысленных.
На приезжих, первый раз слышавших о гордости культурной Сибири, все это, бесспорно, действовало. Писатель Михаил Никитин вспоминает:
«...Имя его я услышал или, вернее, прочел на омском вокзале осенью 1924 года, когда впервые приехал в Сибирь. Было хмурое утро, моросил мелкий дождь, люди шли по перрону, подняв воротники и плечи. На вокзальном крыльце ветер швырнул мне под ноги мокрую афишу, и она прокричала трехвершковым шрифтом:
«Литературный вечер!»
Я заинтересовался и развернул ногой афишу. Человек в дождевике встал за моим плечом.
— Знаменитый номер со свечой, — прочитал человек в дождевике, — исполнит известный писатель Антон Сорокин.
Я обернулся и поглядел на чтеца, чтец поглядел на ме* ня, — крайне удивленные, мы пошли нанимать извозчиков».
Некоторые удивленные спешили к кирпичному, выстроенному в стиле модерн начала века двухэтажному особнячку на Лермонтовской, чтобы собственными глазами взглянуть на городского сумасшедшего.
И разочарованно пожимали плечами, когда на улицу выходил с портфелем в руках человек самого обыкновенного, даже заурядного вида в самой обыкновенной одежде, сутулый, с впалой грудью и негустыми усами, в пенсне с большими круглыми стеклами.
Человек с портфелем шел на службу в огромное, самое большое в городе, серое здание Управления железной дороги. На службу он никогда не опаздывал.
«Я аккуратен, как немец», — говорил он, и это было правдой.
В свободное от службы и устройства скандалов время человек в круглом пенсне, проживший на свете сорок четыре года, написал две тысячи рассказов, не считая более крупных вещей, — пьес и романов.
В самой этой цифре есть что-то ненормальное, скандальное и фантастическое. Объявил ее сам Сорокин, и ей не верили, считали обычной сорокинской рекламой. Но комиссия по его литературному наследству подтвердила, разобрав архив писателя: цифра не преувеличена, рассказов в рукописях, действительно, около двух тысяч.
Большая часть из них, естественно, не публиковалась. Вс. Иванов считал, что Сорокин «напечатал не более чем сотую часть того, что написал».
Так кто же был Антон Сорокин — маньяк, графоман?
Так думали не одни омские обыватели, но и многие литераторы, редактора тогдашних газет и журналов. Известный теоретик «ЛЕФа» Н. Ф. Чужак, например, писал: «...в лице Антона Сорокина, по глубокому моему убеждению, мы имеем человека несомненно психически больного».
Но и тогда были мнения прямо противоположные — и весьма авторитетные и убедительные. Еще при жизни Сорокина организатор литературных сил советской Сибири, первый редактор «Сибирских огней» и автор первого советского романа «Два мира» В. Я. Зазубрин говорил о нем на съезде сибирских писателей: «На вкус и на цвет товарищей нет» — кому нравятся ананасы или бананы под березой, кому огурцы. Рассказы Антона Сорокина нам кажутся вот такими понятными и простыми и «выразительными» огурцами. Я извиняюсь за некоторую легкость стиля по отношению к такому законченному мастеру, как Антон Семенович... Жаль, что мастер Антон Сорокин до сей поры мало известен читателю, жаль, что его рассказы разбросаны по разным газетам и журналам. Собрать и издать их необходимо».
Леонид Мартынов, близко знавший Сорокина, писал о нем, что он был «оригинальным омским литератором... сме-ло разоблачавшим в своих произведениях язвы капиталистического общества... Знатоком быта наших друзей и соседей казахов».
Поэт и ученый Петр Людовикович Драверт откликнулся на смерть писателя статьей в Омском «Рабочем пути», где утверждал: «Стушуются наконец, как серые бесформенные тени, недоброжелатели покойного, но красочным, оригинальным пятном надолго останется в сибирской литературе имя Антона Сорокина».
Поместила отклик на смерть Сорокина и республиканская газета КазАССР «Советская степь». Этот некролог, напечатанный в номере от 4 апреля 1928 года, стоит привести целиком. Бот он.
«Умер от туберкулеза известный сибирский писатель Антон Сорокин.
Антон Сорокин пользовался большой известностью в Сибири и был весьма популярен среди казахского населения Омской, Акмолинской и Семипалатинской областей.
Антон Сорокин великолепно знал степь, казахский быт.
В черные времена царизма, когда правительство жестоко проводило политику угнетения и эксплуатации национальных меньшинств, Антон Сорокин вдруг заговорил в десятках рассказов о казахах, заговорил с неисчерпаемой любовью к ним.
Заслуга Антона Сорокина в этом, как гражданина и писателя, несомненна.
Своему интересу и любви к казахской ковыльной степи Антон Сорокин не изменил до конца жизни. На полосах местной сибирской прессы, на страницах сибирских журналов, в том числе «Сибирских огней», мы можем найти большое количество сорокинских «казахских примитивов», как он называл свои рассказы о казахах.
Конечно, были у Сорокина и другие темы кроме казахской степи, но все значение писателя кроется все же в его «примитивах».
Антон Сорокин не был тем, что называется первоклассным художником слова, но, несомненно, он был очень заметкой величиной на фоне сибирской литературы, и значения его оспаривать нельзя.
Было бы вполне нормально, если бы Казгиз заинтересовался бы наконец - творчеством Антона Сорокина и издал, если не все его казахские рассказы, то во всяком случае лучшие, избранные».
На протяжении всей своей жизни вспоминал о «кандидате Нобелевской премии» его омский друг (Антон Сорокин именовал его своим учеником) Всеволод Иванов. Он написал и отдельный очерк «Антон Сорокин», опубликованный уже после смерти автора «Бронепоезда», и десятки раз поминал спутника своей литературной молодости во многих произведениях.
Писал Всеволод Вячеславович о Сорокине обычно с юмором, посмеиваясь, но и явно любуясь оригинальностью сорокинского облика. Для него адресат Сиамского императора, разумеется, ни в коей мере не был маньяком: «Многие в Омске называли его сумасшедшим. Я знал его в течение трех или четырех лет и, должен сказать, не встречал человека разумнее его».
Вс. Иванов считает, что редакции отвергали рассказы Сорокина именно из-за их своеобразия и самобытности, потому что они совсем не походили на шаблонное журнальное чтиво тех лет.
Сорокиным заинтересовался А. М. Горький. Обращаясь к сибирским писателям, он писал: «Вам, сибирякам, следовало бы собрать все, что написано об Антоне Сорокине, и собрание очерков этих издать. После того как будет издана такая книга, можно приняться за издание работ самого Сорокина».
Эти слова цитировались много раз, но как будто никто не обратил внимания на то, что предложенный Горьким порядок издания довольно необычен: сначала воспоминания о писателе и только потом сами его произведения, как что-то менее значительное. Видимо, Горькому Сорокин был любопытен, прежде всего, как один из «чудаков», из числа тех, что «украшают жизнь», и лишь во вторую очередь — как автор 2 000 рассказов.
Ни советы Горького, ни заклинания в докладах и некрологах не подействовали: сочинения Сорокина после его смерти не были изданы ни в столице, ни в Сибири, ни в Казахстане. Лишь спустя четыре десятилетия после его кончины вышел в Новосибирске довольно тощий сборник, объединивший и воспоминания о писателе и десятка два его рассказов. Он прошел малозамеченным.
Сам Антон Сорокин не сомневался в своем посмертном писательском будущем. Он считал, что его начнут читать так через полвека.
— Всякий талант, — говаривал он, — и особенно, если это талант оригинальный (неоригинальные таланты тоже существуют), требует по крайней мере полустолетия для то-го, чтобы прорасти и еще полстолетия для того, чтобы дать плоды.
Вечный неудачник, Антон Семенович ошибся, кажется, и на сей раз.
К слову сказать, большая часть архива писателя погибла вскоре после его смерти.
О Сорокине было сложено немало легенд, апокрифических рассказов. Один из них мне недавно пересказал писатель Ильяс Есенберлин. Он слышал его в начале 50-х годов. Суть рассказа в том, что в день торжественного пуска городского трамвая Сорокин едет в санях, груженных сеном, по рельсам навстречу вагонам и требует, чтобы свернул трамвай, потому что он пустой, а сани—груженые.
Трамвай в Омске пустили через десять лет после похорон писателя.
Рассказ этот интересен тем, что в нем писатель Антон Сорокин обретает все черты фольклорного героя.
Он хотел не такой посмертной славы. Да и не славы вообще, другого.
Впрочем, и такие легенды почти заглохли к нашим дням, и большинство читателей в Казахстане и Сибири об Антоне Сорокине помнит смутно: ну да, император Сиама... ну да, Нобелевская премия... и еще, кажется, он называл себя королем писателей.
Потому-то и хочется мне рассказать хоть немного подробнее о человеке, которого я сейчас хорошо вижу на крыльце двухэтажного красного кирпича особнячка на Лермонтовской: тощего, сутулого, с торчащими усами, похожего на Дон-Кихота в пенсне.
2
За два с половиной месяца до смерти, заканчивая небольшую статью о своей литературной работе, он написал: «Теперь моя биография. Она в несколько букв: Антон Сорокин — и только».
Он не хотел иметь никакой биографии, кроме писательской, и почти преуспел в этом.
Писать он начал рано, и с тех пор все силы его души были отданы литературе.
М. Никитин, автор прекрасной повести «Здесь жил Достоевский», указывал в мемуарном очерке «Дикий перец»: «Он родился в городе Павлодаре. В этом городе, обильном пшеницей и мельницами, семья Сорокиных была наиболее богатой. Купеческое могущество фамилии основал дед писателя — Антон, известный скотовод, владевший табуном из одиннадцати тысяч лошадей.
Омский литературовед Еф. Беленький в статье об Антоне Сорокине (она помещена как предисловие к новосибирскому сборнику 1967 года, а также вошла в книгу критика «Писатели моей земли») сравнивает писателя с горьковскими героями — купцами, «выламывающимися» из своего класса, понявшими, что они живут «не на той улице».
Это верно в том смысле, что Сорокин ненавидел и презирал торгашество и, великолепно, «изнутри», зная подноготную крупнейших сибирских купеческих династий, гневно вытаскивал ее на свет божий. Уже в годы мировой войны о» однажды явился на «благотворительное» собрание («помощь жертвам войны») членов управы, где присутствовала вся омская элита, и обратился к неприветливо встретившим его филантропам с такой фомагордеевской речью:
— Антону Сорокину не подали руки, и я это одобряю. Правильно! Руки Антона Сорокина слишком чисты, чтобы пачкать их об эти общественные руки. Посмотрите, кто сидит за столом? Кто не подал руки Антону Сорокину? Председатель Кирьянов. Но кто из вас не знает, что он ростовщик? А вот сидит пивовар Мариупольский, не платящий полтора миллиона долгу. Но зато он приехал на автомобиле. Какая честь пожать руку Минею Михайловичу! Правильно вы делаете: рука пивовара не нужна Антону Сорокину. А дальше жирный, как боров, хозяин бани Коробейников, ограбивший своих родственников. Не видали вы своего брата-босяка под забором? Честные благородные люди, вы правы. Антон Сорокин позорит ваше благородное общество, Антону Сорокину не место среди вас.
Будучи приглашен редактировать газету «Омский день», Сорокин в первом же номере дал объявление: «В ближайших номерах газеты «Омский день» начнут печататься биографии омских миллионеров: Липатникова, Шаниной, Мариупольского, Кирьянова, Волкова и более мелких купцов».
Купцы мгновенно собрали восемь тысяч и вручили их издателю газеты. Следующий номер подписывал уже новый редактор.
Павлодарские и омские купцы ненавидели писателя и боялись. От них и пошла сплетня о его психической ненормальности.
Но при остром конфликте с социальной средой, из рядов которой он вышел, у Антона Сорокина не было конфликта в семье, не было разрыва с отцом. Семен Антонович не требовал от старшего сына продолжения «дела», не возражал против его писательства, терпел знаменитые сорокинские «скандалы».
Можно вспомнить замечание Горького о том, как корогки династии русской буржуазии.
Семен Антонович мало походил на своего отца-конкви-стадора. Тяжело заболев, он разделил значительную часть состояния между тремя сыновьями. Выздоровев, к делам Не вернулся. Чуть ли не первым в Сибири стал разводить как-* тусы, увлеченно изучал историю сибирских старообрядцев. Вел по этому поводу обширную переписку с В. Д. Бонч-Бруевичем. В тяжелую пору колчаковщины помогал сыну прятать разыскиваемых адмиральской охранкой. Сына он пережил.
Вс. Иванов говорит, что свою долю Антон Сорокин потерял, попытавшись ввести новые, прогрессивные формы торговли — устроив чайный магазин без продавца. Поскольку новый чаеторговец не додумался просто заменить работающего приказчика наблюдающим контролером, то он быстро прогорел — магазин растащили по цыбикам.
Может, и был такой магазин, может, его выдумал Всеволод Иванов, а может, и сам Сорокин — оба они были мастера сочинять затейливые истории, якобы происходившие в действительности, однако, несомненно, что большую часть полученных от отца денег Антон Семенович ухлопал на другое. В начале десятых годов он выпустил за свой счет несколько книжек в издательствах Петербурга, Москвы, Киева. Пьесы и рассказы никому не известного молодого сибиряка совершенно не заинтересовали российского читателя и безвозвратно унесли средства автора.
Особые надежды Сорокин возлагал на монодраму (т. е. драму с одним действующим лицом) «Золото» — историю человека из народа, преступлением завоевавшего богатство, разочаровавшегося в нем и кончившего домом умалишенных. Угнетенные и угнетатели сравнивались в пьесе с двумя поездами, бешено мчащимися навстречу друг другу по одному пути. Герой говорил золоту: «Бедняки восстают против тебя... И победа останется за бедными». Молодой драматург разослал «Золото» многим тогдашним знаменитостям. Вежливо отписался Леонид Андреев. Федор Сологуб почему-то посоветовал пока ничего не печатать, а потом сразу выпустить полное собрание сочинений. Вл. Бонч-Бруевич, которого Сорокин просил написать рецензию, извинился: он очень редко пишет рецензии на художественные про* изведения.
Обстоятельнее всех ответила Вера Федоровна Комиссар-жевская:
«Мне нравится Ваша наивность, искренность и какая-то примитивность. Во многом я не согласна с Вами. Автор, собирая в театре людей, должен дать им не зрелище только, но и наслаждение красотой — вот цель искусства. Он должен дать людям забыться от тяжести жизни, уверить их, что жизнь прекрасна, изящна, торжественна. А Вы Вашей пьесой издеваетесь над человеческой душой, мучаете, отвергаете все, чем гордилось человечество. Оправданием может служить то, что Вы писали искренне... У Вас написано не по шаблону. Хотелось бы мне поставить Вашу пьесу, но, ка* жется, свистом и шипением встретят Вашу драму, хотя, конечно, может быть, я и ошибаюсь...»
Вскоре после этого письма Вера Федоровна умерла в Ташкенте.
Сорокин же впоследствии рассказывал, что Комиссар-жевская его «монодраму» все-таки поставила, но спектакль был уже после генеральной репетиции запрещен полицией.
А иногда утверждал, что «Золото» ставил другой известный режиссер той поры — Евреинов и что спектакль имел большой успех.
Говорил он это уже в 20-х годах, когда в Омске, конечно, никто не помнил старую хронику петербургских театров.
Был ли закономерен неуспех его первых книг? Пожалуй, да. Они подражательны и художественно очень несовершенны. Но какая в них ненависть к золоту, деньгам, капиталу — ненависть, перемешанная с изумлением перед их таинственным могуществом.
Вот, например, рассказ «Банкротство Артемия Дернова» (Сорокин лишь чуть изменил фамилию знаменитого павлодарского миллионера, хотя почти никаких аналогий в биографии сорокинского героя и реального Дерова нет). Артемий Дернов, сам, своей волей, своими руками, дерзостью и цинизмом пробившийся к колоссальному богатству, к реальной власти над тысячами людей, злится:
«...Умрешь, похоронят, и никто не вспомнит про купца Артемия Дернова, как он из переселенца миллионером сделался, а про какого-нибудь Гоголя, Пушкина пишут, да так пишут, что всю жизнь опишут, да окурки, одежду, ручки, перья, стулья в музеях хранят».
Но вот Артемия постигает банкротство, он теряет все. Чиновник описывает имущество бывшего миллионера, вешая бирки с ценой на все предметы обстановки. И оказывается, что их бывший владелец, вчерашний хозяин жизни, ничтожнее последней табуретки на своей кухне, потому что и у табуретки есть какая-то цена, а он не стоит ничего...
После провала первых книг перед Сорокиным вплотную стал банальный вопрос о куске хлеба. Он поступил счетоводом в Управление железной дороги. Проработав какое-то время, как все его коллеги, он пошел к начальству и, по словам Вс. Иванова, сказал так:
— Этот ежедневный урок, который вы мне даете, я могу выполнить вместо целого дня в один час. Я прошу вас давать мне двойной урок, на который я буду тратить три часа в день по моему новому способу ведения бухгалтерских книг и отчетов. Но я буду выполнять двойной урок только при том условии, если вы мне разрешите все остальное время писать мои рассказы.
Писать на службе рассказы на таких условиях ему разрешили. В Управлении дороги Сорокин прослужил много лет. Он не делал никакого секрета из своего «нового способа», но его система оказалась настолько сложной, что никто из сослуживцев так и не сумел овладеть ею.
Вообще, по складу ума Антон Семенович был изобретателем, рационализатором и отказался от «практических дел» вовсе не по неспособности к ним.
Из истории первых своих шагов на литературном поприще Сорокин вынес твердое убеждение, что одного таланта (а в свой талант он верил непоколебимо) мало, совсем мало для признания. Главное — реклама. Умение привлечь к себе — любыми способами — всеобщее внимание.
— После хорошей, умной рекламы, — говорил он, — можно печатать любые, самые плохие сочинения, и публика, ослепленная рекламой, будет считать их шедевром. Но поскольку у меня нет плохих произведений, люди будут читать мои хорошие и извлекать из них для себя пользу. Ничего сложного. Дело маленькое.
И он решил стать великим рекламистом.
3
К этому времени Сорокин, отец и сын, давно уже жили в Омске, в том самом двухэтажном доме на Лермонтовской,
Дом этот прочно вошел в биографию писателя, да и в историю сибирской литературы, и очень жаль, что нет в нем музея.
Он сам вроде бы стал частью Антона Сорокина. Он тоже был странен.
Если смотреть на внушительный фасад особняка, он кажется очень вместительным. На самом деле на втором этаже, где жил писатель, было только две комнаты. Одна из них служила Сорокину и столовой и кабинетом. Н. И. Анов, часто бывавший в ней, вспоминает стоявший в углу сконструированный самим Антоном Семеновичем шкаф. Его можно было мгновенно превратить в кровать. Гостей Сорокин уверял, что шкаф может служить и в качестве дивана и в качестве письменного стола, а в случае нужды — и гроба.
Как-то у Сорокина, кажется, уже после революции, брали подписку о невыезде (он часто давал поводы для таких «административных мер»). Писатель с гордостью заявил:
— Да я четверть века не выезжал из своего дома!
Домоседом он, действительно, был на удивление. До самого года смерти он из Омска выезжал лишь несколько раз к родственникам в Павлодар (бывая при этом не только в городе, но и в окрестных степях).
Человек с воображением может совершить кругосветное путешествие, не выходя за пределы большого порта; одесситы это хорошо знают.
Омск десятых годов был большим портом. У устья тихой Омки пересеклись два великих пути — голубой и черный. По голубому иртышские «товарпары» каждый день с мая по октябрь отправлялись вверх — в Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, в глубь казахских степей, к китайской границе — и вниз в Тобольск, Тюмень, Тару, в таежные урманы, до тундры, до Обдорска, до ледяной Обской губы. Проворно шлепая плицами колес по упругой, прохладной, отливающей зеленым воде, пароходы тащили в глушь дары цивилизации начала века: сенокосилки и винчестеры, локомобили и гитары, перевязанные пышными бантами, сепараторы и граммофоны с устрашающей величины рогами-трубами, смирновскую водку и шустовский коньяк. В обмен привозили они к омскому устью «дары земли» — мягкие горы драгоценных мехов, тюки выделанных кож, выкопанные из вечной мерзлоты клыки мамонта и бочки алтайского меда, тяжелое желтое масло и тусклую железную руду.
А черный рельсовый путь уже два десятка лет соединял столицы с Тихим океаном. Составы стучали по нему не умолчно. Недавно еще их заполняли серые шинели солдат, которых везли навстречу японским пулям. Потом вдоль великого Сибирского пути заметались огненные флаги восстаний — железнодорожники были передовым отрядом малочисленного еще рабочего класса Сибири... Теперь состав вы везли в Сибирь по хитрому плану Столыпина переселенцев: если в XIX веке после реформы за Уральский хребет из Европейской России переселились десятки тысяч мужиков, то в годы перед первой мировой войной — полтора миллиона.
Оживлялась культурная жизнь Сибири. В губернских и областных городах замелькали серые тени синематографа. То там, то здесь начинали выходить газеты — «Сибирская жизнь» в Томске, «Жизнь Алтая» в Барнауле, «Приишимье» в Петропавловске, «Сибирь» в Иркутске. Они хотели быть такими, как «настоящие», столичные, они вступали друг с другом в полемику, они отважно критиковали думы и управы за грязь на улицах и малое число ночных фонарей. Они хотели публиковать оригинальные стихи, рассказы и даже романы. Антон Сорокин печатался в некоторых из них.
Омск стремился стать столицей всей Сибири. Или, по крайней мере, Западной. Разумеется, не административной, — ею он и так был, — а духовной.
Здесь построили великолепное по тем временам театральное здание. Здесь была открыта первая в Сибири сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка. Здесь впервые поднялся в сибирское небо и продержался в нем восемь минут на аппарате «Блерио», «снабженном двумя Велосипедными колесами», пилот Александр Васильев. Здесь издавалось две газеты — «Омский вестник» и «Степной край» и много лет существовал своеобразный литературный кружок. Феоктист Березовский вспоминал о нем: «Собирались почти ежедневно. Читали новую литературу, свои произведения, обсуждали и спорили. Часто к нам заходили партийные товарищи... Тогда споры переносились в область политических вопросов... Иногда собирались по-семейному — отдохнуть от одуряющей работы и службы. Но и тут часто не могли удержаться от соблазнительного литературного творчества — сочиняли коллективно роман или рассказ».
С начала XX века можно серьезно говорить о зарождении литературы в Сибири.
Конечно, и до этого в среде русских писателей действовало немало уроженцев Сибири — от Николая Полевого до Иннокентия Анненского, — но они и не думали претендовать на какое-то особое место в русской литературе. Иное дело — сибирская литературная молодежь первых десятилетий нового века — Гребенщиков, Новоселов и другие. Они находились под сильным влиянием идей Потанина и Ядринцева, областников, сепаратистов, мечтавших об отделении Сибири от царской России.
И чем более очевидными становились иллюзии о независимой Сибири, чем ниже опускало двадцатое столетие древний Каменный пояс, чем плотнее притягивал к европейскому центру восточные окраины Великий Сибирский путь, тем упрямее и яростнее кричали молодые писатели-областники о самобытности Сибири и сибиряков, об особом пути, предназначенном им историей.
Александр Новоселов писал: «Коренной сибиряк не представляет собой какой-либо особой ветви славянского племени, но нельзя оспаривать того, что все же он образует особый этнографический тип, созданный путем известного отбора. Создала его ссылка и безграничная любовь к свободе — в равной степени, а воспитала и укрепила его суровая сибирская природа. Борьба с этой природой, вытекающая отсюда привычка к самостоятельности и независимости, выковали не только здоровое тело, но на диво здоровый ДУХ».
Автора этих выразительных строк сепаратистские грезы привели в конце концов к трагической гибели. Но об этом — после.
Сорокин никогда ничего не говорил и не писал об отделении Сибири от Европейской России, но гордость «моей родиной — Сибирью», сибирский патриотизм были у него развиты сильно.
В этом сибирском патриотизме было немало здорового, демократического. Молодыми писателями-областниками живо интересовался Горький. Он переписывался со многими из них, поддерживал их литературные начинания. Горький собирался целиком предоставить сибирским прозаикам и поэтам один из выпускавшихся им сборников «Знание». Материал для такого сборника был уже собран. Помешала сначала болезнь Алексея Максимовича, а потом — начавшаяся война.
...Заглянем на пять минут на одну из «пятниц» — «семейное» собрание омского литературного кружка, посмотрим на людей, рядом с которыми шел тогда Антон Сорокин.
Уже темнеет, уже потух самовар и собравшиеся за столом люди в более длинных, чем у нас, пиджаках, в сорочках с твердо накрахмаленными (но уже не стоячими) большими воротничками разбились на несколько групп. Самая большая, конечно, вокруг Александра Ефимовича Новоселова. Он еще молод, ему лет тридцать, но его большой волевой рот, сильный подбородок, пристальный немигающий взгляд светлых глаз, выдают вожака. Земляк Сорокина по Павлодарщине, сын казачьего офицера, он учился, как и должно было ему, в Омском кадетском корпусе, но вдруг накануне офицерских погон из корпуса вышел, не пожелав сдавать выпускные экзамены. Зато сдал экзамены на звание народного учителя и забрался в далекую глушь — в алтайские горы, в старообрядческое село Больше-Нарымское, Теперь он воспитатель в казачьем пансионе, известный этнограф, член Русского географического общества. Он переписывается с Горьким, через два-три года в горьковской «Летописи» появится его большая повесть «Беловодье». Новоселов пишет очерковую книгу «Лицо моей родины», где пытается передать облик своей Сибири, таким, каким видит его. Он много скитается по родному краю. Вот и сейчас он только вернулся из отчих павлодарских мест и не успокоился еще после горьких бесед с тамошними рыбаками, рассказавшими ему, как быстро скудеет Иртыш. Боль в его голосе:
— Всегда так: приходят люди в нетронутую страну и, словно хищники, бросаются на ее богатства — под корень рубят леса, из рек вычерпывают рыбу. Землю иссушают, обеспложивают. А как превратят вчера еще богатую страну в пустыню, где и крысы не живут, — о, тогда придет культура! Тогда торопливо начнут сочинять охранительные законы, сажать леса взамен сведенных, разводить в садках мальков, защищать благородную дичь. Неумело и фальшиво станут подделываться под приемы природы, создавая вновь то, что создавалось тысячелетиями, а разграблено на протяжении двух-трех поколений...
Новоселова слушает человек атлетического сложения — трудно поверить, что работает он не грузчиком, а бухгалтером. Его рассказы о сибирских железнодорожниках, особенно опубликованный в «Первом литературном сборнике сибиряков» «Стрелочник Гранкин», хорошо известны собравшимся, но им неизвестно, что Феоктист Алексеевич Березовский, член РСДРП (б) с 1904 года, — один из руководителей подпольной организации омских большевиков. Позднее в 20-е и 30-е годы произведения Березовского, который станет профессиональным писателем, такие, как «Варвара», «Мать», «Таежные застрельщики», будут пользоваться большой популярностью, выйдет даже собрание его сочинений...
По другую сторону Новоселова разглаживает пышные усы Георгий Вяткин. Сейчас он, человек чуть моложе Сорокина, пожалуй, наиболее признанный из всех своих товарищей. Его стихи печатают столичные толстые журналы — «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русское богатство», его рассказ «Праздник» отмечен премией на всероссийском литературном конкурсе, посвященном столетию Гоголя, его сборник «Под северным солнцем» в 1912 году вышел третьим изданием. Вяткин эрудит, свободно цитирующий в разговоре древнеримских, персидских, индийских поэтов, читающий на память Гейне по-немецки, а Мицкевича по-польски. Но боги его — Достоевский и, особенно, Бальмонт; поэтической манере прославленного символиста он усиленно подражает.
Посередине, над полупустой тарелкой с шаньгами задумался, опустив большую голову, совсем почти седой, но с густейшей гривой старого льва и длинной бородой патриарха ветеран — бывший каторжанин Соколов, боец арьергарда «Народной воли», друг Якубовича-Мельшина и Германа Лопатина, навсегда теперь осевший в Сибири. Он печатает в омских газетах воспоминания о друзьях революционной молодости, да и злободневную публицистику под псевдонимом «Митрич».
А у другого конца стола — Антон Семенович, Он рассказывает молодым прозаикам Ершову и Урманову историю возвышения знаменитой омской купчихи Шаниной:
— История простая. Торговала дегтем под горой. Потом попала горничной к купцам Кузьминым. Ну, понятно, что у купцов горничная делает. Для сокрытия, как говорится, девичьего греха Кузьмины выдали ее за приказчика Шанина, омского доверенного Дерова. Дали приданое, да девица и сама, греша, воровать успевала. Деров, чтобы обмануть кредиторов, оформил фиктивную продажу своего магазина Шанину. Но тут старый волк просчитался: супруги Шанины ему показали кукиш — у них оказалось достаточно денег, чтобы самим вести дело. Однако муж Шаниной только мешал — размаху у него не было, хоть в хозяева попал, а в душе приказчиком остался. Она его и отравила. Дело маленькое. Построила еще один магазин — на том именно месте под горой, где в молодые годы деготь продавала. Торговля по всему Иртышу. Миллионы. А сейчас госпожа Шанина член, кажется, десятка благотворительных и даже научных обществ...
Внимательно слушают Сорокина молодые прозаики. Один из них пишет хорошие, документально точные рассказы о тяжкой дороге переселенцев. Второй, Кондратий Урманов, совсем еще начинающий, талант его полностью развернется уже в советское время, а творческий путь продолжится до наших дней...
Таков был круг писателя Антона Сорокина в предреволюционные годы. Отношения с «кругом» не очень близкие, но корректные. Обычно. Но бывало, что «круг» выходил из себя. С Сорокиным переставали здороваться. Как-то омские писатели даже опубликовали «манифест», где торжественно клялись отказаться от сотрудничества в любом печатном органе, который опубликует хотя бы строчку Антона Сорокина.
Между тем, Антон Семенович охотно рекламировал не только себя, но и своих коллег. Публично заявлял, например: «Александр Новоселов, Георгий Вяткин — гений первый сорт». Возможно, в определении сортности гениев была ирония (а может, и не было — со словом Сорокин часто обращался страшно небрежно), но однажды он назвал Новоселова «великим писателем» совершенно всерьез, рискуя при этом жизнью (об этом тоже после).
Но люди «круга» испуганно шарахались, слыша такие дружеские рекомендации. Они совсем не стремились числиться в гениях. Но им очень хотелось, чтобы все признали, что они настоящие писатели, совсем такие, как столичные, хоть и не из очень известных.
Рекламные скандалы Сорокина первоначально не нарушали буквы закона и внешне не выглядели неблагопристойными (и позже, после революции, он писал московскому знакомому: «Жаль, что я не в Москве... Есть еще силы, натворил бы я там литературных дел, люблю я поскандалить с толком, чувством и, главное, тихо, незаметно...»). Для начала он стал клеить изобретенным им необычайно прочным клеем отрывки из своих произведений на афишных тумбах, заборах и стенах домов. Отрывки выглядели таинственно и очень смущали горожан. Вывешивал Сорокин, впрочем, и отдельные свои изречения.
Затем, найдя, что редактора сибирских газет и журналов так редко печатают его потому, что считают литературным неудачником и графоманом, он принялся посылать свои рассказы в редакции под различными псевдонимами или вообще под чужими фамилиями. Каждый раз, когда редактора попадались на удочку, Сорокин сообщал об этом публике, снисходительно жалея редакторов за глупость и неумение выполнять свои обязанности.
Стал — с большим мастерством — сочинять от имени знаменитостей хвалебные отзывы на свои произведения. Сочинил, в частности, записку, якобы написанную Львом Толстым по прочтении одного сорокинского романа, напечатанного, кстати, много лет спустя после смерти Толстого.
Выступая с публичным чтением своих рассказов (а читал он страшно скверно, голос у него был тихий, шелестящий, какой-то бескровный — предвестье болезни легких), он доставал из кармана позеленевший медный подсвечник со вставленным из него огарком, и — пусть в окна лились лучи полуденного солнца, пусть сверкала зала электрическим светом, — непременно зажигал свечу. В этом и заключался «Знаменитый номер со свечой».
Никто не знал, что сие обозначало. Может быть, Антон Семенович намекал на фонарь Диогена?
Эту свечу Антон Семенович изобразил (он был хорошим гравером) на своем экслибрисе. Свеча оплывала, оплывы на подсвечнике образовывали в два ряда буквы: «Антон Сорокин».
Экслибрис он наклеивал не на книги, а на рукописи, посылавшиеся в редакции, и требовал, чтобы его воспроизводили типографским способом при печатанье рассказов, считая, что так читатель лучше запомнит имя автора.
Он разорялся на бумаге, готовя массу копий каждого рассказа. Он печатал их на гектографе. Смесь для гектографа готовилась тоже по какому-то особому, сорокинскому, рецепту.
Каждый рассказ посылался в десятки редакций. Кроме того копии всех своих произведений Антон Семенович направлял в крупнейшие книгохранилища мира.
Печатали его мало. Ругали много, грубо и странно. Например, «литературным мародером».
А он писал, писал. Писал на службе, выполнив свой двойной урок, вернувшись со службы домой. Он никогда не выходил из дому без цели, просто так, погулять. Все в его жизни было подчинено одному.
«Писатель слов и сочинитель фраз, он за рассказом оставлял рассказ» (Леонид Мартынов).
— Я настойчив, как Мартин Иден, и упрям, как русский крестьянин, — любил повторять он.
4
Что же заставляло столь разумного, по определению Вс. Иванова, и скромного по характеру человека, как Антон Сорокин, ходить на голове? Ведь он же отлично понимал унизительность этой клоунады: «Мы, милостью мысли Антон Сорокин, в газетном колпаке шут Бенеццо, кувыркаемся на подмостках мысли человеческой. Лицо наше размалевано и одеяние в тусклых блестках. Мы приходим к холодному городу давать наше представление, скулить, как подбитый пес, и делать веселой битую морду...»
Что это— патологическая жажда славы?
Нет, совсем не ради популярности Сорокин; скандалил, паясничал, мистифицировал и Дразнил публику.
Его коллеги считали, что своим паясничеством Сорокин унижает звание писателя, которое они очень уважали, отчасти потому, что не вполне были уверены, имеют ли они право на это звание.
Но сорокинское шутовство рождалось тоже из огромного уважения к литературе, к писательству, из преувеличенного даже представления о силе художественного слова.
Он считал, что писатель (такой, как он) — это пропой ведник, пророк, который может научить человечество лучшей жизни, избавить от пороков, указать ему путь к счастью.
Надо только, чтобы люди прочли и поняли. Надо любыми средствами привлечь их к написанному. И пусть они смеются и издеваются над клоуном — это терновый венец писателя, — мудрость его поучений исправит их.
На одной из своих картин Сорокин изобразил себя в облике распятого Христа.
Писатель искренне не замечал, что проповедь его весьма смутна, неопределенна. О том, как исковеркана жизнь золотом, собственничеством и тысячью порожденных им недугов, он говорил порой очень сильно, но его рецепты лечения были страшно наивны. Будьте добры, гуманны, цените выше денег искренние человеческие чувства — вот, собственно, и все к чему он мог призвать Омские- епархиальные ведомости» называли его «отрицающим христианство сектантом-никудышником». Наивное морализирование, бесспорно, мешало ему, как художнику.
Ему хотелось быстрее прорваться к сердцу и сознанию читателя, он писал притчи и аллегории. В его рассказах, особенно дореволюционного периода, часто нет вещного, пластического наполнения, нет звуков, красок и запахов живой жизни. Он сводит образ к формуле. Он хватает первые подвернувшиеся слова, бросает их как попало, не заботясь об их точности, ломая живую интонацию речи.
Ему было очень важно что и совсем не важно к а к, и он забывал, что в искусстве что и как нераздельны.
Несомненно, у Сорокина было большое дарование, если он даже несмотря на эту схему создавал порой вещи яркие и выразительные.
Еф. Беленький справедливо считает литературными учителями Антона Сорокина двоих столь разных художников, как Леонид Андреев и Максим Горький (это, между прочим, отразилось в названии крупнейшего произведения Сорокина — антивоенного романа «Хохот желтого дьявола» — название восходит не только к «Городу желтого дьявола» М. Горького, но и к «Красному смеху» Л. Андреева). От Андреева у омского писателя любовь к предельно обобщенным, «сформулированным» образам — символам, своеобразный «антибытовизм», стремление к «библейскому», проповедническому ритму прозы (им Сорокин владеет, впрочем, неизмеримо хуже своего учителя, умевшего временами достигать здесь почти гипнотического эффекта). Но в отличии от агностика и пессимиста Андреева Сорокин твердо верит во все могущество человеческой мысли, считает ее величайшей ценностью в мире, и тут он верный последователь Горького. Иногда в своих рассказах Сорокин Горького почти цитирует. Так, «Песни Джеменея» кончаются словами: «А о смерти Джеменея сказки расскажут и песни споют».
Наиболееживые его рассказы— о казахах.
Конечно, павлодарец Сорокин с детства знал казахский быт, но знание его было совсем не таким безукоризненным, как это иногда считают. Ошибки в его первых «казахских» рассказах нередки. Так, в «Печальных песнях Ачара» он пишет о некоем Туянбае: «Шесть было жен у него молодых», не зная, что как правоверный Туянбай не мог иметь больше четырех жен.
Но с переездом в Омск интерес Сорокина к жизни степи не уменьшился, а возрос. В Омске жило немало казахов — и грузчиков в порту, и студентов учительской семинарии, и представителей национальной интеллигенции. Среди них были люди разных взглядов и разных судеб — от будущего вождя алаш-орды Алихана Букейханова до будущего председателя Совнаркома Казахской Советской Республики Сакена Сейфуллина. Сорокин хорошо знал многих омских казахов — и интеллигентов и рабочих. В дальнейшие свои приезды в Павлодар и его окрестности Антон Семенович интересовался жизнью казахов уже целеустремленно, по-писательски и чем дальше, тем лучше, полнее и глубже изучал ее и воссоздавал в своих рассказах.
Степь, о которой пишет Сорокин, — это исторически-конкретный Казахстан начала века с его характерными приметами, явственными изменениями в привычном вековом укладе. Герой рассказа «Запах родины» обращается к сыну, давно покинувшему степь: «Не стоит уж наш аул на бег регу озера Темир-Туз и не узнаешь места, где провел свою юность. Там стоит деревня крестьян. Пришли люди неизвестно откуда и косят наш покос, траву сочную, зеленую, а наш скот стоит на солончаке... Беднеть стали, да могил в степи стало больше... Тесно станет в степи...»
Весь рассказ этот — монолог, нельзя понять устный ли, реальный или лишь мысленный, старика-отца, адресованный сыну. Отцу хотелось бы вернуть его в аул, с ехидной горечью сравнивает он прошлую аульную жизнь молодого казаха с его нынешней, городской: «И вот посмотрите па моего ученого сына... И расскажу я его жизнь: сидит он целый день в душной комнате, считает на счетах деньги, которых не видел и в руках не держал, и записывает в большой книге. А вечером идет по улицам большого города домой и обедает, а потом идет в гости, пьет вино и играет в карты. А потом, шатаясь из стороны в сторону, ночью приходит. Жены нет дома... И ложится он один в холодную постель, а когда поют петухи, приходит жена. Как султаншу, провожают ее три-четыре мужчины. Вот какая веселая жизнь у моего сына».
Монолог старика-казаха проникнут бознадежностью: сын в степь не вернется, да и степь уже не та...
О трагедии аула, оставленного один на один с ужасной бедой, — сильный рассказ «Страшный танец кутерме». В нем взят неожиданный ракурс: рассказчиком выступает антрепренер маленькой провинциальной труппы, скитающейся по степным городкам, человек недалекий и лишенный всякой щепетильности, но не злой.
Во время скитаний в буран труппа натыкается на казахский аул, потерявший весь скот, стоящий на пороге голодной смерти. «Проклинал я прежде жизнь актерскую, а как увидел, что там у них в ауле делается, так сказал: смотрите, артисты, вы вечно озлоблены и проклинаете жизнь, вот где действительное горе... Я узнал, что в этой местности джут. Джут, надо вам сказать, скверная штука... Степь покрывается льдом, скотина бьет ногами этот лед и не может достать травы: поголодав, падает и не может встать... В том ауле, куда мы приехали, пропали уже все лошади, пропали бараны, коровы, верблюды».
Рассказчик слушает страшную песнь отчаянья, которую ноет голодный аул. Он искренне сочувствует несчастным людям, но своим антрепренерским умом тут же прикидывает: эффектное зрелище! «Вот что нужно этому чудовищу, публике, вот чего она ищет в театре... Чего ищет в театре публика? Она идет насладиться смехом, красотой — или видеть такое страдание, чтобы почувствовать свое мещанское счастье. Идет, чтобы сказать: вот как страдают люди, а я, слава богу, нет».
Антрепренер привозит аулчан в город и устраивает представление. «Раздвинулся занавес, и на сцене лежала настоящая голодная лошадь, а оборванные киргизы начали песню — песню жалобы, песню слез, песню отчаянья. И начиналась эта песня так: «Душно нам стало в степи: земли не хватает, скотина у нас умирает, весь скот у нас скоро будет кутерме, скоро мы сами будем кутерме. Кто нас тогда будет поднимать?»
Спектакль имеет огромный успех, зрелище подлинного горя потрясает даже павлодарских мещан (тем более, что это их ни к чему не обязывает), но власти не могут допустить правды на сцене. Антрепренера с его несчастными «артистами» в двадцать четыре часа выселяют из города...
5
В самый канун первой мировой войны Сорокин начал печатать в газете «Омский вестник» роман «Хохот желтого дьявола». Роман печатался с продолжением, отдельными фельетонами, издатели смотрели на него как на полубульварное чтиво, способное помочь привлечению новых подписчиков. Они спохватились только после объявления войны, когда действительность стала зловеще повторять вымысел писателя. Роман допечатывался с большими купюрами.
Впоследствии Антон Сорокин называл «Хохот желтого дьявола» своим шедевром, и он имел право гордиться своим произведением, несмотря на его художественное несовершенство. Трудно назвать в русской и мировой литературе писателя, который сумел бы в этот исторический момент так прозорливо заглянуть в ближайшее историческое будущее, как это сделал Сорокин.
Среди писателей либерально-демократического толка царила тогда благодушная уверенность: время больших войн навсегда прошло, человечество настолько выросло и цивилизовалось, что никогда не допустит их.
А омский писатель показал Землю, охваченную пламенем, показал ужас и размах большой войны двадцатого столетия.
Он прямо указал и на то, что войну несет «Желтый дьявол», несет капитализм.
Рассказ ведется от имени одного из участников и руководителей войны, некоего полковника. После победы вчерашние союзники ссорятся между собой, назревает новый конфликт. Полковник едет в Париж к всемирно знаменитому банкиру Дацарио организовывать заем для продолжения войны. Дацарио демонстрирует полковнику всемогущество золота:
«Он подошел к окну, раскрыл его и показал рукой — смотрите. И я посмотрел с пятого этажа. На большой ули-. це копошились люди, как муравьи и быстро неслись авто-; мобили, трамваи, мчались на велосипедах. Банкир сказал: — Это они воюют за право жить. Война без выстрелов, но есть раненые и убитые. Посмотрите, на окраинах горо-да апаши и хулиганы — это выбитые из строя. Вот посмотрите — статьи в газетах, тут написано: нашей стране нужно вооружиться, так как соседние державы сделали крупные заказы на пушки, пулеметы и броненосцы. По достоверным сведениям соседняя держава спешно готовится к войне. Все эти статьи оплачивает известный пушечно-литейный завод для того, чтобы иметь больше заказов, вовлекая в войну, которая рано или поздно, но благодаря этому за воду произойдет между двумя могущественными державами».
Иркутский литературовед В. Трушкин пишет в книге «Литературная Сибирь первых лет революции»: «Это был откровенный и резкий протест писателя против жестокой бессмыслицы войны, затеваемой маленькими тщеславными полковниками на иностранные займы. Сатира Сорокина метила далеко. Герой его «Желтого дьявола» в сознании читателя невольно ассоциировался с коронованным полковником — последним самодержцем Николаем II, щедро бравшим займы у французских банкиров для расправы а первую очередь с непокорными подданными».
Но выше пацифизма Сорокин, далекий от марксистских идей, от большевистской партии, подняться, конечно, не мог.
Однако его общественная позиция в канун и в начале мировой войны выгодно отличалась от позиции многих известных русских писателей, даже принадлежавших в прошлом к демократическому направлению, одурманенных милитаристским и шовинистическим угаром. Среди них были и Леонид Андреев, и Куприн, и Брюсов, и Гумилев, и Северянин.
Не многие разглядели сразу же тяжесть трагедии, что несла война русскому народу, прежде всего Горький, Блок, Маяковский.
«Хохот желтого дьявола» Сорокин считал своей общественной заслугой и, как всегда, гиперболически веря во все-могущество печатного слова, сам сшивал вырезки из «Омского вестника» и рассылал их всюду, куда мог, наивно надеясь, что, может быть, его предостережение еще остановит чудовищный локомотив войны.
Но локомотив уже мчался под уклон.
Именно за «Хохот» Сорокин и добивался Нобелевской премии — он претендовал не на литературную премию, а на так называемую премию мира, присуждавшуюся за антивоенную деятельность. Нобелевская премия ему нужна была для рекламы, в данном случае вернее — пропаганды своего романа-предостережения.
Этой же дели служило и «имевшее место» в первые месяцы войны «самоубийство» Сорокина. Не случайно оно «произошло» над немецким городом Гамбургом. Этим фантастическим способом писатель выражал свой протест против начавшейся бойни.
Опубликованный в «Огоньке» и «Синем журнале» так сказать автонекролог Сорокина сильно повредил его репутации, окончательно убедив многих окружающих, что перед ними или безумец или авантюрист. Но редакции, действительно, с ходу заинтересовались его рукописями. Впрочем, это продолжалось недолго, и как только выяснилось, что Антон Сорокин жив, интерес к нему пропал.
«Патриотический» ажиотаж вообще не захватил омских литераторов. Об этом свидетельствует, в частности, выпущенный ими в 1915 году большой коллективный сборник «Жертвам войны» (доход от него целиком шел «на нужды раненых и больных воинов»), В нем не было ни одной ура-патриотической строчки, а общее настроение альманаха, пожалуй, неплохо выражали строки из стихотворения Г. Вяткина, завершавшего сборник: «Всмотрись, прислушайся. Пойми, как все тоскует, как стонет вся земля в страдании и зле, как все чего-то ждет... Холодный ветер дует, но ясный день встает, но небо уж ликует... Весною духа веет на земле».
Сборник вышел весьма высоким по литературному качеству и явно противостоял казенным песням бардов войны. Соколов-Митрич напечатал в нем воспоминание о народовольце и поэте П. Ф. Якубовиче, Новоселов — два сильных, проникнутых гуманистическим духом рассказа — «Исишкииа мечта» и «Санькин марал», А. Ершов — вероятно, лучшее свое произведение, большой рассказ о крестном пути переселенцев «В поисках родины», М. Плотников — очерки о быте народностей низовьев Иртыша — «Суд», «Манси», «Шунгур».
Сорокин дал в альманах несколько казахских рассказов — «Печальная песня Ачара», «Тында-тунда, трава стона», «Последний бакса Иштар», «О чем плакал Кенжетай», «Дар степи — трава джусан».
6
Свержение самодержавия в Омске встретили по-разному.
Были в городе и ярые монархисты — чиновничья и казачья верхушка да кое-кто и из рядовых казаков. Ведь Омск был задуман и рос два столетия как военно-административный форпост, как башня для ретрансляции воли царизма на окраину империи. Профессиональные исполнители этой воли всегда составляли значительную часть населения столицы Степного края.
Но монархистам пока пришлось помалкивать.
Была в городе буржуазия, торговая и промышленная, решившая, что пришла пора открыто брать власть в свой руки.
Был пролетариат — железнодорожники, рабочие фабрик и заводов, речники — пролетариат кадровый, сознательный, прошедший школу девятьсот пятого года. За молодым большевиком, руководителем железнодорожников Залманом Лобковым омские рабочие были готовы идти в огонь и воду (после падения Советской власти в Сибири этот талантливейший юноша, прекрасный оратор и организатор, был растерзан колчаковцами в Челябинске).
Было очень много крестьян в солдатской форме, вернувшихся с фронта из-за ранений или ждавших отправки на фронт, не очень-то разбиравшихся в обстановке, но крайне злых на тех, кто оторвал их от земли и семьи и гонит на смерть неизвестно во имя чего.
И была мелкобуржуазная интеллигенция, восторженная н растерянная, уверовавшая в свою миссию руководства .массами, до хрипоты витийствовавшая на митингах, сутками заседавшая в комиссиях и комитетах, что росли как обабки в колках после дождя, и суетливо бегавшая от одного знамени к другому.
Весной начали выходить «Известия Омского Совета». В них поэт-фельетонист Д. Гаров печатал едкие частушки, обличавшие всеядность интеллигенции: «Приглянулся мне кадет вкупе с анархистами, замочила им жилет я слезами чистыми. У дружка я на руках нежилась, скорбящая, да милой меня в сердцах обозвал «гулящею»... Лезут в щелочки бочком домократы куцые, поспевают петушком, эх, за революцией!»
Временное правительство призывало к единению нации для войны до победного конца. Омский фельетонист разоблачал это фальшивое единение — единение реакционеров всех мастей против революционного народа: «И смотрелось так-то мило, так-то трогательно было, что судейский генерал и серьезен и неистов под водительством «марксистов» пел, как «жертвою он пал»... Ах, все было так приятно, что казалось непонятно, почему на красных флагах бело-синих нет полос и, ступая мерным шагом, лик царя никто не нес?»
Литераторы, сидевшие на «пятницах» за одним столом, оказались в разных станах. Вернулся с Кавказского фронта член фронтового Совета солдатских депутатов большевик Феоктист Березовский и гремел на митингах против Александра Новоселова, вступившего в партию эсеров и мечтавшего о провозглашении в ближайшее время независимости Сибири.
Антон Семенович с его схематично-обобщенным взглядом на мир в «партийных оттенках» разбираться не хотел, на собраниях не выступал и вообще в политическую борьбу не вмешивался. Больше всего он ценил революцию за то, что она предоставила самые широкие возможности для творчества. Он старался сплотить вокруг себя людей искусства. Писатели и художники стали часто собираться в доме на Лермонтовской. Но бывшие посетители «пятниц» здесь почти не появлялись. Здесь был уже новый кружок.
Приходил молодой ученый Петр Драверт, лишь в тридцать пять лет окончивший университет (окончить раньше помешали две длительные ссылки за участие в «волнениях»), Чуть не ежедневно в фатовски заломленной студенческой фуражке появлялся молодой поэт Оленич-Гнененко. Он, как тогда говорили, «болыневиковал» и вступил в Красную гвардию. Бывали другие молодые стихотворцы—Юрин Сопов, Георгий Маслов. Маслов приехал из Петроград,-). Молодой пушкинист, воспитанник семинара профессора Венгерова, он, по характеристике хорошо знавшего его Ю. Н. Тынянова, жил «почти реально в Петербурге 20-х годов» XIX века. Он писал поэму «Аврора» об известной красавице пушкинской эпохи Авроре Карловне Шернваль. Через несколько лет поэма была издана с предисловием Тынянова.
Всеволод Иванов, лохматый, молодой, очкастый, при-; ехал из Кургана — его избрали в бюро профессионального союза печатников Западной Сибири. Впрочем, заочно с Антоном Семеновичем он уже был знаком. Много лет спустя он вспоминал:
«Я напечатал в газете «Прииртышье» два или три рассказа и вскоре после этого получил открытку, подписанную очень оригинально: «Король писателей Антон Сорокин». В этой открытке сообщалось мне не более и не менее как то, что рассказы мои весьма оригинальны, самобытны: «Вы гений». Я не знал тогда, что Антон Сорокин каждого своего знакомого писателя или художника называет гением, считая не без оснований, что это лучший способ привязать к себе человека. И действительно — люди быстро привязывались к нему, причем люди самого различного склада ума и художественных вкусов».
Вс. Иванов в ту пору был автором рассказов, составивших его первую книжку «Рогульки», набранную самим автором и отпечатанную в количестве семидесяти пяти экземпляров. Но его еще неокрепший талант, готовившийся к стремительному творческому рывку, совершенному через четыре года, уже приметил и запомнил Горький.
В 1917 году между многими прочими Сорокин написал два рассказа, которые в какой-то степени характеризуют его отношение к происходившему вокруг, его взгляды, идеалы.
Первый из них, «Дафтар», повествует о будущем, где кончилась власть денег, где золото потеряло цену, где нет границ, банкиров, бедняков. Дафтар — очередное сорокинское воплощение «Желтого дьявола» — «тот, кто основал свое царство на власти золота», приходит на землю и убеждается в своем бессилии: ничего не может он получить за деньги, труженик-пахарь с презрением отвергает его золото: «Бросил мужик горсть золотых, и упали они на черную рыхлую землю и казались желтыми плевками на черной земле».
