Свеча Дон-Кихота — Павел Косенко
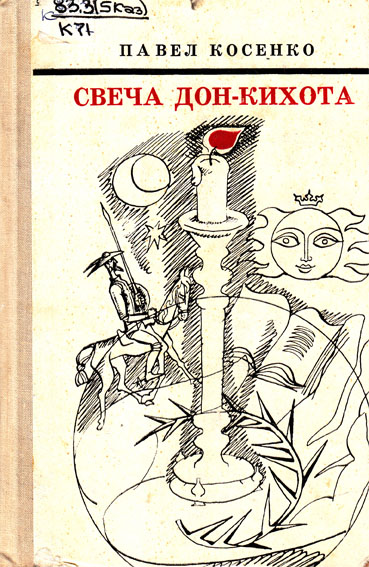
| Аты: | Свеча Дон-Кихота |
| Автор: | Павел Косенко |
| Жанр: | Әдебиет |
| Баспагер: | |
| Жылы: | 1973 |
| ISBN: | |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Страница - 14
СИЛОЮ СЛОВА
Больше сорока лет назад в августе 1931 года молодой писатель послал свою первую, только что вышедшую в свет в московском издательстве «Федерация» книгу Алексею Максимовичу Горькому. Ответ пришел неправдоподобно быстро — через неделю. Он начинался так: «Вы написали очень хорошую книгу — это неоспоримо. Читая «Горькую линию», получаешь впечатление, что автор — человек даровитый, к делу своему относится вполне серьезно, будучи казаком, находит в себе достаточно смелости и свободы для того, чтобы изображать казаков с беспощадной и правдивой суровостью, вполне заслуженной ими. Вам 25 лет, пишете Вы о том, что видели, когда Вам было 12 лет, и, разумеется, Вы не могли видеть всего, что изображается Вами. Но когда читаешь Вашу книгу — чувствуешь, что Вы как будто были непосредственным зрителем и участником всех событий, изображаемых Вами, что Вы как бы подслушали все мысли, поняли все чувства всех Ваших героев. Вот это и есть подлинное, настоящее искусство изображении жизни силою слова».
Получить от великого художника такую оценку своего труда — счастье для писателя. Такие письма не забываются. В самые нелегкие годы писательской биографии Ивана Шухова, когда новые книги его упорно отвергались издательствами, а прежнее творчество стало привычной мишенью для конъюнктурной критики, это письмо (и последовавшие за ним — до самой смерти Горький пристально, требовательно и доброжелательно следил за путем молодого прозаика) поддерживало писателя, не давало свернуть на легкие, протоптанные тропки, заставляло бороться за признание своей творческой манеры, своего «искусства изображения жизни силою слова».
Первые варианты лучших книг Ивана Шухова — «Горькой линии» и «Ненависти» — были созданы за несколько месяцев единым взрывом молодой творческой энергии. Их сила и своеобразие покорили читателей. Любому непредвзятому взгляду стало ясно, что в советскую литературу пришел даровитый и оригинальный художник с собственным видением мира, с новыми темами, с неповторимой палитрой.
Но взрыву предшествовал длительный период накопления материала и выработки почерка. Он начался в детские годы, когда в родной Пресновке — одном из форпостов линии Сибирского казачьего войска на границе с казахской степью — мальчик видел, как расколол Октябрь казачью станицу, стал свидетелем драматичнейшей эпохи ее бытия. Он продолжался в годы учебы на рабфаке в Омске и Московском литературном институте имени Брюсова, когда студент Шухов делал первые шаги в журналистике (интересно, что учил писать в газету Шухова молодой очеркист Андрей Алдан-Семенов, впоследствии известный поэт и прозаик, автор многих книг стихов, романа «Красные и белые», художественных биографий замечательных путешественников — Черского и Семенова-Тян-Шанского).
Особенно плодотворно для накопления впечатлений было короткое, но очень насыщенное время профессиональной работы в газете. И. Шухов вспоминает: «Работая разъездным корреспондентом, я два года не вылезал из телеги и саней, объездил огромную территорию нынешних Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской и Пермской областей, заезжая в Казахстан».
При всей своей оригинальности и неожиданности первые романы И. Шухова не были в литературе явлением случайным и единичным, зависящим только от характера дарования их создателя. Они лишь с наибольшей в тот момент полнотой выразили особенности творчества целой группы молодых советских прозаиков и поэтов, чьи книги позже оставили очень заметный след в истории нашей литературы. Характерен перечень литературных знакомств и дружб Шухова той поры. В Омске он особенно близок с молодым Леонидом Мартыновым, в Новосибирске — с Павлом Васильевым, лишь начинавшим свою неповторимую яркую песню, в Свердловске — с П. П. Бажовым, который был уже годами не молод, но чья писательская слава была еще далеко впереди («Большое влияние на писательскую мою судьбу оказал Павел Петрович Бажов, бок о бок с которым посчастливилось мне поработать около двух лет»).
Все это очень разные художники, но в их творчестве нетрудно обнаружить и общие черты. Рассказывая о жизни бывших окраин царской России, они решительно пересматривали бытовавший в старой литературе взгляд на эти края, как извечную обитель темноты, невежества и горя. Все они были художниками, рожденными революцией, и она дала им новое, жизнеутверждающее мироощущение. Темы их часто трагичны, но в самой трагедии слышится утверждение жизни. История родных краев для этих писателей — что-то до боли свое, не вычитанное из книг, а перешедшее в кровь от отцов и дедов.
Настоящие песни родной земле слагал и Иван Шухов:
«Степь!
Родимые, не знавшие ни конца, ни края, просторы. Одинокие ветряки близ пыльных дорог. Неясный, грустно синеющий вдали росчерк березовых перелесков. Горькой запах обмытой предрассветным дождем земли. Азиатский ветер, пропитанный дымом кизячьих костров. Трубный клич лебедей на рассвете и печальный крик затерявшегося в вечерней мгле чибиса. О, как далеко слышна там в предзакатный час заблудившаяся в ковыльных просторах проголосная девичья песня!..
Джигитует в родимых просторах ветер, пропитанный солью степных озер и дыханием далекой пустыни. И плывут, плывут безучастные к жизни и смерти, кочуют из края в край над этой землей легкие, как паруса, облака».
Сын казачьей станицы Шухов не может не любоваться удалью, душевным размахом, щедрой смелостью своих предков: «Вдосталь показаковала, наатаманила в этом краю пришлая из Прикаспийских пустынь, с Дона, Волги и Яика казачья вольница. И по полузабытым, лихим и тревожным песням ее можно судить о том, как, бывало, отгораживались на Горькой линии частоколом, водой и рвами линейные казаки от немирных своих соседей; как закладывали они лет двести тому назад в этих местах и поныне существующие земляные крепости, маяки и редуты.
Хаживали эти хмельные от вольности ребята на легкий рискованный промысел в глубинную степь... Не гнушались лихие станичники ни индийским серебром, ни китайской парчой, пи персидскими коврами, ни полоненными дикарками со смуглыми лицами».
Но вся любовь к родной земле, к родным по крови людям не помешала писателю сказать — и в том-то проявилась его художническая смелость и свобода, о которой говорил Горький, — жестокую правду о сибирском казачестве, о запутанных его судьбах, о той роли, что сыграло оно в дни великих исторических перемен. С глубокой болью рассказывал И. Шухов о том, как потомки рыцарей казачьей вольницы стали карательным отрядом самодержавия.
Писатель внимательно прослеживает, как проявляются тщательно культивировавшиеся политикой царизма «сословные черты» казачества: кичливость своим привилегированным положением, презрение к переселенцам, ненависть к казахской бедноте, холодная жестокость. Царизму было выгодно создать легенду о монолитности казачества, о единстве его интересов, и эта легенда пережила царизм. Ее использовали в своих целях злобные враги Советской власти в 20-е годы. И большое политическое значение имел в то время роман И. Шухова, который, следуя здесь за шолоховским «Тихим Доном», нанес этой легенде сильнейший удар.
«Горькая линия» показала социальное расслоение казачества, показала, что время крутых исторических перемен разбило его на два непримиримых лагеря, показала, как приходят к осознанию правды революции лучшие люди станицы, такие, как Федор Бушуев, как есаул Стрепетов.
Уж в первом своем романе И. Шухов показал себя мастером пластического изображения действительности «силою слова». Читая его, словно смотришь талантливо поставленный, увлекательный спектакль, в реальности героев которого невозможно усомниться. Кульминационные моменты его необычайно впечатляют. Это не повседневный быт, а бытие, взятое в его напряженнейших взлетах. Эта «зрелищность» — одна из самых характерных черт творческой манеры писателя.
Вряд ли сможет кто забыть финал «Ненависти» — въезжающий в хутор Арлагуль трактор без водителя — за рычаги его зацепилось и трепещет на ветру «алое пламя» косынки убитой кулаками трактористки. Или ту сцену этого романа, когда умный враг колхозов Епифан Окатов, лицемерно отрекаясь от своего прошлого, взбирается на колокольню и потрясает оттуда рваной старой галошей: «Уподоблю ее теперь публично всей моей неразумной и, прямо скажем, вредной в прошлом жизни».
Поэтика Шухова с ее яркой образностью, нередким гиперболизмом и пренебрежением к натуралистической «точности» не раз вызывала нападки близорукой критики. С молодым задором отвечал на них писатель: «Обвинений же критики в чрезмерной перегруженности языка зачастую надуманными эпитетами принять не могу, ибо кто меня может убедить в том, что «синие сны озер» — плохо, если это на самом деле хорошо. Трудно объяснить эту строчку, просто невозможно. Надо поехать в Акмолинскую степь и поглядеть в знойный полдень на эти озера».
«Ненависть» была активнейшим вторжением писателя в самую гущу современности. Коллективизация в Казахстанских степях была в самом разгаре, когда в «Октябре» начался печататься роман. Это был рапорт с поля боя, и, разумеется, невозможно требовать от него спокойствия и беспристрастной объективности. Книга помогала многочисленным Фешкам и Романам в их яростной борьбе за установление справедливой жизни, и, конечно, писатель был пристрастен в своей любви к ним и в ненависти к тем, кто скрежетал зубами: «Отказаковали, открасовались, выходит, мы, линейные сибирские казачки, в родной стороне. Приходит каюк всему: накопленному добру, наживе, воле. До чего дошло, Киргизию — неумытую орду — к власти над нашим братом разные там ячеешники допустили!.. Нет, брат, шалишь! Не на таких нарвались! Руки связывать нам не позволим. Час пробьет, мы — линейные старожилы — о себе напомним!»
Но, конечно, такое пристрастие не мешало, а помогало писателю с наибольшей полнотой выразить правду жизни. И, многократно переделывая роман, уточняя и расширяя его, автор ни в коей мере не коснулся его идейной основы, ни в чем не ослабил того накала классовой ненависти к врагам советского строя, который пылал на страницах романа сорок лет назад.
Написав «Горькую линию» и «Ненависть» за очень короткий срок, И. Шухов затем по суги дела всю жизнь работал над их углублением. Сколько изданий — столько новых вариантов. Это не комплиментарное преувеличение, а самый доподлинный факт, говорящий о высокой требовательности художника к себе. В середине 30-х годов был написан роман «Родина» (первоначальное название — «Поединок»). Ныне его не существует — он полностью вошел в новую редакцию «Ненависти», значительно расширив панораму социалистического строительства в степи. Между тем нынешняя «Ненависть» — совершенно цельное произведение, п сегодняшний читатель никак не обнаружит, что в ней соединены — органически, а не механически — два разных романа.
Сороковые и пятидесятые годы писатель почти полностью отдал работе над очерками. Они составили несколько объемистых томов. Это очерки художника, работа над словом в них так же тщательна и талантлива, как и в больших полотнах писателя. Они дали правдивую и яркую картину сложной и трудной эпопеи освоения новых земель в Казахстане.
В шестидесятые годы И. Шухов совершил несколько поездок за границу. Если раньше его творчество не покидало рубежей Казахстана и Сибири, то теперь оно шагнуло и за океан. Но и в «Югославском дневнике» и в книге «Дни и ночи Америки» писатель-казахстанец остается самим собой. Это не легкие путевые заметки, это серьезные, вдумчивые наблюдения человека, который берет с собой в путешествие весь свой жизненный опыт, мысли многих лет. Это наблюдения человека доброжелательного к непривычному, новому и твердо уверенного в правоте дела, которому он служил всю жизнь: «Близко общаясь при наших встречах с простым народом Америки — фермерами штата Огайо и рабочими Чикаго, литераторами и учеными, шоферами такси и служащими отелей, мы не без удовольствия отмечали весьма приятные, импонирующие нам, советским людям, общенациональные черты характера этого народа. Его трудолюбие. Строгую деловитость. Чувство юмора. Склонность к незлобивой шутке. Добродушие, гостеприимство.
Что же касается странного с нашей, советской, точки зрения не в меру ретивого поклонения этих простых, общительных, отзывчивых на чужую беду и на шутку людей перед магической властью узенькой зеленой бумажки — доллара, заслоняющего подчас перед ним все прочие, глубоко земные блага и радости жизни, то виною тому отнюдь не национальный характер американского народа, а социальное его бытие».
Многообразной в последнее десятилетие была работа Шухова — очеркиста, публициста редактора журнала «Простор». Но признавая ее ценность, читатели не уставали ждать нового взрыва творческой энергии, похожего на тот, что создал «Горькую линию» и «Ненависть».
И вот писатель начал публиковать большой автобиографический цикл «Пресновские страницы», вызвавший не только серьезный интерес к себе, но и страстные споры.
Прологом к этому циклу явилась опубликованная в 1968 году «Моя поэма».
Стихи Шухов писал всю жизнь, но никогда в годы зрелости не печатал их (во всяком случае — под своим именем. Сейчас, конечно, ясно, что многочисленные казачьи песни в «Горькой линии», в свое время воспринимавшиеся читателем как записи подлинного фольклора, на самом деле являются оригинальными поэтическими произведениями автора романа). В начале 60-х годов редактор «Казахстанской правды» друг Шухова ныне покойный Федор Федорович Боярский принес в редакцию большое стихотворение Ивана Петровича «Лето», которое автор читал у него в гостях. Стихи были набраны, но Шухов, узнав об этом, решительно воспротивился, и прекрасное стихотворение так а гранках и осталось.
На этот раз широко известный прозаик, всю жизнь вроде бы даже стыдившийся своего стихотворства (но не оставлявший его!), изменил своему суровому правилу. «Моя поэма», посвященная памяти Павла Васильева и близкая по творческой манере, темпераменту, фактуре стиха к произведениям поэта, рядом с которым Шухов когда-то начинал свой литературный путь, прозвучала как страстное лирическое раздумье о жизни ровесников автора, поколения, на чью долю выпали испытания, ранее никем не изведанные, и победы — такие, которых тоже никто не знал...
А два года спустя появилась первая из повестей «Пресновских страниц» — «Колокол» (с эпиграфом из того же Павла Васильева: «Наши деды с вилами дружили. Наши бабки черный плат носили. Ладили с овчинами отцы. Что мы помним? Разговор сорочий, легкие при новолунье ночи. Тяжкие лампады. Бубенцы!»)
Здесь читатель вновь увидел великолепную живопись словом, такую сочную густоту письма, что она делает совершенно немыслимой беглое чтение, но зато щедро наделяет читателя эмоциональным богатством, делает его видение окружающего мира более острым и глубоким. Вот как, скажем, описано в «Колоколе» начало большого станичного пожара: «Вдруг увидел я в черной, клокочущей бездне неба раскиданную ветром стаю огнеперых птиц. Они, излучая багряные брызги и струи, в смятении порхали в грифельном небе, рывками кидаясь из стороны в сторону, и — то отвесно, то косо — падали, как подбитые, на кровли навесов, домов и амбаров».
Здесь прежнее умение показать явление через неожиданный ракурс, воплотить его суть в острой детали: «...воротившиеся под вечер со степных пастбищ коровы, ошарашенно крутясь позле полуугасающих пепелищ, вдруг подняли рев на всю былую, поверженную в прах станицу. Низко уронив рога, яростно разрывая копытами теплую золу и искрящиеся угли, коровы выли, оплакивая — вместо убитых неслыханной бедой людей — свои бывшие дворы и загоны».
Но есть в «Колоколе» и новое, ранее у Шухова не встречавшееся. Прежде всего — неожиданная степень психологической точности передачи детского восприятия мира. Три дня детства рассказчика — это три ступени познания им окружающей его жизни, ее сложности и полноты, начало возникновения у ребенка из казачьей станицы Пресновская, лежащей на «Горькой линии», ощущения общности между людьми, принадлежности к одной семье, символом которой становится «вечевой голос» «главного колокола» станичной колокольни.
Конечно, было заметно, что изображение жизни казачьей станицы в предреволюционные годы в этой повести носит несколько идиллический характер, но читатель делал скидку на то, что три ее дня увидены глазами четырех-шести-и восьмилетнего ребенка...
К сожалению, во второй повести цикла идилличность и даже идеализация прошлого, в котором рассказчик словно не хочет замечать теневых сторон, уже заметно снижает идейно-художественный уровень произведения. В повести есть прекрасные страницы, передающие поэзию труда «природных пахарей. Мастеров земли. Творцов хлебородия» и то первое ощущение полноты жизни, когда ребенок «зацелован, заласкан, запотчеван» «радостным миром звуков, красок и запахов». Но рядом тут и лишенный исторической точки зрения пересказ биографии «белого генерала» Скобелева, его «подвигов» во время колонизаторского» «покорения» Средней Азии... Понятно то восхищение, с которым герой «Травы в чистом поле», мальчишка из казачьей станицы Ивашка Шухов, смотрит на литографский портрет генерала. Но писателю Шухову не стоило уже от своего лица именовать Скобелева «национальным героем». Ведь национальным героем «белый генерал» не мог стать, потому что его деятельность не выражала интересов русского народа и объективно — несмотря на неприязнь к Скобелеву Александра III и его двора — служила укреплению самодержавия.
Есть здесь у И. Шухова сусальность и в изображении быта юных «скобелевцев», в освещении казачьих традиций...
Порой художник, словно спохватившись, зачеркивает эту идеализацию. Таков превосходный, мне кажется, эпизод, когда Ивашка, зачарованный «парадной формой придворных лейб-гвардейцев» старых станичников, дедов Устина и Платона, в которой они блистают по праздникам, прибегает к отцу и делится с ним своими восторгами.
«...Рассеянно прибарабанивая по столешнице малогибкими, одеревеневшими от полувекового труда пальцами, сказал — как будто не мне, а кому-то иному:
— Мишура все это. Кивера их. Султаны. Регалии... Так,—трень-брень. Трын-трава. Суета сует, как сказывается в писании!»
Как художественно тонко, как к месту тут упомянуты эти «малогибкие, одеревеневшие от полувекового труда» пальцы хлебороба, «прибарабанивая» которыми отец Ивашки, выражая мораль крестьянина-труженика, справедливо называет «мишурой» поразивший мальчика блеск «восхитительной воинской формы».
Я, как и все читатели, с нетерпением жду продолжения шуховского цикла. Ведь подойдя к грозным годам мировой войны и революции, рассказчик вынужден будет отказаться от умиленности «Травы в чистом поле». В рассказе о том суровом времени и должна с новой силой прозвучать высокая страстность писателя, отличающая «Горькую линию» и «Ненависть».
