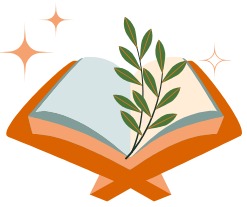Древо обновления — Рымгали Нургалиев
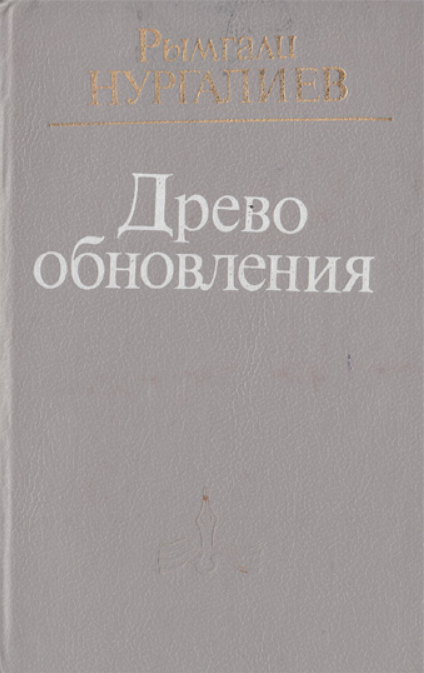
| Аты: | Древо обновления |
| Автор: | Рымгали Нургалиев |
| Жанр: | Білім |
| Баспагер: | |
| Жылы: | 1989 |
| ISBN: | |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Бет - 2
Птицы-песни во всех направленьях летят,
Коль певец многообразной думой богат.
Песня — тень от пленительной думы такой.
Пусть же ритм и мелодия слух покорят!
Песня, ввысь устремленная, льется струей,
Увлекая могучей своей красотой
Беспокойное сердце и жаждущий ум.
Но ее не поймёт тугоухий, глухой!
Песня летит и рождает порывы в сердцах,
И чудесны ее переливы в сердцах —
Радость, скорбь. Убаюкает сердце она,
Укачает его, как дитя, на руках.
Только пенью не всякому сила дана,
И бывает, что музыка чувств лишена
Где то сердце, чтоб, слушая странный напев,
Волновалось, ему отвечая сполна?
Песня, нотой высокой начавшись, парит
И как будто бы «слушай меня!» говорит,
И тогда не услышишь ты звуков иных,
Вникни в музыку, сердцем с мелодией слит!..
(Перевод А. Гатова).
В этих великолепных стихах с гениальным мастерством раскрывается творческая лаборатория поэта, схвачен миг вдохновения. Здесь есть тайна, дух и пафос поэзии.
Мухтар Ауэзов покинул аул в девять лет, его дальнейшая жизнь со всеми радостями и невзгодами, взлетами и поражениями проходила в городах. Но никто еще так не сумел воспеть казахскую степь, как он,— здесь он непревзойден.
Главное условие, самая главная вещь в творчестве писателя — не эмпирические знания, не накопление фактов, а способность раскрыть сущность явлений, освоить их с точки зрения материалистической эстетики. Способность сразу увидеть различие между медью и золотом, простым камнем и алмазом.
Ни один компонент художественного произведения не возникает без участия фантазии писателя. В жизни Абай имел трех жен. Но в романе образ Абая — не копия Абая подлинного, жившего согласно обычаям тех времен, он является типом, вобравшим в себя национальные черты нашего народа.
До сегодняшних дней старики-тобыктинцы говорят а подлинности страшной истории Кодара и Камки. О том, что они действительно совершили кровосмешение. Об этом писал и Шакарим Кудайбердиев. Пусть будет так. Но этому патологическому факту не место в социальном романе. Великий писатель осмыслил его на ином уровне.
В истории казахской литературы нет поэта по имени Айдар. Как историческая личность поэт Дармен, действующий в романе «Абай», не существовал. Прототипом Дармена был двоюродный брат Абая, Шакарим Кудайбердиев (1858—1931), который перевел многие произведения на казахский, внес свою лепту в распространение в степи Пушкина и Толстого, поэт, историк, философ. Так Мухтар Ауэзов увековечил автора знаменитых поэм «Ен-лик — Кебек» и «Калкаман — Мамыр», историка, философа, композитора, создавшего много песен, в образах Айдара и Дармена.
Снохи называли Абая в юности Телкара, его младшего брата Айдар.
Значит в основе художественной правды всегда лежит жизненная правда. Некоторые писатели создают своих гepоeв в соответствии с обликом реальных людей. Эта особенно характерно для произведений И. Тургенева и М. Горького. Хотя писатель берет за основу факт, но в процессе создания произведения ради своей главной цели может изменить ситуацию. События, пережитые отцом Турара Рыскулова, послужили М. Ауэзову жизненной основой для создания образа не менее знаменитого Бахтыгула в повести «Караш-Караш».
Из множества охотничьих историй создано лишь одно реалистическое полотно — «Коксерек».
Во время страшной войны многие женщины не смогли сохранить верность мужьям. Осуждали их жестоко. Но Чингиз Айтматов создал повесть, проникнутую пониманием и сочувствием к горькой судьбе тех женщин.
Противопоставление жизненной и художественной правды ограничивает, урезает возможности искусства. Только факты, материал жизни дают ему плоть и опору. И не только в крупных прозаических и драматургических вещах, но и в поэзии. В статье «Мой Пушкин» В. Я. Брюсов всесторонне обследовал жизненный материал поэмы «Медный всадник». Из книги историка и географа Берга «Подробности всех потопов, случившихся в Санкт-Петербурге», изданной в 1826 году, А. С. Пушкин взял детали и факты, но и заимствовал слова и словосочетания.
Когда жизненный материал входит в художественное произведение, он не приземляет его, наоборот, окрыляет и одухотворяет. Остановимся на одном из главных факторов в создании образа — на принципе обобщения и типизации. Чтобы разработать каркас художественного произведения, художник отбирает и анализирует разные явления. Этот процесс имеет отношение не только к числу, но и качеству, поскольку связан с выяснением социального значения факта, установлением тенденции развития явлений.
Качество, ценность, особенности художественного произведения зависят от созданного в нем человеческого характера. Характер же проявляется в отношении героя к определенному обстоятельству, в его личных особенностях по сравнению с другими, его манере поведения.
Изображение характера не сразу появилось в литературе. В своей «Поэтике» Аристотель говорит, что самым нужным и самым решающим элементом художественного произведения является сюжет. И на самом деле, главной опорой в древнегреческих поэмах «Илиада» и «Одиссея» стала система событий.
Это же можно сказать и об эпосах тюркских народов. Поэмы «Алпамыс», «Ер-Таргын», «Камбар» больше отличаются фабулой, чём характерами.
А в основе многих образов средневековой европейской литературы лежат неоднократно повторяемые религиозные и мифические мотивы. Поднятие образа до характера присуще лишь реалистической литературе.
В двадцатом веке большие художники раскрыли новые, внутренние возможности образа. Если сравнить научно-фантастические романы Жюля Верна и Г. Уэлса, то можно заметить между ними многие различия. В произведениях Жюля Верна факты заимствованы из научных исследований. В книгах художника двадцатого века Г. Уэлса главный конфликт— социальный, осложненный научными идеями.
Искусство наших дней выработало формы, способные выразить любые состояния человеческой души и виды деятельности.
Нынешняя связь между содержанием и формой намного сложнее, чем прежде. Вспоминаются слова Карла Маркса о том, что внешний облик является отражением внутренней духовной сущности. Если оборвется хоть одна нить тонкого кружева, то безусловно потерпит урон произведение в целом.
Проблема вида - формы — в европейской новой модернистской литературе соотносится с творчеством таких художников, как Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Франц Кафка. Общее, что делает их похожими — это требование аполитичности, ухода от общественных схваток, классовой борьбы, партийных программ. Это — невыполнимая установка, потому что образ всегда является субъективным отображением объективного мира, и никакой мастер не может остаться в стороне от общества и социальных влияний.
Основные произведения Альбера Камю широко известны. Его главным принципом, был «объективизм». Но, читая повесть «Чума», видишь, какое расстояние отделяет его писательский принцип от его же художественной практики. Еще одно подтверждение положения о том, что не отображая жизненные явления, не раздумывая о жизни, литература не может сделать и шага.
Образы, типы, созданные гением больших мастеров, не подчиняются времени, смене эпох, национальным вкусам, они одинаково волнуют всех.
Льва Толстого, не принимавшего революцию, Ленин оценил как «зеркало русской революции», Бальзак, стоявший на стороне монархии, восхищал своими романами Маркса и Энгельса. Эта загадка не является такой уж трудной для понимания. Посредством своей фантазии и своего таланта художник-реалист создает произведение, в котором обязательно раскрываются новые черты действительности. Этот феномен рождает разные концепции и разнообразие исследования вокруг одного писателя и одного произведения.
История литературы исследует литературу определенного народа в становлении и. развитии. Здесь рассматриваются не только отдельные факты, но и такие образования, как школы, течения и направления. История литературы всегда органически переплетается с политической и гражданской историей народа, создание ее является верным признаком роста народа, высокого уровня его развития, его зрелости.
Накопление фактов, собирание картотек — не такое уж трудное дело. Сложнее раскрыть закономерности литературного развития. Противоречия многовековой общественной жизни, перипетии на путях развития народа, классовая борьба оставляют в искусстве глубокий и памятный след. Люди искусства, жившие в далекие от нас времена, не могли оставаться в стороне от злободневных проблем своей эпохи, отражение этих проблем присутствует в произведениях.
Русские ориенталисты издавна собирали и издавали образцы казахской дореволюционной литературы, высоко ценили их художественную силу и поэтическую мощь. В советскую эпоху казахская литература стала объектом исследований большой науки. В наше время от трудов, посвященных истории литературы, требуются научная точность, теоретическая подготовленность, трезвая объективность, свежая, нестандартная мысль.
III
История науки о казахском искусстве начинается, видимо, с аль-Фараби. Труды гения, названного Вторым учителем, Аристотелем Востока, до сих пор не потеряли своего значения. Казахское слово «кош» можно толковать не только как перемещение в степи но и как перекочевку знаний из одной исторической эпохи в другую. Судьба Фараби, рожденного на казахской земле в окрестностях Отрара, как бы символизирует нашу историю. Мысли Фараби о прекрасном, о художественности, о законах гармонии перекликаются с материалистическими суждениями и догадками Аристотеля.
После этого перипатетика в истории казахов потянулись века молчания. Высказывания ученых разных времен разных стран об искусстве нашего народа, о его литературе все еще не приведены в систему и не доведены до читателя. А ведь, например, мысли того же Чокана Ва-лиханова, метеором промелькнувшего на казахском небе, о природе словесного искусства, о его исторической судьбе имеют огромное научное значение.
Вместе с колонизацией в казахскую степь пришли слова, запечатленные на бумаге, пришла книга. Известно, что на страницах газет «Туркестан уалайаты», «Дала уалайаты», «Казах», журнала «Айкап» печатались не только статьи по административным вопросам, здесь увидел свет ряд материалов, связанных с историей народа, его .психологией и этнографией. Начался поиск и сбор фольклора, образцов древней литературы.
В журнале «Айкап» была напечатана первая критическая статья будущего революционера Сакена Сейфуллина, в журнале «Абай» Мухтар Ауэзов печатал свои исследования, где рассматривались культурные, бытовые, литературные, научные, хозяйственные, политические вопросы, народные обычаи и традиции. Эти публикации свидетельствовали о появлении на свет казахского литературоведения. Но только после Великой Октябрьской революции казахское литературоведение получило широкое распространение и вступило на путь марксистско-ленинской эстетики. Крупнейший публицист, лингвист, поэт, переводчик, ученый Ахмет Байтурсынов в 1926 г. в Ташкенте выпустил «Теорию словесности» на казахском языке. Художники, появившиеся в то время на социальной арене, писали во всех жанрах одновременно. Сакен Сейфуллин, выдающийся казахский поэт, прозаик, драматург, автор бессмертных поэм «Песня лебедя», «Кок-шетау», «Советстан», мемуарного романа «Тернистый путь» много сделал и для становления казахского литературоведения.
Его книга «Казахская литература» стала трамплином для исследования памятников древности, для понимания эпоса.
Автор книг «Абай», «Литература и проблемы критики», «Казахское театральное искусство» (в соавторстве с Ильясом Джансугуровым) Габбас Тогжанов был активнейшим профессиональным критиком в 20-е — 30-е годы.
Труды Мухтара Ауэзова по истории литературоведения мы считаем нужным рассмотреть в нескольких разделах.
Ауэзов заложил основы абаеведения.
Ауэзов исследовал творчество великого украинского кобзаря Т. Г. Шевченко (ошеломившего европейских читателей XX века), гениального индуса Тагора, бессмертного поэта Грузии Шота Руставели.
Творческие принципы, факторы, способствующие рождению художественного замысла, сложная связь между жизнью и искусством — все эти проблемы были осмыслены М. Ауэзовым на основе личного опыта писателя и поэтому выводы его столь глубоки и верны.
В 1931 году в переводе Мажита Даулетбаева Шекспир заговорил на казахском языке. В дальнейшем драматургию Шекспира начал осваивать Ауэзов. Обобщая свой опыт по переводу произведения с одного языка на другой, Ауэзов во многом обогатил теорию перевода вообще.
Первое поколение казахских советских писателей принимало активное участие в литературной критике.
В сороковых годах казахское литературоведение обратилось к исследованию теоретических проблем, поиску национальных синонимов к основным терминам и понятиям. К сожалению, многие труды и учебники не смогли выйти за рамки эпигонства, подражания, наукообразия.
Казахский эпос, творчество Абая и Махамбета — основной объект исследований Кажима Жумалиева.
Природа поэзии, ее проблемы, связанные с национальными особенностями, глубоко исследованы и с фактической стороны, и в научном отношении в трудах Есмагамбета Исмаилова. Его монография «Акыны» переведена на русский язык и получила хорошую оценку союзной критики.
Литературоведение, как всякая наука, не может существовать, держась одного стиля, одного направления, одной гипотезы. Способы художественного анализа определяют особенность ученого: мы никогда не спутаем Б. Кенжебаева и Е. Исмаилова, А. Тажибаева и М. Каратаева.
Мухаметжан Каратаев отдал много сил для становления казахской литературной критики и литературоведения, их развития и выхода к всесоюзному читателю. Среди его трудов можно найти статьи и исследования, литературные портреты и эссе, отдельные монографии.
Тонкое понимание природы искусства, эстетическая глубина, богатство эрудиции, публицистический пафос, художественное мастерство — естественные особенности критического дара Каратаева.
Оценивая литературные процессы, он старается всесторонне охватить объект, смотреть в его корень и поднимает серьезные проблемы. Ему под силу такие крупные и сложные проблемы, как Ленин и литература, эстетическое наследие Белинского, Плеханова, Луначарского.
В трудах критика произведения казахской литературы, написанные разными, не похожими друг на друга писателями, разбираются с точки зрения идейности и художественного мастерства, анализируются эстетически.
Книга М. Каратаева, посвященная утверждению в казахской прозе социалистического реализма—этой мощной опоры советской литературы, главного ее художественного метода и с точки зрения богатства материалов, и в отношении теоретической глубины, отвечает самым высоким требованиям критической мысли нашего времени.
Монография «Становление социалистического реализма в казахской прозе» охватывает развитие нашей литературы со времен Великого Октября до, примерно, 60-х годов с подробным анализом того, как проходил процесс освоения социалистического реализма в творческом опыте наших писателей.
Его книги «Мировоззрение и мастерство», «От домбры до книги», «Вершины впереди» представили русским читателям основные проблемы нашей словесности и познакомили с творчеством основоположников нашей литературы. В этих книгах речь идет об образе Ленина в казахской поэзии, природе критики, вопросах перевода, о творчестве видных художников, о поэзии Лермонтова и его влиянии на казахскую литературу, о наследии Белинского и его значении для казахской культуры.
Трехтомник трудов (на казахском и русском языках) академика-литератора является верным свидетельством роста профессионального уровня казахской критики.
А вот эта жизнь может стать для кого угодно примером своей значительностью и поучительностью, душевной силой и неистощимой волей. Горькая сиротская доля, изнурительный труд на горном и пимокатном заводах — все это испытал Бейсембай Кенжебаев до августа 1920 года, пока Гани Муратбаев не привел его в детдом № 14 в Ташкенте. Вряд ли кто сказал бы тогда, что этот переросший своих соклассников подросток, у которого неуклюжие пальцы едва справлялись с ручкой, станет в будущем крупным деятелем казахской литературы, ученым, критиком, маститым профессором.
После детского дома были совпартшкола, коммунистический университет трудящихся Востока в Москве, Литературной институт им. Горького.
Если казахская журналистика обрела крылья в советскую эпоху и достигла профессиональных высот, то в этом есть заслуга и Бейсембая Кенжебаева. Он — один из первых казахских журналистов.
В казахском литературоведении вряд ли найдется тема, которой не коснулось бы его перо. Здесь и историко-литературные исследования, и портреты, и проблемные статьи: «Абай — основоположник реалистической литературы казахского народа», «Построение казахского стиха», «Жизнь и творчество Султанмахмута Торайгырова», «Сведения из истории казахской печати», «Журналист Мухаметжан Сералин», «Песни о восстании 1916 года», «Джамбул Джабаев», «Поэты и писатели — демократы казахского народа в начале XX века», «Айтыс Биржана и Сары», «Жизнь и творчество Сабыра Шарипова», «Древняя литература», «Казахско-советская литература 20-х годов», «Памятники древней литературы», «Правдивость и мастерство», «Проблемы истории казахской литературы». Богатство фактов и архивных материалов, эрудиция, конкретность и смелость научных выводов, выразительная краткость языка — достоинства, присущие воем этим работам. Б. Кенжебаев первым начал исследования древней казахской литературы, его подход к этой проблеме стал отправной точкой для последующих исследователей.
Судьба профессора Темиргали Нуртазина схожа с судьбой многих его современников: и победами, и неудачами, и сложностью жизненного пути. Он родился в городе Кургане в семье бедного жатака, работавшего по найму. Темиргали с детских лет испытал все тяготы бедности и сиротства.
Бурное время, беспокойная эпоха, перевернувшая мир, заставляла быстро взрослеть и молодых сынов степей. И в жизни Темиргали время оставило свои следы. Он был учителем аульной школы, председателем только что организованного колхоза, заведующим отделом культуры Петропавловского горкома партии. Эти годы закалили молодого джигита и дали возможность понять главные духовные ценности.
Страсть, которая с детства владела им,— страсть к стихам и песням, рассказам и легендам — не остывала, а крепла с годами. Он состязается в айтысе, выучивает наизусть длинные дастаны — устные поэмы. Но все это от случая к случаю, не было системы и последовательности.
Т. Нуртазин был среди первых казахских студентов, направленных на учебу в Ленинград. Прекрасная литературная среда, всемирно известные ученые-преподаватели, богатейшие библиотеки — все это как нельзя лучше отвечало жадной любознательности, страсти познания молодого степняка. Свои исследовательские труды о Тукае, Абае, Сакене, Ильясе Т. Нуртазин публиковал на казахском, татарском и русском языках.
Закончив институт журналистики в Ленинграде, в 1936—1937 годах Т. Нуртазин работает редактором Карагандинской областной газеты, директором Казахского драматического театра в Алма-Ате.
Вторая половина тридцатых годов не располагала к творческой деятельности. Лишь после Великой Отечественной войны он всецело отдается своему призванию. Вместе с А. Б. Никольской Т. Нуртазин переводит на русский язык первую книгу эпопеи «Путь Абая». Пишет монографию о природе айтыса.
Т. Нуртазин проделал большую работу в исследовании творчества Сабита Муканова — одного из самых видных представителей нашей литературы. В 1951 году его первая монография «Писатель и жизнь» увидела свет на русском языке. Более углубленный и переработанный ее вариант вышел в 1958 году. Разбирая произведения С. Муканова, ученый высказал ряд новых положений о рождении казахской советской литературы, ее становлении и развитии. Научная точность, богатство фактов, эстетический вкус — основные качества названной монографии.
Начав свои первые шаги на поприще журналистики, Т. Нуртазин успешно работает затем в жанре прозы. В тридцатые годы его очерки печатались в газетах «Казахстанская правда», «Красная Татария», «Молот» (Ростов), «Социалды Казахстан» на русском, татарском, казахском языках, в пятидесятые годы — в газетах «Кызыл Узбекистан», «Советская Киргизия». Лучшие из очерков писателя вышли отдельной книгой в 1966 году под названием «Человек живет не зря». Нуртазин написал и документальный роман о Тураре Рыскулове — крупном общественном деятеле.
Т. Нуртазину принадлежит около ста работ, посвященных актуальным проблемам литературы. Они незаменимы при изучении творчества представителей разных поколений казахской литературы. Если исследования о Шортанбае, Ибрае Алтынсарине, Султанмахмуте Торайгырове остро» полемичны, то статьи о Мухтаре Ауэзове, Габидене Мустафине, Габите Мусрепове дороги свежим подходом и доказательностью выводов. Мысли ученого о поэзии Джамбула Джабаева, Жумагали Саина, Калижана Бекхожина, Сырбая Мауленова глубоки и точны.
Исследования и статьи, созданные о разных периодах развития казахской литературы, собраны в книге «Раздумья о мастерстве».
Остановимся подробнее на фундаментальной книге Темиргали Нуртазина «Творчество Беимбета Майлина».
Б. Майлину принадлежит особая роль в развитии всех жанров казахской литературы. А значение его гражданского вклада в развитие самосознания казахов в первые послереволюционные годы намного превышает объем его произведений.
Разные грани творчества Б. Майлина стали объектом многих научных исследований и критических высказываний. Первой книгой, где в полной мере и во всем объеме рассматривается большое наследие писателя, является названная монография Т. Нуртазина. Критик не игнорирует прежние труды исследователей, не проходит мимо них, он анализирует бесспорные и спорные взгляды прежних критиков и приходит к своим выводам. Он нашел много новых материалов, относящихся к биографии Беимбета, к годам его молодости и учебы. Многое высветили ,и воспоминания супруги Беимбета — Гульжамал и его сверстников.
Изучая материалы на казахском и татарском языках, Т. Нуртазин установил, что медресе «Галия» в Уфе, где учился Б. Майлин, было учебным заведением прогрессивного направления.
Наставником молодого казахского прозаика, глубоко повлиявшим на его развитие, был выдающийся татарский писатель Галимжан Ибрагимов.
В монографии наследие Беимбета исследуется по жанрам, каждому произведению посвящен обстоятельный разбор, что дало возможность показать эволюцию писателя, ступени его роста.
Б. Майлин один из тех немногих казахских писателей, которые увлеченно работали в жанре рассказа. Он писал много и хорошо. Не зря в свое время назвали его казахским Чеховым. Темы, жизненный материал, мотивы, идеи рассказов Майлина обсуждаются в монографии спокойно и обстоятельно. Природа рассказа, его особенности, ритмичность стиля, перипетии сюжета, композиции— все попадает в поле зрения ученого. Целью монографии было проанализировать творчество Б. Майлина полностью. Поэтому некоторые положения критик дает в виде тезисов.
Много места занимает здесь определение жанра произведений - по таким характерным признакам, как значительность проблемы, охват событий, количество героев и сложность сюжета. Критик по-новому раскрывает идейно-художественные особенности таких повестей Б. Майлина, как «Коммунистка Раушан», «Берен», «Рассказ Амиржана», определяет место этих произведений в истории литературы. Убедительно доказывает Т. Нуртазин, почему ранее произведение писателя «Памятник Шуги» следует отнести к жанру повести. На вопросы о том, в чем реализм и художественная сила повестей Майлина, исследователь дает серьезные и обоснованные ответы.
Пристрастие к сюжетному стихотворению, сатира в стихах, отсутствие высокопарности и риторики, четкость композиции, предельная конкретность — все это характерно для поэзии Б. Майлина. Исследователь останавливается на каждой из этих особенностей.
«Роман — зеркало на большой дороге»,— считая Стендаль. Он говорит о дороге жизни, о путях социальных схваток, о судьбе человеческой. Для создания правдивой, многокрасочной картины жизни послеоктябрьского Казахстана Б. Майлину был необходим жанр романа. Так появился «Азамат Азаматыч». Сатирические мотивы его исследователь выделяет в отдельную тему и дает им иную трактовку по сравнению с другими исследователями. Более верную общезначимую.
Чтобы полностью понять писателя, недостаточно знать и исследовать только знаменитые его произведения.
Надо войти в его творческую лабораторию и рассмотреть, как и в каких условиях рождалось то или иное произведение. Лишь полностью обследовав все замыслы писателя, эскизы, незаконченные произведения, мы сможем получить о нем более или менее полное представление. Казахские исследователи пока не освоили такую методику работы. А разговор о таких незаконченных произведениях, частично опубликованных в периодической печати, как «Борьба», «Соседи», «Невыстреленная пуля», «Красное знамя», не известных массовому читателю, необходим литературоведческой науке.
Законы сцены строги. Редкие из драматургических вещей удерживаются на сцене больше двух сезонов. Драма Б. Майлина «Майдан»—«Фронт», отображающая действительность тридцатых годов, сохранившая ныне исчезнувшие типы, заставляет волноваться и современного зрителя. А каков сатирический заряд в комедии «Тал-танбайдын тартиби»— «Порядки Талтанбая»!
Драматургия Б. Майлина с ее высокой гражданственностью и жанровым своеобразием обстоятельно проанализирована Т. Нуртазиным.
Б. Майлин, проработавший многие годы в редакциях разных газет, написал сотни статей, очерков й фельетонов. Многие из них затем становились основой его рассказов и повестей. В монографии показано, как жизненный и публицистический материал трансформируется и преобразуется в сюжеты, образы, характеры.
С именем Айкына Нуркатова связано заметное повышение профессионального уровня казахской критики. Он постоянно заботился о ее остроте и точности, научной глубине и публицистической активности, об укреплении ее эстетического авторитета. Основание для столь высокой оценки дают и его нестандартная диссертация, и книга «Идея и образ», исследования р традициях Абая, увлекательная монография о Мухтаре Ауэзове.
Если собрать и выпустить все статьи и очерки, написанные об эпопее «Путь Абая», то они намного превысили бы по своему объему это великое произведение. Бесспорно среди них сочинения, в которых верно осмыслено нравственное и общекультурное значение эпопеи, но книга, в которой творчество Ауэзова рассматривается в целом, где тщательно раскрывается идейная и художественная эволюция великого писателя, среда и условия, в которых рос Ауэзов, впервые написана А. Нуркатовым.
Бывают случаи, когда ошибочные заключения превращаются в негативную концепцию. Долгое время критика обходила произведения молодого Ауэзова. В своей статье «Творческое начало» А. Нуркатов отходит от метода вульгарной социологии и рассматривает рассказы и пьесы молодого Ауэзова как реалистические произведения советской литературы. Критик справедливо заметил, что молодой писатель Ауэзов опередил молодого мыслителя Ауэзова. В трудах последних исследователей это мнение подтверждено новыми конкретными свидетельствами.
Чуткое понимание природы искусства и его закономерностей, хорошее знание психологии творчества ясно прослеживается в трудах А. Нуркатова. Это особенна проявляется в разборе эпопеи «Путь Абая». Нелегко разглядеть корни и истоки, постичь мудрость эпопеи в которой усилиями и напряжением мощного таланта отображены история и сложные национальные особенности родного народа. Исследователь умными и спокойными глазами всматривается в художественные тайны и неуловимые приемы многопланового романа. Этот разбор потребовал от критика огромной ответственности, эрудиции, высокой культуры. Здесь автор должен был быть не только литературоведом, но и высокообразованным историком.
Критик и сам предупреждает, что он не смог полностью охватить всю красоту и глубокую философию вещи, которая вошла в обиход мировой культуры. Но это не значит, что труд А. Нуркатова всего лишь поверхностный эскиз. Несомненные достоинства этого исследования и том, что здесь тщательно проанализированы идейные мотивы, ряд образов, многие художественные особенности национальной эпопеи. А ошибочное восприятие некоторых образов, недооценка драматургии писателя простительны, так как А. Нуркатов рано ушел из жизни и многое не успел оценить и додумать.