Рыжая полосатая шуба — Майлин Беимбет
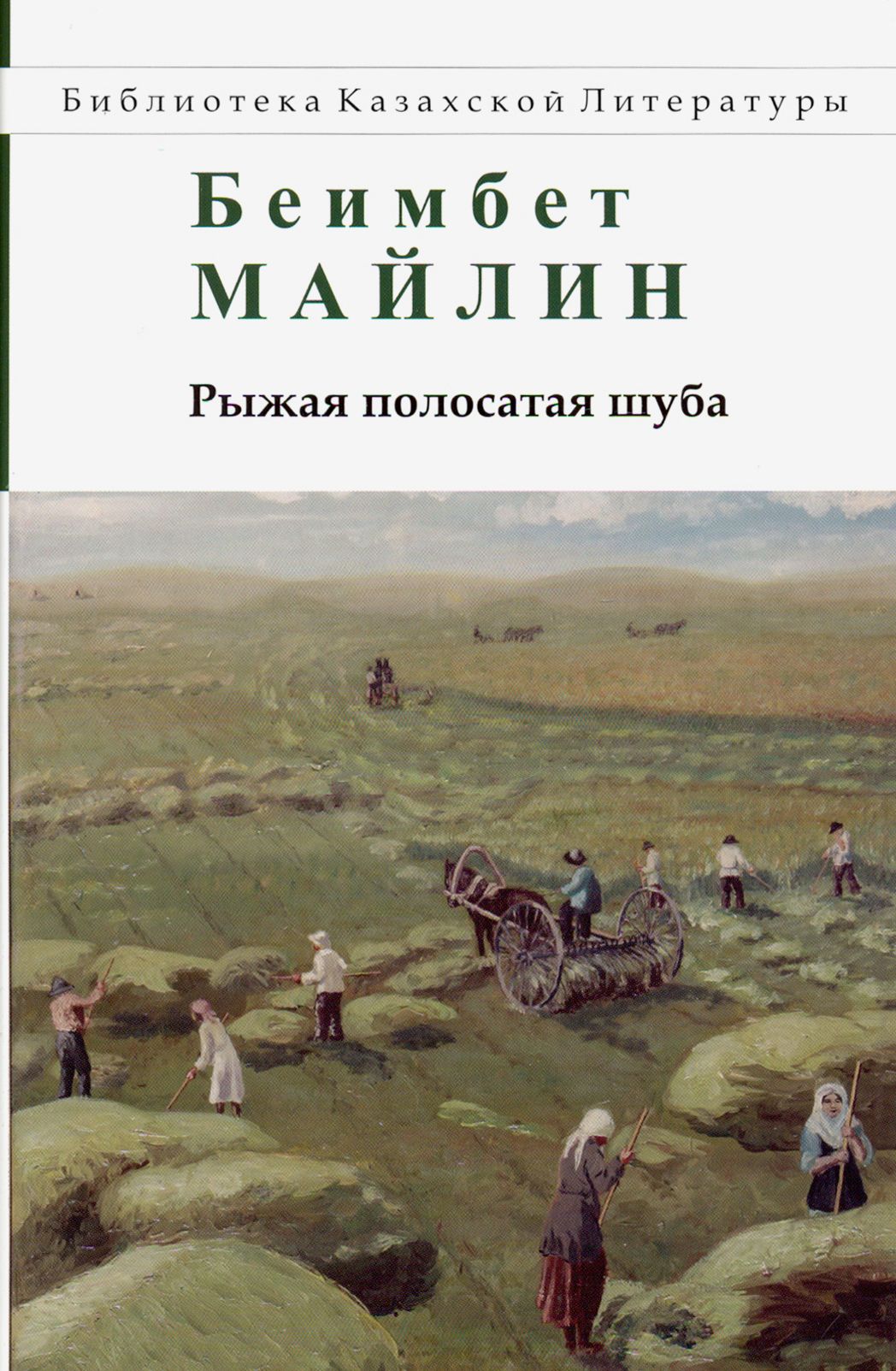
| Аты: | Рыжая полосатая шуба |
| Автор: | Майлин Беимбет |
| Жанр: | Романдар мен әңгімелер |
| Баспагер: | Аударма |
| Жылы: | 2009 |
| ISBN: | 9965-18-271-X |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Бет - 2
От одного этого имени Абдрахман вздрогнул. Ha то была особая причина.
Хотя аул рода керей был малочисленным, а Айнабай был бедняком, его все боялись. Он постоянно сеял смуты, заводил сплетни и вообще был способен на любую подлость - его так и звали: «Красноглазое лихо». Выглядел он, верно, неказисто: серолицый, угрюмый, бровастый, вечно насупленный. Дочь его - ей исполнилось семнадцать лет - давно была просватана, и калым проеден. Но за последнее время Айнабай поокреп, обзавелся хозяйством и стал подыскивать для дочери более выгодного, видного жениха. А самым видным джигитом тогда был, конечно, Абдрахман. На него-то и метил теперь Айнабай. «Я бы пожалел беднягу, уступил бы ему дочь, дай он мне хоть несколько голов скота...» - говорил старый плут. Когда Абдрахман приезжал в аул Есимбека, длинноязыкие бабы называли его «наш зятек». Вообще все были совершенно твердо убеждены, что учитель женится на Кульзипе. Прошлой зимой отец Абдрахмана приехал к Айнабаю купить сена, и жена Айнабая, угощая его, опустила в котел, не разделывая, два круга казы -брюшного конского сала. Так привечают только самого дорогого гостя. А провожая гостя, жена Айнабая подарила ему воз сена. Польщенный всем этим, отец Абдрахмана отнюдь не прочь был породниться с Айнабаем. Но Абдрахману Кульзипа никак не пришлась по вкусу. «Как я могу на ней жениться, если она мне противна?»- отвечал он на все смешки и поздравления. Правда, об этом знали только близкие друзья - ровесники учителя. Кульзипа же при
случайной встрече смущалась, краснела, вспыхивала, не знала, куда девать глаза.
Сейчас, услышав, что она рядом, Абдрахман попытался исчезнуть незаметно, но мне захотелось подшутить, и я удержал его.
Девушки, живо и беспечно болтая, наткнулись в темноте вдруг на нас и растерялись.
- Ойбай, это люди!.. А мы-то думали - скот,-спохватилась одна.
И они метнулись в сторону.
- Это ты, что ли, Маржанбике? А ну-ка, подойди сюда,- сказал я весело.
- Ой, кто это?! Имя мое знает...
- Иди узнай, кто такой,- велела Кульзипа своей женге1. Абдрахман ушел вперед, а я подождал девушек.
- Кто это с тобой был?- сразу полюбопытствовали они.
- Абдрахман.
- Наш зятек, что ли? Чего же он удрал?- рассмеялась Маржанбике.
Кульзипа вспыхнула, начала что-то шептать на ухо своей женге, и обе весело расхохотались. Мы догнали Абдрахмана, однако он нас почти не заметил и все вглядывался в ту сторону, где играла молодежь.
Мы подошли к качелям. Теперь уже ясно слышались смех, возгласы, можно было даже различить отдельные голоса. Две девушки, раскачиваясь на качелях, затянули протяжную песню. Так они приветствовали нас.
- Шуга поет,- заметила Маржанбике.
Да, верно, пела Шуга. И пела хорошо, с душой, а песня была печальная. «От рожденья мы, девушки, несчастные,- пела Шуга.- Нет никого на свете несчастнее нас. И все потому, что родители наши пребывают в плену древних обычаев».VIII
Да, что случается в молодости, все прекрасно. Эта ночь мне запомнилась на всю жизнь. До сих пор все, что в эту ночь произошло, стоит перед моими глазами. Игры только начинались. Шуга с подругой слезли с качелей. Посыпались вопросы, шутки, смешки. Абдрахману принесли домбру, и он запел.
Ох, и славный же он был джигит! А во время игр вообще преображался и становился настоящим красавцем. В эту же ночь он был в особенном ударе. Он пел, играл на домбре, и все слушали его, затаив дыхание. Даже некоторые старухи не выдержали, встали среди ночи, накинули на плечи чапаны и пришли послушать юного певца. Так за песнями, играми мы и не заметили, как начало рассветать. Нужно было расходиться. Маржанбике повертелась возле меня и шепотом спросила:
- Вы еще не пойдете домой?
И медленно пошла, уводя за собой Кульзипу. Вслед за ними ушли дети и подростки. Оставались только мы: я, Абдрахман, Шуга и женге ее - Зейкуль. Я отвел Зейкуль в сторону и сказал ей, что Абдрахман безумно влюблен в Шугу.
- Не знаю,- ответила Зейкуль.- Джигит он, конечно, человек культурный, видный, может, это ее и прельстит. А так^ сам знаешь, не таким она отказывала. Похлестче красавцы были...- И Зейкуль рассмеялась.
- Женеше, пойдем домой,- позвала ее Шуга.
- Что же так торопитесь?- спросил Абдрахман, подошел к ней, и они вполголоса о чем-то заговорили.
Мы стояли в стороне, и до меня донеслись только его слова: «молодое сердце». И вдруг мы услышали, как он сказал:
- Прощайте...
Я обернулся. Шуга торопливо шла в сторону аула.
- Ах ты, шалунья моя! Что же ты меня бросаешь?-воскликнула Зейкуль и побежала за ней.IX
По дороге домой Абдрахман был мрачен.
- Всему виной моя бедность,- сказал он мне.- Будь я сыном бая, Шуга по-другому бы мне отвечала.
Оказывается, полушутя, полусерьезно намекнул он Шуге о своих чувствах, а она сделала вид, будто ничего не поняла. Конечно, огорчался он зря. Нельзя же от девушки, тем более от Шуги, немедленно требовать ответа.
На следующее утро он позвал меня и достал из кармана сложенный вчетверо лист.
- Это мое письмо Шуге,- сказал он.- Если она согласится, я увезу ее тайком. А так ее за меня не отдадут. Калыма нет. Не знаю только, что она на это ответит...
Вид у Абдрахмана был очень подавленный. Письмо было в стихах. Несколько строк из него я помню.
Как холодно в небе сияет луна.
Но в душу мне пламя вливает она. И хоть я ничтожен, луна, пред тобой, Все ж рану душа залечить не вольна. Но боль заглушу я - достаточно сил! Впервые напев мой отравлен тоской, Я в песнях ни разу еще не грустил. Я пленником стал твоим с первых же встреч. Желанья зажгла твоя сладкая речь.
Когда б написала «согласна» ты вдруг, Я стал бы письмо, как святыню, беречь.
Но как передать письмо Шуге?
Помог случай. В полдень, возвращаясь с пастбища, забежал в аул мой братишка Базарбай. Мы сунули ему письмо, велев передать его Шуге, и, если она напишет что-нибудь в ответ, немедленно принести сюда.
Как сейчас помню: за нашей юртой была небольшая лужайка. Гости, приезжавшие в аул, оставляли там своих лошадей, и поэтому трава была изрядно помята. Тут же лежали, тесно прижавшись друг к другу, овцы. Так они спасаются от жары и слепней. Тут же их стригли.
Я отправился искать Абдрахмана. Он лежал ничком на солнцепеке посреди лужайки недалеко от отары, задумчивый и отрешенный от всего.
- Ох, дружище, что это ты такое место выбрал?-удивился я.
- Да что поделаешь?.. Не сидится дома.
Он был рассеян и с нетерпением и тревогой смотрел вдаль. Ясно: ждал Базарбая.
Мне самому было интересно, ответит ли Шуга или, по своему обычаю, порвет письмо не читая - этого-то и опасался Абдрахман. Он вначале вообще колебался: писать или нет? Но я передал ему слова Зейкуль; расставаясь со мной, она шепнула мне: «Пусть он напишет ей. Он человек заметный. Авось и смилостивится Шуга». И еще однажды она сказала так: «Имя твоего друга не сходит с уст моей шалуньи». А ведь женщины друг другу поверяют все свои сердечные тайны. К тому же Шуга любила, уважала свою женге и, конечно, доверяла ей все. И еще: я надеялся на Зейкуль, потому что знал: ради меня она постарается сделать все.
Абдрахман молчал. Солнце стояло высоко, над самой головой. В такую жару люди укрываются в тени, а мы, как нарочно, лежали на самом солнцепеке.
- Что-то скажет Шуга...- проронил я.
- Кто ее знает,- вздохнул Абдрахман. В глазах его были тоска и надежда.
Мы уже собрались было идти домой, как вдруг увидели Базарбая. Он бежал к нам. Абдрахман взволновался так, что сразу вскочил. Мы оба так и впились взглядом в лицо нашего гонца.
А он, улыбаясь во весь рот, подбежал к Абдрахману и вытащил из-за голенища клочок бумаги. У того даже руки задрожали, когда он развернул его. «Уважаемому мырзе Абдрахману наш салем,- писала Шуга.- Извещаю вас о том, что письмо ваше получила. Пока ничего определенного ответить не могу. Извините. Написала Шуга».
Абдрахман потемнел и опустился на траву. Я стал расспрашивать Базарбая, как он передал письмо Шуге. Где? Что она сказала?
- Она сидела в отцовской юрте. Я сказал, что женге ее зовет, и когда она вышла, сунул ей ваше письмо. «Это что ты еще притащил, бесенок?»- спросила Шуга.-«Прочтешь - узнаешь»,- ответил я. Она прочла письмо, спрятала в карман, улыбнулась и пошла в юрту к своей женге. Я - за ней. «Да отвяжись ты, чумазый! Что же ты пристал? Все таскаешь и таскаешь письма»,- ворчит, а сама улыбается. Раньше, когда я ей таскал письма от других парней, она сердилась и рвала их тут же. А я как увидел, что она не сердится, то и говорю ей: «Апа, ты напиши ответ, а я мигом снесу. Никто не заметит...» Ну вот она и написала...
Парнишка сиял, он был горд, что так хорошо выполнил это сложное поручение, и улыбался во весь рот.
И хотя Шуга в своем ответе не сказала ни «да», ни «нет», после рассказа братишки мне стало еще яснее, что Абдрахман ей отнюдь не безразличен.
- Девушка будет твоей,- уверенно сказал я. И Абдрахман просиял.X
А вскоре после этого они открыто признались в любви друг другу. И любовь их оказалась такой сильной, что если хоть день они не виделись, то прямо-таки изнывали от тоски. От меня оба не таились. Когда я приходил в аул Есимбека выпить кумыса, Шуга от радости вся сияла. При первой же возможности, когда мы оставались с глазу на глаз, она неизменно спрашивала:
- Ну где же он, товарищ-то твой?
Однако неприлично ведь долго загащиваться в одном ауле. Абдрахман уехал на десять дней к отцу, и Шуга в это время не находила себе места.
- Ну, чего он не едет?- спрашивала она меня.-Здоров ли?.. Ты ничего не знаешь, а?
Вскоре о Шуге и Абдрахмане заговорили в аулах. Правда, никто особенно не осуждал их, да и ничего зазорного в их отношениях еще не было. Первым поднял шум всегда вздорный баламут Айнабай. Пошел слух, что Кульзипа рыдала, узнав обо всем. Айнабай в ярости сообщил Есимбеку, что Шуга собирается убежать с этим нищим Абдрахманом и тогда на его голову падет несмываемый позор.
В семье Есимбека поднялась буря. Базарбая прогнали. Меня - тоже. Отныне я и близко не мог подойти к аулу. Говорят же: «Сорвала гончая зло на журавле». Почтенные старцы - аксакалы - сказали учителю: «Наши аулы дружат издавна. Зачем ты ссоришь соседей? Нехорошо это. Образумься, отступись».
А Абдрахман ответил: «Если Шуга изменит своему слову,- я откажусь. Ради нее я готов на все». Тогда старики дружно прокляли учителя. «Можно ли ждать добра от безбожника, который изменил вере отцов и учился в русской школе?»- говорили они. Жил он
теперь у нас в юрте, и старики ругмя ругали и меня, зачем я, дескать, привечаю ослушника, который не чтит законы отцов. А когда у Есимбека пропала лошадь, то обвинили в краже меня и заставили отдать баю корову с теленком. Обидно было, однако ничего не поделаешь, так решило большинство, а против мира не попрешь. В аулах стали на нас смотреть косо. Сыновья Есимбека с несколькими забияками по ночам подстерегали меня с Абдрахманом. Попадись мы им невзначай в руки, они бы нас в живых не оставили.
Все реже удавалось влюбленным встречаться. И, тоскуя по Шуге, Абдрахман сочинил такие стихи:
Я верю, что ты рождена для меня, Люблю тебя больше день ото дня... Чтоб слышать признанья и клятвы твои, В пути, Шугажан, горячил я коня.
Но род твой радушный враждебен сейчас. Враги бесконечно преследуют нас, Хотят разлучить, на страданья обречь...XI
Мало было, видно, Айнабаю того, что он натравил на нас Есимбека, он старался еще и Абдрахмана обесчестить в глазах властей. Когда дошел до меня слух, будто Айнабай заявил волостному, что Абдрахман тайно собирает деньги для турок, я по-настоящему испугался. Однако Абдрахмана эти слухи ничуть не встревожили. Он по-прежнему жил у нас и, по-моему, с утра до вечера думал только об одном: как бы ему встретиться с Шугой.
Базарбай в нашем ауле больше не жил. Повидаться со своей Зейкуль мне тоже никак не удавалось. Ох, и тяжкие времена настали!..
Вот как-то вечером сидели мы с ним на бугре, за аулом. Смотрели, конечно, в сторону Есимбековых
юрт. Юрта самого Есимбека возвышалась в самом центре аула. Кто бы ни показался возле нее, Абдрахману всегда казалось, что это вышла Шуга. Сидим и молчим оба, тоскуем. Он по Шуге, я по Зейкуль... Вскоре с выпаса стали возвращаться коровы. Возле юрт жаппасцев угрюмо стояли верблюды. Шум и гомон плыл над степью. Блеяли овцы, мычали коровы, ржали кобылицы. Мчались, резвясь, жеребята, поднимая сизую пыль. Мы хмуро взирали на эту привычную суету вечернего аула. Все наши думы были о другом.
- Сегодня получил-таки весточку от Шуги,- сказал вдруг Абдрахман.
- Что она пишет?- встрепенулся я.
- Скучаю, пишет, истомилась вся. Семья против. Голова моя идет кругом. Что же нам придумать? Где выход? Вот что она пишет... Я ей ответил. Надо, пишу, бежать. Другого выхода у нас нет. Только как передать письмо? Только бы она согласилась, я бы мигом ее увез...
Пока мы так разговаривали, на дороге между аулами, где сейчас кружились табуны, вдруг показался тарантас. Кони бежали резво, пыль вздымалась столбом. Сзади, неловко подпрыгивая в седле, скакал верховой. Путники торопились. Нехорошее предчувствие охватило меня - один из сидящих в тарантасе был похож на русского.
- Уйдем-ка лучше в юрту, - предложил я.
Абдрахман рассмеялся.
- И всего-то ты боишься...
Тарантас лихо подкатил к нашей юрте. На передке сидел молодой джигит - кучер, а за ним еще двое. Один из них и в самом деле оказался русским.
- Что еще за божье наказание!- вырвалось у меня.
Абдрахман тоже изменился в лице. Мы поспешно пошли в юрту. Русский спрыгнул с подножки и двинулся нам навстречу.
- Кто здесь Абдрахман?
- Я - ответил учитель.
- Айда, одевайся. В волость поедем!
Это был стражник. На боку его висела шашка, на фуражке блестела кокарда.
- А зачем?- спросил Абдрахман.
- Не могу знать. Пристав приказал.
Что делать? Не перечить же властям? Наскоро запряг я лошадей и решил сам отвезти Абдрахмана. Когда я запрягал, весь аул от восьмидесятилетнего старца до восьмилетнего мальца собрался возле нас. Одни сочувствовали, другие злорадствовали. Мать моя плакала навзрыд, а другие, наоборот, довольно ухмылялись - ага, достукался! Добился своего! А чего там достукался? Я дружил с Абдрахманом и - аллах свидетель - знаю, что никогда никому не сделал он зла. Только разве байским прихвостням что-нибудь докажешь?XII
Когда мы выехали из аула, солнце уже садилось. Мы ехали на паре. Я правил лошадьми. Дорога проходила через аул Есимбека. Кони шли крупной рысью. Абдрахман напряженно вглядывался вперед, он все надеялся увидеть Шугу. До юрты Есимбека оставалось саженей пятьдесят, но Шуга не появлялась, и он совсем затосковал. Разлука - горе для влюбленных.
А кони разогнались, дорога была ровная, и они рвали из рук вожжи. Еще мгновение, и мы проскочим мимо аула. Я изо всех сил сдерживаю коней. Ведь кто знает... может, никогда больше в жизни джигит не увидит свою возлюбленную. А если и увидит, то, наверно, очень уж нескоро. Почему-то мне так почудилось в эту минуту... Мы оба молчим, потому что хорошо понимаем, что творится в душе у каждого... Свирепые псы Есимбека,
которые ночами, бывало, и близко не подпускали нас к аулу, теперь, скаля клыки, выскочили навстречу. У входа в юрту сидела толпа, и все с любопытством смотрели на нас. Видно, наш приезд прервал их беседу... Жена старшего брата Шуги, привязав арканом верблюжонка к черной прокопченной юрте, доила верблюдицу. Между главной юртой и отау - юртой для молодых -важно разгуливала байбише. Мне показалось, что они давно знали о предстоящем аресте Абдрахмана.
Только Шуги нигде не было видно.
Абдрахман помрачнел, резко крикнул:
- Айда!
Я только теперь заметил, что кони уже идут шагом. Опустил я вожжи, и рванулись кони. И тут показались две женщины со стороны колодца, что за аулом. Зейкуль и Шуга! Апырмай, как я, увидев их, обрадовался! Аж слезы брызнули из глаз! Они тоже нас узнали да так и застыли, пораженные и растерянные. Зейкуль, как сейчас помню, с коромыслом на плече, с двумя ведрами воды. Шуга стояла рядом пустая. Абдрахман спрыгнул с телеги, бросился к ним. Я ждал, что он обнимет Шугу, прижмет к груди, расцелует. Но он этого не сделал. Наверное, постеснялся людей, стоявших у юрты Есимбека. А зря!..
- Куда вы едете?- спросила Шуга испуганно.
- Меня везут в волость,- ответил Абдрахман.
У Шуги блеснули слезы. И я тоже чуть не расплакался. Зейкуль быстро оглянулась - она была страшно перепугана - и, поправив на плече коромысло, крикнула:
- Ойбай, шалунья моя, идем, идем!.. Видишь: бегут из аула!
Но Абдрахман и Шуга как будто застыли... А сзади уже слышались крики, шум, ругань, топот. Впереди, приподнявшись на тарантасе, кричал на нас сердитый стражник.
- Прощай.
Шатаясь, Абдрахман подошел к телеге, сел. Слезы текли по его щекам. Я стегнул лошадей.
- Хо-ош! Прощай, любимый, ненаглядный... -хрипло крикнула вслед Шуга и, заплакав, бессильно опустилась на землю.XIII
Волостной пристав повез Абдрахмана в губернию. Расстались мы в слезах. Я вернулся домой с запиской для Шуги. Прошло шесть дней, а мне никак не удавалось передать ее.
Оказывается, Есимбек пришел в страшную ярость, когда узнал, что дочь его на виду у всех прощалась с Абдрахманом. Братья тоже лютовали. Видно, досталось бедной Шуге! Все это так потрясло ее, что она никуда не выходила и даже есть перестала. Через некоторое время по аулам поползли слухи: тоска извела Шугу. Она на глазах тает, не встает с постели. Хоть наши аулы и находились рядом, однако я уже не мог, как прежде, прийти к Есимбеку.
Время шло, а Шуге не становилось лучше. Видя, что дочь всерьез заболела, Есимбек смягчился. Вызвали знахарей, лекарей-шаманов, однако и они ничего поделать не смогли. Шуга бредила и в беспамятстве звала Абдрахмана.
Байбише встревожилась, видя, как чахнет ее единственная и любимая дочь-шалунья, и уговорила родных спасти Шугу от неминуемой смерти. А спасение было в одном: всем аулом добиваться оправдания учителя, отдать за него Шугу, сыграть свадьбу. И, наконец, Есимбек согласился. Конечно, неохотно, скрепя сердцем. Посоветовавшись с родичами и аулчанами, он решил упросить волостного управителя освободить Абдрахмана.
И в отношении меня он тоже переменил гнев на милость. Вроде легче дышать стало в обоих аулах.
Однажды пришел ко мне верблюжатник Есимбека, сказал, что меня хочет видеть Шуга. Я подпрыгнул от радости и побежал к ней. Она лежала в большой юрте. Край кошмы был приподнят. Глянула на меня и зарыдала. Мать ее бросилась к ней, стала утешать, вытирать слезы, целовать, умолять:
- Успокойся, дитя мое... Мало ли я из-за тебя вынесла горя? Что я могу?.. Будь моя воля, я бы тебя не довела до такого...
- Аже,- тихо позвала вдруг Шуга.
- Оу, милая?- откликнулась мать.
- Оставь меня наедине с ним...
- Хорошо, зрачок мой, сейчас, сейчас.
Байбише поспешно вышла, я подсел к Шуге:
- Ну как себя чувствуешь? Не лучше ли?
- Нет, не лучше,- грустно ответила она, и опять ее глаза наполнились слезами.- Да я и не хочу, чтобы мне стало лучше... Ты... передай ему... при... привет...- От слез ей было трудно говорить, она достала платок из-под подушки, вытерла глаза.- Ты его увидишь... если он живой будет... а я... я...- Она не могла продолжать.
- На все божья воля,- ответил я.- Только ты напрасно так... Вид у тебя хороший, скоро поправишься.
- Нет... Да и к чему? Все равно счастливой мне не быть. Отец меня просто пожалел. Он же видит, как мне худо. Испугался. А завтра, если поправлюсь, опять пойдет то же. Смерти я не боюсь. Я только об одном жалею... что на прощание Абдрахман не сказал мне несколько ласковых слов. Если бы я только могла его увидеть перед смертью!.. Если бы он очутился вдруг рядом, прижался бы лицом к лицу моему, сказал бы: «Шуга моя!», я ушла бы из жизни счастливой...
Она тяжело вздохнула.
До вечера я просидел возле нее и, удрученный, подавленный, отправился домой. А дома ждала меня радость: оказывается, Абдрахман якобы сегодня вернулся. Мне не терпелось привезти его скорее к Шуге, и я тут же поскакал в аул Абдрахмана. Там тоже все радовались, учитель действительно только что приехал из губернии и сразу же спросил про Шугу. О том, что она больна, ему уже сообщили. Я успокоил его как мог, сказал, что она выздоравливает. И он поверил мне.
Наутро, как только пригнали лошадей с пастбища, мы отправились в наш аул. Кони шли крупной рысью. День выдался жаркий. Всю дорогу Абдрахман смеялся, шутил, смешил меня. Говорил, что, когда увезли его в губернию, сочинил про Шугу песню. И он запел:
Ласка в глазах у Шуги моей, Каждое слово песни звучней, Меня, провожая, не обняла, Только слезы лились все сильней.
Приближаясь к аулу, мы еще издали увидели толпу около юрты Беркимбая. Привязав лошадей, я провел Абдрахмана в юрту, а сам пошел узнать, в чем дело. В это время к толпе подскакал какой-то верховой, что-то крикнул и помчал дальше. Что он крикнул, я не расслышал, но сердце мое почему-то сжалось...
А когда подошел к толпе, то услышал:
- - Да благословит ее аллах...
Все благочестиво провели ладонями по лицам. Я остолбенел, посмотрел на Айтбая.
- - Слышал?- сказал он.- Шуга скончалась.
Меня будто ледяной водой окатили. Я так и застыл на месте. Все кругом качали головами.
- - Ай, Шуга, Шуга!.. Бедная Шуга!.. Такая юная...
Потом толпа двинулась к нашей юрте, чтобы сообщить Абдрахману скорбную весть. Он не заплакал,
только страшно побледнел. Его стали утешать. Он молчал...
Мы всей гурьбой направились в аул Есимбека.
Из байской юрты слышался надрывный плач. Заметив нас, снохи Есимбека вышли. У них были красные, распухшие глаза. Зейкуль подала знак, отозвала меня в сторонку и достала из кармана бумажку. Я догадался, что это было последнее письмо Шуги.
Вот что написала Шуга перед смертью:
На беду мне была красота дана, Принесла только горе тебе она! Но о нашем счастье мечтала я, Твердо верила: наша судьба одна. Я хотела, чтоб мною владел лишь ты, О жестокий мир! Ты разбил мечты. Я из жизни земной ухожу одна, Не увидев лица родного черты. Пусть хоть последнее это письмо Напомнит тебе о бедной Шуге.
Когда Абдрахман читал это письмо, то слезы его капали на бумагу, и несколько раз он прерывал чтение.
Есимбек похоронил Шугу в родном краю, на старом родовом кладбище, и спешно откочевал к югу. Через год, когда жаппасцы вновь прикочевали сюда, он устроил большие поминки.
Тогда и был насыпан этот курган.
...Рассказывая, мой спутник так увлекся, что забыл про своего одра, который уже едва тащил ноги. Спохватившись, он огрел его раза два камчой и снова поравнялся со мной. Вскоре мы выехали на вершину перевала, и перед нами открылось во всей красе большое озеро. К западу от него зыбился во мгле небольшой холм.
- Вон, - сказал мой спутник. - Это и есть тот самый курган. Памятник нашей Шуге. Ах, Шуга, Шуга!..
