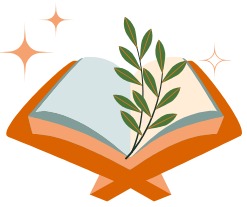Древо обновления — Рымгали Нургалиев
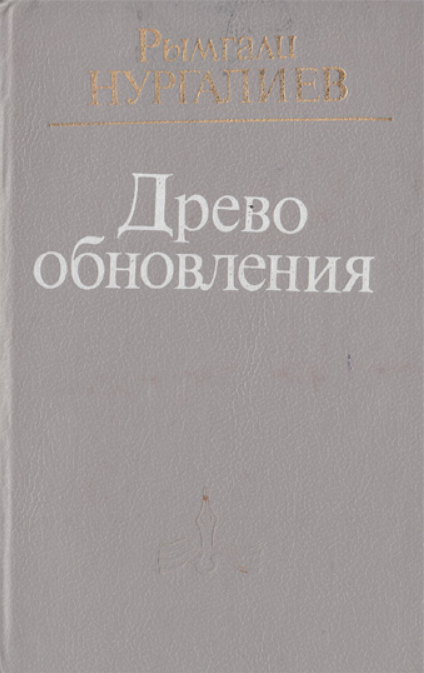
| Аты: | Древо обновления |
| Автор: | Рымгали Нургалиев |
| Жанр: | Білім |
| Баспагер: | |
| Жылы: | 1989 |
| ISBN: | |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Бет - 1
Книга известного критика, доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии Казахской ССР содержит анализ этапных произведений современной казахской литературы. Автор предпринимает интересную попытку проанализировать своеобразную эволюцию жанров в контексте общемирового литературного процесса. В книге также подробно освещено творчество М. Ауэзова, И. Джансугурова, С. Сейфуллина, Г. Мусрепова и других крупных художников слова. Значительное место отведено проблемам современной казахской литературы.
ВСТУПЛЕНИЕ
Литературная традиция любого народа, возникшая из национальных особенностей художественного мышления, является духовным наследием, которое формировалось на протяжении многих веков, передается из поколения в поколение, постоянно меняясь, приобретая новый облик. Она не может жить вне движения, вне диалектической связи с новыми общественными явлениями и человеческими исканиями.
Новаторские поиски начинаются, в первую очередь, с освоения традиций, чтобы достичь в искусстве слова серьезных результатов, писатель обязательно должен пройти период обучения, осмыслить созданные до него шедевры, без этого он не сможет найти свой собственный путь. Разумеется, у крупных талантов возмужание происходит более интенсивно, вспомним таких выдающихся писателей, как Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Чингиз Айтматов, которые уже в ранней молодости сумели создать классические произведения, обогатить литературу новыми художественными открытиями.
Ключом к всестороннему исследованию развития литературы, единства традиций и новаторства может стать следующий диалектический тезис Карла Маркса: «История есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями, в силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой — видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч. т. 3, стр. 44—45).
Марксистско-ленинское учение о культурно-художественном наследии отвергает сочинения, которые не отвечают требованиям гуманизма, социализма и коммунизма.
В. И. Ленин пишет: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую» (В. И. Ленин: Соч., т. 24, стр. 120—121).
В эпоху революционных переворотов борьба нового и старого достигает своего апогея. В начале 20-х годов представители модернистских течений объявили ненужными ценности мировой культуры и призывали создать новую, пролетарскую культуру. Традиции отвергались, распадалась связь времен. В статье «Задачи союзов молодежи» В. И. Ленин сурово осудил эти антиисторические левацкие претензии на создание некоего небывалого искусства: «Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдуманной людьми, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечесто выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества» (В. И. Ленин. Соч., т. 41, стр. 304—305). В. И. Ленин развенчивает объективистские концепции «единого потока», который не признает классовых и идеологических критериев, доказывает несостоятельность левых экспериментаторов, высокомерно отвергающих литературное наследие, духовные ценности прошлого.
История, современная практика многонациональной советской литературы содержат разнообразные факты о зарождении взаимных связей, направлений, школ. Советские ученые-литературоведы в своих фундаментальных трудах на конкретных примерах показали, как в результате слияния традиций и культур разных народов появляются замечательные произведения социалистического реализма, обогащающие общие для человечества художественные принципы освоения действительности.
Коренная связь с духовной культурой родного народа, его исторической почвой, освоение опыта мировой художественной классики обеспечивают развитие, совершенствование и движение нашей молодой, много добившейся и еще больше обещающей казахской литературы.
Глава первая
ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ
I
Чтобы всесторонне осмыслить и раскрыть одну из главных эстетических проблем — народность литературы, необходимо вчитаться в древние памятники казахской литературы, собрать наследие далеких времен, проанализировать образцы сегодняшней литературы.
Интерес к проблеме народности литературы уходит далеко в прошлое. Великий французский философ и просветитель Жан-Жак Руссо высказал ряд положений, которые позже легли в основу целых школ и художественных направлений. Одно из них — о соотношения цивилизации и естественной природы человека.
Буржуазные отношения разрушили последние звенья связи между цивилизованным искусством и народом: пути народа и художника разъединились. Началось активное выделение и отчуждение личности от общества. Поэтому Жан-Жак Руссо звал к постижению народных форм искусства, его древних образцов. Лишь они могут быть близки народному сознанию. Руссо был глубоко убежден, что современное искусство, как и само буржуазное общество, враждебно народу.
В начале двадцатого века в социальную борьбу начали постепенно включаться представители казахского народа, получившие образование в русских школах. Один из них — Мухтар Ауэзов — в своей статье «Научный язык», написанной в 1918 году, в соответствии с тогдашним уровнем своего образования и эрудиции, попытался доказать несостоятельность мнения Руссо, будто наука ие имеет смысла и от нее нет пользы.
Великий немецкий поэт Ф. Шиллер говорил: чтобы народ и искусство соединились, необходимо культуру широких масс поднять до уровня эстетических образцов. В этом отношении он не разделяет пессимизма Руссо.
Гегель, чей диалектический метод стал одним из трех источников марксизма, считал, что главным критерием в оценке художественного произведения и творчества художника является народность искусства. Искусство, которое служит замкнутой кучке эстетов, не имеет права называться искусством.
Необходимость связи литературы с освободительным движением глубоко обоснована в XIX в. русскими революционными демократами.
Разбирая произведения Н. В. Гоголя, В. Белинский отмечает, что Плюшкин, Манилов, Чичиков являются язвой и болезнью русского народа. И что настоящий художник не только певец победных торжеств, но, в первую очередь, выразитель недугов и лекарь общественных болезней.
В своей статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов доказывает, что «не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни». Добролюбов обращал особенное внимание на связь между писателем и читателем. Широкой массе, считал он, нет дела до споров и мелких стычек вокруг литературы.
В ходе развития буржуазных отношений одна группа романтиков отвернулась от современности и устремилась в прошлое, другая в прошлом сочла заслуживающей внимания лишь литературу древних греков. Определяя народность литературы, мы должны выделить в первую очередь коллективно созданные произведения фольклора, в которых выражены народные представления о жизни, народная идеология. На ранних стадиях социального развития устная литература играла ведущую роль, но в наше время она не могла поспевать за ходом жизни и уступила место профессиональной литературе. В этой связи вспоминаются слова К. Маркса о греческом эпосе, как детстве человечества.
Следующая ступень — появление отдельных творческих личностей, воссоздающих жизнь, быт, психологию и дух своего народа. Природа образности литературы, ее своеобразие кроется в языке, этом уникальном инструменте, связывающем народ с окружающей средой и мирозданием. Бесспорно — народность в литературе начинается с борьбы за право писать на родном языке.
Отказ тюркоязычных литератур от книжных арабоперсидских языков, от чагатайского языка вызван стремлением приблизить искусство к родной почве, воссоздавать жизнь на своем родном языке. Нечто подобное происходило в Германии и в России в XVIII и начале XIX вв., где дворянство обходилось и довольствовалось французской культурой и французским языком.
Народность литературы коренным образом связана с родным языком, родной язык — ее материнское молоко. «Родной язык»— пишется по-казахски как «ана тили», что означает «материнский язык». Национальный образ, чувства, привычки, поверья могут быть показаны только на родном языке. Так было у Шекспира, решавшего в своих трагедиях сложнейшие социальные и нравственные проблемы Англии эпохи Ренессанса. Образцом эпического воссоздания русской жизни первой трети XIX в. является великий роман Льва Толстого «Война и мир». Здесь все конфликты, весь ход мощного, широко разветвленного сюжета подчинены утверждению идеала народной жизни, как он мыслился писателем земли русской.
Разноязыкие народы со своими национальными культурами в прежние времена напоминали острова, оставшиеся без плавучих средств для связи друг с другом. Только развитие индустрии и торговли положили начало образованию многосторонних связей между ними. Если в древности и средние века народы и государства покорялись лишь силой оружия, то в новые времена целые континенты могли добровольно признать власть выдающегося произведения литературы. Наступил период литературных взаимосвязей и влияний. Развитые литературы увлекали за собой младописьменные, давая им внешнюю форму, помогая осмысливать национальное содержание. Народы, вступающие на историческую арену, пытливо оглядываются вокруг себя, сравнивают свой уклад, свою культуру с успехами цивилизации у более передовых наций. Возникает потребность осмыслить прошлое. Недаром такой революционер, как Сакен Сейфуллин после поэмы «Советстан» и мемуарного романа «Тернистый путь» написал такие произведения, как «Кокшетау» и «Красный конь», а у Ильяса Джансугурова после поэмы «Степь» появился «Кулагер». В своих последних произведениях выдающиеся поэты и мыслители предприняли попытку создать красочную летопись родного народа, воскресить героев прошлых веков, которые могли затеряться в темных глубинах истории.
Перед лицом нынешнего сообщества народов необходимо было убедительно ответить на вопрос «кто есть казах?» Неосуществленные замыслы Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Джансугурова и других из этой плеяды, были подхвачены Мухтаром Ауэзовым, и в романе «Путь Абая» оц создал обширнейшую и поэтическую картину казахской жизни, совершив исторический подвиг.
Свидетельством активизации национального сомосоз-нания и высокой гражданственности может служить настойчивое обращение современных казахских писателей к событиям давних времен.
О народности литературы и проблемах национального языка в мире написано много — и доказательного, и спорного. Как воспринимать, скажем, произведения некоторых африканских писателей, написанных на французском языке. Или индийских писателей — на английском языке? Такие факты нередки и в нашей советской литературе. В свое время М. Ауэзов писал о них в связи с творчеством Бауржана Момыш-улы, Ануара Алимжанова и некоторых писателей Кавказа. Являются ли они национальными писателями? Несомненно, поскольку в данном случае возникает феномен второго родного языка, при котором национальное чувство, представления, побудительные мотивы свободно, без насилия укладываются в систему русского языка. Художник — голос своей страны и совесть своего народа. Мысли, которые он не доверяет героям, царям, философам, открываются лишь писателю. Поэтому художник больше, чем любой другой интеллектуал, имеет право говорить от имени своей родины.
В двадцатом веке выходец из немногочисленного аварского народа Расул Гамзатов обогатил мировую поэзию мелодией гор. Один из малых народов Европы — норвежцы — выдвинули Ибсена, оказавшего влияние на мировую драматургию, а сегодня высокогорные киргизы подарили миру Чингиза Айтматова.
Шовинистические амбиции и трактаты фашистского толка напрочь отвергают категорию народности. Марксистско-ленинская эстетика рассматривает ее в диалектической связи с классовой борьбой в обществе. Разумеется, при первобытно-общинном строе искусство было бесклассовым. Классовый характер присущ искусству классового общества, относится к категории, имеющей общее значение. Впервые теоретически конкретизировали эту проблему К. Маркс и Ф. Энгельс.
В письме Фридриха Энгельса, написанном в связи с романом Минны Каутской «Старые и новые», имеется мысль, занявшая большое место в последующей истории эстетики.
«Я ни в коем случае не противник тенденциозной поэзии, как таковой. Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами, точно так же, как Данте и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера состоит в том, что это — первая немецкая политически тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны. Но я думаю, что тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы на это особо указывалось, и что писатель не обязан подносить в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов».
Эта мысль еще более конкретизируется в письме к Ф. Лассалю о его трагедии «Франц фон Зикиген».
Маркс и Энгельс придавали особое значение образности и специфике искусства, остерегали писателей от превращения героев в рупор идей. В своих работах и партийной практике они нередко обращались к творчеству многих современных им поэтов и прозаиков. К. Маркс, например, помог немецкому революционному поэту Ф. Фрейлиграту преодолеть романтические иллюзии, а Георг Веерт стал выдающимся пролетарским поэтом только после знакомства с Энгельсом.
В трудах Ленина понятие партийности включает ряд факторов;
1) членство человека в партии,
2) приверженность материалистической философии,
3) участие писателя, философа, идеолога своим творчеством в революционном движении.
Принцип партийности литературы был теоретически обоснован в знаменитой ленинской статье «Партийная организация и партийная литература», опубликованной 13 ноября 1905 года в газете «Новая жизнь. Этот труд положил начало политике коммунистической партий в области литературы.
Современные ревизионисты пытаются доказать, что статья эта, верная для начального периода большевизма, ныне устарела.
Советские литераторы отвергают столь ограничительное толкование выдающегося произведения марксистско-ленинской эстетики, направленного против идеалистических взглядов на литературу и, конкретно, против книги Э. Маха «Познание и заблуждение», выпущенной в 1905 году в Вене.
Мысли Ленина в этой статье обращены не только к членам партии и партийным публицистам, они опираются на практику всех видов реалистического искусства. По определению Ленина партийность — это научно объективное понятие. Партийность литературы — высшая ступень народности, выражение настроений передовых сил общества.
Великий политический мыслитель, стратег и тактик пролетарской революции Ленин в статьях о Л. Н. Толстом, о назначении литературы показал себя и великим критиком, глубоко понимающим природу художественного творчества.
Ленин раскрыл не только личные противоречия Льва Толстого, но и противоречия в его творчестве и мировоззрении.
Читая статьи В. И. Ленина о Толстом, мы словно бы присутствуем при диалоге русских гениев: в нем раскрывается диалектика произведений Толстого, исследуется сложная связь литературы и общества, выявляется закономерность ее развития.
В. И. Ленин обогатил понятие партийности социальной конкретикой, точно указал место художника и искусства в целом в классовой борьбе.
Партийность — не кастовое или групповое понятие, она имеет объективное значение, она произрастает от общего, единого корня марксистско-ленинской эстетики, Это — главное социально-политическое мерило, которым мы должны руководствоваться, рассматривая как целые Литературные направления, так и творчество отдельной личности.
Коммунистическая партия проявляет постоянную заботу и принимает конкретные меры для всестороннего развития литературы и искусства, для укрепления их социального зрения.
Постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» наметило целую программу взаимодействия художественной практики с главными принципами марксистско-ленинской эстетики. В нем раскрыты наиболее распространенные недостатки литературно-художественной критики и намечены пути их преодоления.
Профессионально развитая литература никогда не игнорировала решающие периоды в жизни народа, конфликты, порожденные временем, политические течения и духовные поиски. Рано или поздно события, пережитые народом, начинают говорить языком искусства, становятся объектом изучения потомков.
Человеку хоть сколько-нибудь сведущему в истории искусств, известно, что для художника не было и нет запретных тем, нет сторон жизни, о которых нельзя было бы говорить или писать. По мере наступления духовной зрелости общество побуждает художников вовлекать в круг художественных интересов, художественного освоения все новые и новые пласты жизни. Особенно активным в поисках самовыражения оказываются народы, не имевшие письменной литературы, скульптуры, живописи, только вступающие на путь цивилизаций.
Обозревая развитие современной казахской литературы, нельзя не сказать о ее качественном росте, жанровом обогащении, о высоком уровне мастерства в создании образов. Показателем духовного роста народа является эстетическое обогащение национального искусства, серьезность философского мышления, дальнейшее углубление его корней. Еще многое предстоит сделать казахской литературе в отображении полнокровной жизни, плюрализма взглядов и позиций, психологии человека, новых взаимоотношений, порожденных научно-технической революцией. Соотношение жизненной и художественной правды, мировоззрения и творчества, факта и вымысла, общественная активность искусства, раскрытие закономерностей его развития — вот в каких направлениях ведут плодотворные исследования современные ученые. Не последнее место в этой системе поисков занимает изучение жизни и творчества выдающихся художников и мыслителей прошлого. Многие ли из наших современников знают, скажем, творчество ходжи Ахмета Яссави, именем которого назван самый знаменитый на казахской земле мавзолей? Едва ли. А ведь он был поэтом и философом, оставившим глубокий след в историй литературы тюркоязычных народов. И родился он в окрестностях города Сайрам в 1103 году. Его отец был грамотным, знающим цену слова, человеком.
Оставшись с малолетства сиротой и испытав все невзгоды жизни, Ахмет рос, противодействуя испытаниям судьбы, живым, смышленым и любознательным. Его детство и молодость прошли в городе Ясы. После, когда философ стал широко известен, он присоединил название этого города к своему имени. Такой обычай был узаконен в древности. Ахмет Яссави много и успешно учился, по глубине и обширности знаний он резко выделялся среди своих современников. Именно он развил учение суфизма, получившее широкое распространение на средневековом Востоке.
Наиболее известное произведение Ахмета Яссави — «Джуани хикмет» («Книга мудрости»). Оно несколько раз издавалось в XIX в. в Стамбуле, Казани, Ташкенте, а в 1901 году было специально издано для казахов. В этом сочинении, написанном стихами, Ахме Яссави пересказывает свою жизнь — с детства до старости, рассказывает о своих страданиях и редких радостях. Он сурово осуждает всех смертных, говорит об обманчивости и мимолетности этого мира, воспевает аскетизм и вечность потусторонней жизни.
В книге «Джуани хикмет» можно найти ценные факты, имеющие отношение к древней культуре казахского народа, его литературе, истории и этнографии.
Отрекшись от мира, философ проводит последние годы своей жизни в подземном жилище и умирает в 1166 году. В конце XIV в. жестокий и грозный Тимур, желая увековечить свое имя, переносит останки поэта в город Туркестан и сооружает над его могилой мавзолей, не имеющий равных себе на Востоке по оригинальности и красоте. Долгое время этот мавзолей был местом паломничества мусульман, малой Меккой, здесь хоронили знаменитых казахских государственных деятелей, батыров, биев и поэтов.
Но обратимся к культурной ситуации более близкого времени.
II
Известно, что у казахов до революции не было ни театра, ни драматургии в европейском понимании. Их появление стало возможным лишь в начале нынешнего века, в связи с проникновением в казахские степи буржуазных отношений, образованием национальной интеллигенции.
В городах Уральске, Оренбурге, Семипалатинске, Петропавловске открывались русские и татарские профессиональные театры, создавались самодеятельные коллективы. Казахская молодежь, обучавшаяся в учительских семинариях, русско-казахских школах, посещала их спектакли, искала и находила в сценическом действе сходство с бытом, обычаями и традициями, с фольклором собственного народа. О зарождении казахского театра глубоко размышлял в своих историко-литературных исследованиях Мухтар Ауэзов.
В 1914 году в Семипалатинске на вечере, посвященном Абаю, был инсценирован и поставлен на сцене «Айтыс Биржана и Сары». Первая казахская пьеса, написанная Кольбаем Тогысовым, «Жертва отсталости» была издана отдельной книгой в 1915 году в городе Уфе. Первый казахский режиссер и видный драматург Жумат Шанин безошибочно угадывал в казахском фольклоре элементы, близкие к театру и драматургии, и строил на их основе национальное искусство драмы. Огромный вклад в зарождение и развитие казахского театра внесли представители первого поколения актеров Калибек Куанышбаев, Иса Байзаков, Амре Кашаубаев, Серке Кожамкулов, Елубай Умурзаков, Шакен Айманов.
Становление и рост казахской драматургии тесно связаны с именами Жумата Шанина, Мухтара Ауэзова, Жусупбека Аймауытова, Беимбета Майлина, Ильяса Джан-сугурова, Еабита Мусреиова, Сабита Муканова, Абдиль-ды Тажибаева, Альжаппара Абишева, Шахмета Хусайнова, Калтая Мухаметжанова, Тахави Ахтанова.
Художественное творчество в любом случае начинается с отбора, установления предмета и объекта исследования и воспроизведения.
Посмотрим на маленькую, скромную модель образа,
Я — матерый горный марал,
Осторожно иду один
Среди скользких диких стремнин.
(Махамбет. Стихи, А.,
1957, стр. 79).
С точки зрения грамматической формы здесь нет ничего, что ломало бы устоявшуюся систему казахского языка. Здесь нет никаких бросающихся в глаза особенных слов, ярких красок, о которых толкуют некоторые ученые, отдельные слова здесь охватывают разные явления и как бы озаряют лучом друг друга.
Попробуем расчленить эту единую картину: дикая стремнина, матерый горный марал. Гора — символ высоты, восхождения, вечности. Старый марал напоминает человека в преклонном возрасте, когда жизнь его идет к закату. Марал — синоним красоты. Из сочетания слов «матерый горный марал» словно бы рождается новое понятие.
Перед нами сложная, разветвленная связь между явлением и образом, переход от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному. Абай:
Дорогой долгой жизнь водила.
Одно осталось мне — могила.
Но мой язык еще мне друг,
Способен усладить он слух,
Но слушатель мой слишком глух —
Судьба такими наделила!
(Перевод Л. Озерова).
Обычное повествовательное предложение... В этом направлении можно было бы продолжать синтаксический и морфологический разбор, но оно не дает возможности раскрыть все особенности картины, которая проанализирована и создана после тщательного отбора фантазией поэта. И здесь тоже образуется качественно новый смысловой сплав, возникший при взаимодействии нескольких явлений: дорога, могила, язык. Поэт смешал краски, столкнул лучи и роздал новую вещь.
Было бы неверно воспринимать образ как фотографию бытия, это — оригинальный и своеобразный феномен, который рожден из столкновения явлений, отобранных фантазией художника.
В трудах ученых Института мировой литературы имени М. Горького последних лет есть ряд убедительных теоретических суждений относительно природы образности. Как указывал украинский языковед и литератор прошлого века А. Потебня, в слове есть два пласта: внешний— смысловой пласт и внутренний — образный пласт, внешний — проза, внутренний — поэзия. Этот ученый рассматривает существование каждого слова параллельно с функцией зафиксированного им явления. С течением времени слово постепенно теряет первоначальную образность и систему связи с явлением.
Говоря по-иному, слово теряет красоту и конкретность, лишается живописного облика, превращается в штамп.
Потебня говорит: «Слово обладает всеми качествами художественного произведения». (А. А. Потебня, Мысль и язык. Одесса, 1922, стр. 167). Воспользуемся этой мыслью, чтобы рассмотреть некоторые примеры, имеющие отношение к нашей национальной почве.
У казахов есть слово «уркер», что означает «стожары»— созвездие. Для сына степи, который всю жизнь провел на ее груди, романтика неба неисчерпаема. Свойство светил исчезать, таять, «разбегаться» на рассвете народ подметил давно. Слово «уркер» не только называет группу звезд, но и определяет «поведение» звезд. Отсюда второе значение слова «разбегающиеся».
Человека, туго соображающего, называют «бакай курт». В буквальном переводе это звучит как «червь между пальцами ног».
Два явления высвечивают друг друга, но они не равны.
Наука представляет предмет однозначным и неизменным, а искусство передает его в движении и многозначности, через сравнение и высвечивание.
Главное в структуре образа - национальное восприятие, национальные краски. И никакой художник не в силах подняться над ними, отрешиться от них.
На разных стадиях своего развития искусство попадало под влияние то мифологических, то религиозных идей. Лишь ближе к нашему времени оно поднялось до реализма, до решения общественных и духовных проблем. Постигая пути развития искусства, мы видим и процесс освоения человеком бытия, принципы его познания. В любые времена предметом для искусства было бытие, его многообразие и метаморфозы. Разумеется, не в общем виде, а в человеческом проявлении, в борьбе взглядов и мировоззрений.
Поэтому в литературоведческой науке не стихает борьба между материализмом и идеализмом вокруг жизни и искусства, жизненной правды и правды в искусстве.
По мысли эстетиков-идеалистов художественная правда, красота рождается и существует лишь в фантазии художника, это— чисто эстетическая категория. В жизни она не имеет ни основы, ни корней. Материалисты отвергают такое толкование. Приведем слова великого немецкого писателя Гете: «Своими произведениями я обязан никак не собственной мудрости, но тысячам предметов, тысячам людей, которые ссужали меня материалом. Были среди них дураки и мудрецы, умы светлые и ограниченные, дети и юноши, и зрелые мужчины. Все они рассказывали, что у них на сердце, что они думают, как живут, как трудятся, какой опыт приобрели; мне же оставалось только взяться за дело и пожать то, что другие для меня посеяли» (И. П. Эккерман. Разговоры с Гете. М., 1981, стр. 63,7—638).
Художественная правда — это не копия, а воссоздание жизненной правды в соответствии с идеологическими установками автора. Из хаоса разрозненных, хаотичных явлений художник с помощью отбора и фантазии создает мир, который считает идеальным или подлежащим переустройству. Каким бы гениальным ни был писатель, он все равно не сможет охватить весь этот необъятный мир и воплотить его в своем творчестве.
Фантазия художника — дар природы, которым редко наделяется ученый. В обыденной жизни писатель лишь один из многих. Может быть, даже хуже многих. Он высок лишь в минуты вдохновения, когда проникает в самые потаенные уголки человеческой души, в самые смутные области жизни. Мощь художника в его таланте, он поклоняется лишь своей фантазии и вдохновению. Как это сказал Абай?