Рыжая полосатая шуба — Майлин Беимбет
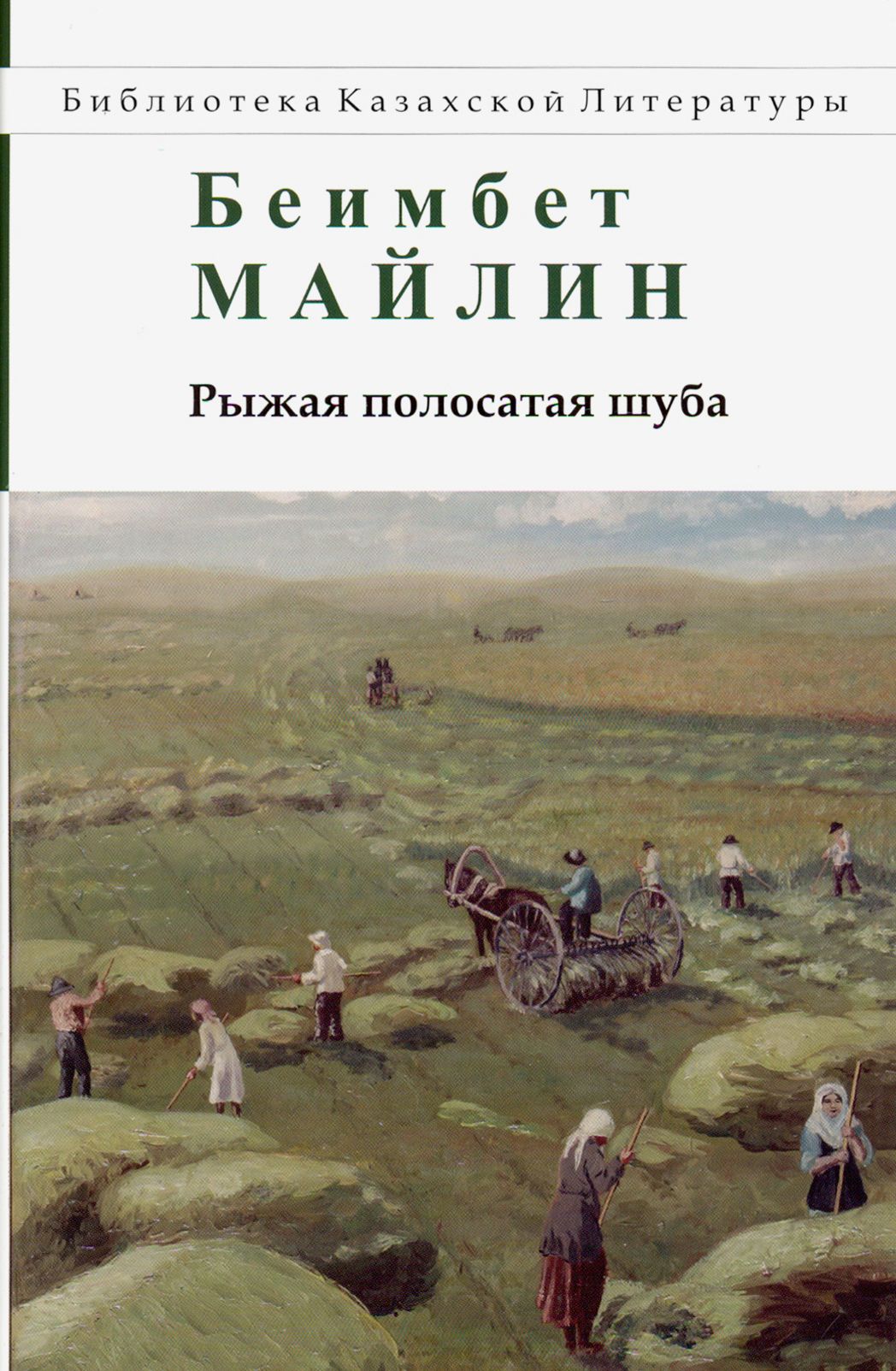
| Аты: | Рыжая полосатая шуба |
| Автор: | Майлин Беимбет |
| Жанр: | Романдар мен әңгімелер |
| Баспагер: | Аударма |
| Жылы: | 2009 |
| ISBN: | 9965-18-271-X |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Бет - 10
МУЛЛА ЗАКИРЖАН
В сопровождении неизменного спутника Калдыбая отправился мулла Закиржан в аулы «Торт-тюбе» -«Четыре холма» - за обычной данью.
Эти аулы богатые. У них даже собственная мечеть есть. Каждый год совершает туда вылазку Закиржан-мулла. Все дома объездит, никого не пропустит. Через месяц возвращается будто с калымом: гонит с собой тридцать - сорок голов скота.
Калдыбай - своего рода прислужник муллы. Они ровесники, давние приятели и сообщники. Правда, это им не мешает наедине подтрунивать друг над другом, а иногда даже ругаться. Серьезных ссор, однако, у них не бывает. Обид и злобы они друг на друга не таят.
На глазах же людей ведут себя совершенно по-иному. Вид у муллы благочестивый и отрешенный. На голове чалма, на плечах просторный белый стеганый чапан, веки смиренно опущены долу, мулла словно дремлет, погруженный в свои праведные думы. Калдыбай ходит вокруг него на цыпочках, ловит каждое движение своего духовного наставника.
- Таксыр, - елейно говорит он, - подошло время намаза. Не угодно ли вам совершить омовение?
И расторопный Калдыбай подает мулле кумган, расстилает молитвенный коврик - жай-намаз, протягивает четки. С суровым, непроницаемым лицом Закиржан опускается на колени, раскрывает черную книгу и начинает гундосить. Время от времени членораздельно произносит:
- Ия, ал-ла-а!..
И от этого возгласа Закиржана Калдыбай каждый раз благоговейно вздрагивает...
В аулах «Торт-тюбе» Закиржана и Калдыбая все уважают.
- Молодой, а всецело посвятил себя служению богу,-восторгаются Закиржаном.
- Черное от белого не отличает, а верного человека себе нашел,- говорят о Калдыбае.
Когда приезжает Закиржан-мулла, вокруг него собираются почтенные старцы и влиятельные богачи - жирные затылки аулов - «Торт-тюбе». Они сопровождают его по аулам и юртам, заглядывают ему в рот и вообще ведут себя, как покорная свита.
Закиржан вдохновенно рассказывает аулчанам нравоучительные притчи из Священного писания: говорит о праведниках в раю, о грешниках в аду, о великих деяниях апостолов пророка, о наставлениях Мухаммеда-пайгамбара.
- О, мой сладконебый!- млеет от восторга Калдыбай.
А когда мулла начинает говорить о божьей каре и приближении конца света, у растроганных стариков начинают слезиться глаза и дрожат челюсти.
- Таксыр! Скажите, в чем заключается смысл жертвоприношений? - почтительно спрашивает Калдыбай.
- Подношения смягчают божий гнев, открывают ворота в рай, оборачиваются в Судный час спасительной соломинкой, - отвечает мулла.
- Уай, уай! До чего же всемогущ и милосерден наш кудай!1 - непременно поддержит кто-то.
Потом, возвращаясь с богатой добычей из аулов «Торт-тюбе», мулла Закиржан и Калдыбай всю дорогу переругиваются.
'Бог.
- Игреневая кобылица моя!- настаивает «мюрид».
- Э, не дури! Скот-то не твой, а мой. Я ведь благословение давал!
Длинный нос муллы начинает бледнеть и заостряться. У Калдыбая нервно топорщатся усы, закатываются глаза.
- Это ты брось - мой! Ты оставь это, Закиржан! -грозно рычит он.
- Это почему же?
- Да что ты своим благословением рот мне затыкаешь?! Кому он нужен, твой бред? Был бы от твоих молитв толк, люди сами бы скотину к тебе домой пригоняли. А так вместе рыщем, вместе добываем в поте лица. Значит, и доля наша равная. Моих заслуг даже больше, если уж на то пошло!
Лицо Закиржана-муллы покрывается пятнами, губы дрожат, от ярости он начинает задыхаться. В это мгновенье он ненавидит Калдыбая, как поганую собаку. И дернул же его нечистый связаться с ним и таскать всюду с собой.
- Ну и дурень же ты! Остолоп! Ведь игреневую кобылицу я получил за поминальную службу по покойнице Улболсын. Коран читал я! Отходную молитву читал я! Поминальную - я!..
Калдыбай не слушает. Он хорошо знает, что хочет сказать мулла Закиржан. Ударив коня пятками, Калдыбай сгоняет в плотный табун беспорядочно бредущий скот. Некоторое время они едут молча. Вдруг Калдыбай светлеет лицом, точно солнышко, выглянувшее из-за туч.
- Эй, Закиржан, совести у тебя нет! Зачем хулишь мои труды? Вспомни хотя бы ту ночку, а! Чего она стоит, не говоря уже о другом!
От приятных воспоминаний Калдыбай жмурится.
- У, дуралей!- смеется польщенный Закиржан.
Оба мгновенно преображаются, лихо подгоняют скот по дороге, похохатывают, довольные друг другом.
- Да, в тот раз ты отличился!- восторгается Калдыбай.
Тучи недавней неприязни рассеиваются без следа.
- И ты мне тогда здорово подсобил! - великодушничает благодарный мулла.
***
Возле Арчалы стоит зимовье Алимбая. Весной аул откочевывает на джайляу, и зимовье пустует, зарастает ковылем и бурьяном. Один бедняк Конка сторожит зимовье, и то живет он, по стародавней привычке, несколько на отшибе, ближе к одинокой степной дороге.
Его единственная коровенка, бурая, с обломанным рогом, постоянно пасется возле его черной лачуги. Жена Конки - Калампыр, - волоча за собой кривую жерлину, отгоняет буренку в степь, ругая и проклиная ее на чем свет стоит.
- У! И что ты весь день возле дома шляешься,-говорит она,- тварь поганая! Теленка никогда на выпас не отпустишь. А отпустишь - все молоко высосет. Чтоб ты подохла!
Конка, лежа на подстилках, лениво говорит:
- Чтоб тебе челюсти свело, дурная баба! Что будем делать, если она подохнет?..
Лениво перебирая пряжу, скучает в тени дочь Конки - Каныш. Пальцы привычно бегают по пряже, а мысли ее далеко. Она тоскует по соседям, по подружкам, по аулу. По шумной, веселой жизни в многолюдном ауле за долгую, шестимесячную зиму. Как дорога для черноглазой полногубой Каныш лютая зима, сжимающая в ледяной ладони весь мир! Зимой веселишься со сверстницами. Ходишь на игрища, на
той. А лето с запашистым, зеленым разнотравьем, с душными, томительными ночами - зачем оно одинокой Каныш? Вот если бы вместе со всем этим были бы еще рядом подруги и сверстники! А так она сидит в тени с утра до вечера и думает, думает, черноглазая!
Хозяину тоже опротивела его одинокая убогая лачуга. Его неудержимо тянет на джайляу. Ночью ему снятся озера, заросшие шелковистым кураком, и искрящийся в чашах терпкий кумыс. Душа его мается, изнывает, и скоро он уже не может сладить с тоской, и тогда он вдруг хватает белый посох и пешком отправляется на желанную летовку. Калампыр, конечно, ворчит:
- Только о себе и думаешь! А мне что тут с девкой делать? Могилы сторожить, да?! Ты хочешь, чтобы мы здесь околели! Чтобы нас кто-то прирезал?!
Ворчит, бурчит жена, а когда Конка исчезает за перевалом, в душу ее закрадывается тревога. Шутка ли отшагать сорок верст по такой жаре! Жажда замучит, усталость сморит, думает она.
***
Прошло дней пять, как Конка подался на джайляу. Встревоженные и испуганные Каныш и Калампыр всю ночь не смыкают глаз. Мерещатся им жуткие страшилища, джинны и пери из сказок. Кажется, бесы беснуются возле заброшенного зимовья, мерзко хохочут и швыряют друг в друга в зарослях бурьяна снопы пламени. Калампыр про себя, так, чтобы не услышала дочь, бормочет обрывки запомнившихся молитв. Она вся дрожит, но скрывает страх, чтоб не испугать Каныш.
И Каныш тоже не спит, но совсем не от страха. Она думает о своей жизни, о разных немудреных приклю-
чениях, о желанном друге, о родных в доме Сатпая. Незабываемый то был вечер. Собрались девушки и джигиты всего аула. Столько народу набилось - ступить было негде. Стало жарко, душно. Тускло мерцала лампа, грозя погаснуть. Пот стекал по лицам, но молодежь обтиралась полотенцем и игры не бросала.
- А ну-ка, сестричка, подставляй ладошку! - двинулся к Каныш весельчак Ахметбек. В руках у него был плетеный поясок. Он широко, размахнулся, будто намеревался изо всех сил хлестнуть по ладони, а на лице у самого при этом блуждала улыбка.
Каныш игриво хохотнула:
- Пожале-ейте! Не сильно только.
Потом кто-то предложил:
- Начнем новую игру!
- Какую?
- Песня по кругу!
Пошла домбра из рук в руки. Дошла до Ахметбека. Он старался держать ее поудобней, поизящней. Покрутил колки, настроил струны. Он откашлялся, голос попробовал. Голос прозвучал хрипловато. Молодые разговаривали, шутили, были только заняты собой. Их равнодушие обидело Каныш. Она замирала от восторга, когда слышала:
К озеру степному аулы откочевали.
У озера влюбленные о любви мечтали. Когда ты, милая, назначила свидание. Развеялись на сердце облака печали.
И теперь еще, думая об Ахметбеке, она неизменно слышала его голос и эту его песню. Каныш чудилось, будто последние две строчки предназначались одной только ей...
***
Потух огонь в продолговатой земляной печке - жер-ошаке. Небо укрылось черным одеялом. Зажглись, перемигиваясь, мириады звезд. Разморенная ночь погрузилась в дрему.
Вскоре на дороге дробно застучали конские копыта. Жолдыаяк потявкал и тут же смолк. Послышался приглушенный разговор. Калампыр и Каныш прислушались.
- Апырмай, путники, что ли?
- Хоть бы у нас заночевали,- испуганно прошептала Каныш.
Жолдыаяк вновь залился лаем. Путники подъехали. Из-за решеток смутно виднелись очертания двух верховых. Один из них крикнул:
- Уай, есть кто дома?
- Мы дома! - радостно отозвалась Калампыр.
Всадники привязали поводья к передней луке седла, спешились и зашли в лачугу. Поздоровались. Калампыр спросила.
- А вы кто такие будете?
- Слыхали небось про муллу Закиржана? Вот он и есть! - ответил один.
Калампыр несказанно обрадовалась. Бросилась к очагу разводить огонь, готовить ужин, но гости решительно отказались от угощения, сказав, что они очень устали и хотят только спать.
Зажгли лучину. При ее неверном свете хозяйка расстелила на почетном месте старенький палас, однако подушек и одеял не было, и смущенная Калампыр извинилась перед гостями.
- Ойбай, женге, не беспокоитесь. Мы довольны тем, что есть, - сказал Калдыбай и растянулся на паласе прямо в одежде, повернувшись, однако, боком к Калампыр.
Лачужка бедняка Конки была явно тесна для четверых.
- Женгей, уж больно близко мы с вами легли. Если во сне забудусь, не обессудьте,- пошутил, укладываясь, Калдыбай.
Измученные бессонными ночами, мать с дочерью сразу же уснули. Калдыбай толкнул локтем Закиржана.
- Эй, дрыхнешь?
- Нет.
- Тогда ползи. На четвереньках!
- Так она же кричать начнет, мать разбудит...
- Не бойся! Я с божьей помощью как-нибудь с ее матерью уж справлюсь.
Закиржан-мулла опустил голову, как при молитве, и пополз на четвереньках.
- Эй, кто это, кто это? Ма-а-ама!- вскрикнула в испуге Каныш.
Калампыр проснулась, но еще не успела сообразить, что же случилось, как Калдыбай, схватив ее за руки, выволок из лачуги.
- Молчи, женгей! Тихо! Айда со мной! Разговор есть...
Едва забрезжил рассвет, Закиржан и Калдыбай отправились дальше в путь. Калампыр и Каныш, опозоренные и перепуганные насмерть, исходили безутешными слезами в одинокой лачуге на дороге.***
В пивной поселка сидят Калдыбай и Закиржан. Столик заставлен бутылками. Приятели раскраснелись. Видно, пируют давно.
- Ну, что? Глотнем беленького?- подмигивает Калдыбай.
- Ай, не знаю,- улыбнулся мулла.- В аул ведь едем. А беленькая - она буйная...
- Не бойся. По дороге отоспимся. После бурной ноченьки нам это не помешает...
Калдыбай хихикает. Мулла придвигает к нему рюмку.
- Эх, дуралей! Ладно! Нынче доволен я тобой. Давай, наливай еще разок.
Мулла лезет в карман за платком, чтобы обтереть пот на лбу, но вместо платка достает длинные, как тонкая кишка, четки и роняет их в стакан с водкой. «Астапыралла!» - бормочет мулла и запихивает четки обратно в карман. Приятели пьют и делятся подробностями вчерашних ночных похождений.
С заходом солнца с выпаса возвращается скотина, бредут, похрюкивая, свиньи. Возле дома под красной крышей, в середине поселка, овцы, козы, коровы, насторожив уши, шарахаются в сторону то ли с испугу, то ли от омерзения. Здесь, в двух шагах от пивной, свалились прямо рожами в грязь почтенный мулла и его верный «мюрид». Свиньи, в отличие от другой скотины, не шарахаются от лежащих в пыли приятелей. Они деловито тычутся рылами в бесчувственного Закиржана-муллу и лишь потом, брезгливо морщась, уходят восвояси. Только рыжий шелудивый кобель подошел и облизал священные уста муллы...
1928 г.
ПЕРВЫЙ УРОК
- Эй, перестанешь наконец?!- Минайдар поднял голову. - Хватит, говорю... Чего напраслину городишь?!
- Напраслину! Как я чего-нибудь скажу, так сразу напраслина...- пробурчала жена, пересиливая себя.
Едва Маржанкуль затихла, у Минайдара тоже пропала злость. Некоторое время он молчал, потом примирительно сказал:
- Слушаешь ты всяких, вот потому я и злюсь. А ссориться тут не из-за чего. Я ведь не один, все туда ходят.
После этих слов Минайдар успокоился окончательно. Чувствуя это, заметно смягчилась и Маржанкуль. Привычно теребя клок шерсти, она стала выкладывать все, что у ней было на душе.
- Это верно, что все туда ходят. И я ничего против не имею... Но меня злит то, что вы собираетесь в доме матушки Сары. Будто другого дома в ауле больше нет... У меня все нутро горит, когда об этом думаю. А она-то, матушка Сары, оказывается, говорит: «Мой муж-покойник был из рода Хожалык. И по обычаю аменгерства, я выйду только за его сородича. На других щербатых я и смотреть не желаю». И при этом прямо-таки тебя ест глазами. Выставится и смотрит... Вот из-за чего я места себе не нахожу...
Минайдар, лежа на боку, громко расхохотался, показывая щербатые зубы.
- Вот черт-баба! Вчера ведь только говорила: «Куда ты, старик беззубый, прешься?» А сегодня уже по-другому поешь...
- Ну и что, если так сказала? Зашла вчера к свекру за угольком, а там сидят, разговаривают. Ну, и навострила я уши. О чем, думаю, речь... А деверь-то, горлопан, и говорит так ехидно: «У Минайдара зубы выпадают. Самая пора ему учиться». Я аж вспыхнула вся, как услышала...
Теперь и Маржанкуль рассмеялась.
Супруги забыли о недавней стычке и заговорили, словно ничего и не случилось. Поговорили, между прочим, и о хозяйстве: о том, что совсем дошла их единственная лошадка, на которой проработали все лето, ни к чему она уже теперь не годна; что кончилось мясо ярки, которую выменяли на единственного теленка. К. тому же сообщила Маржанкуль, что и мука вся вышла, а в заварник сегодня она бросила последнюю щепотку чая. Тогда Минайдар решил завтра же съездить в город.
- А как с учебой?
- Ойбай-оу, в самом деле! Как же быть?- Минайдар озадаченно посмотрел на жену.
- Пока ты съездишь в город, поучусь вместо тебя, -улыбнулась Маржанкуль.
- Не выйдет.
- Почему?
- Женщин ведь учат отдельно.
- А почему женщин всегда отделяют? Мы ведь никого не съедим, если станем учиться совместно! Вечно нас ущемляют...- возмутилась Маржанкуль.
Минайдар опять принялся хохотать.
- А, про «слабоду» вспомнила? Слабода слабоде рознь, дорогая. Слабода вовсе не значит позволять бабам отбиваться от рук.
- Разве учиться - значит отбиваться от рук? Тогда и тебе учиться не стоит!
- Сказала! Мы - мужчины.
- А женщина в чем виновата?
- В том, что она женщина. Ее бог с сотворения унизил. И стремиться ей быть равной с мужчиной - это великий грех.
- Э, брось, милый! Выдумки все это. Или забыл ты, что сказал очкастый представитель на прошлых выборах?
- Что же он сказал?
- А то, что женщины и мужчины равноправны. Что мы можем так же работать, как и вы.
- Ах, так же работать?.. А помнишь, когда я летом косил сено литовкой, ты едва успевала за мной сгребать граблями?
- А ты своей силой не хвались. Что мужчины сильнее, мы знаем... Очкастый тогда говорил, что женщина наравне с мужчиной может даже быть аулнаем.
- Вот что захотела! Посмотрел бы я, как вы заправляете аульным Советом...
- Ну и что? Думаешь, я хуже, чем дурной Несипбай? Бедняга два слова связать не может, а - аулнай!
- Ладно! На следующих выборах я изберу тебя аулнаем. А пока встань-ка и сготовь чай.
Минайдар с удовольствием потянулся, упираясь головой в стенку. Маржанкуль убрала пряжу, подошла к печке с котлом. Длинными железными щипцами расшуровала золу, достала тлевшую головешку, подложила щепки, принялась раздувать огонь. Пепел тучкой поднялся к потолку.
Минайдар потянулся рукой к окну, взял с подоконника книжку в серой обложке. Это был учебник для первого класса. Из района недавно приехал учитель для ликвидации неграмотности и организовал в ауле школу. Минайдар тоже записался. Ему сейчас тридцать четыре. Недавно выпали у него два передних зуба, и теперь из-за щербинки при разговоре становился видным язык. Когда Минайдар пошел в ликбез, сверстники смеялись:
- Самая пора. Пока у тебя все зубы выпадут, ты и грамоту одолеешь.
Минайдар, однако, мало обращал внимания на их насмешки. Понемногу преодолевал он и сопротивление жены. Все его помыслы сводились к одному: научиться читать, уметь расписываться.
- Что ж... приходится пенять на отца. Учил бы меня в детстве, - читал и писал бы сейчас не хуже других. Сидел бы теперь да разглядывал бумаги, - не раз мечтательно говорил он.
Он открыл первую страницу, уткнулся в книгу. Буквы большие, жирные. В отдельности он их все знает, а вот складывать их - ой как трудно. И все же, спотыкаясь, заикаясь, он с превеликим трудом осилил первую страничку. Сейчас он снова принялся перечитывать ее. Вначале занялся отдельными буквами, потом стал читать по слогам. Врастяжку прочитал он громко «мало», и тут Маржанкуль, растапливавшая печку, обернулась к нему и недоуменно спросила:
- Чего мало? Щепок, что ли?
- Э, провались! - усмехнулся Минайдар и повернулся на другой бок.
***
Каждый вечер после ужина Минайдар по привычке брал в руки книжку в серой обложке. Придвинув к себе лампу, подмигивая и улыбаясь, принимался за чтение. Учеба в ликбезе продолжалась третий месяц. Крупные буквы он давно уже осилил и складывал их вполне сносно, но в мелком шрифте по-прежнему путался.
Маржанкуль, убрав посуду и самовар, пристроилась по обыкновению рядом с мужем. Он положил тетрадку на книгу и, схватив неуклюжими, заскорузлыми пальцами, привыкшими к лопате, карандаш, начал неумело выводить корявые, огромные буквы.
- Что это? Опять свое имя царапаешь?
- Вот, гляди: получается - «Минайдар Досакаев», -довольный, улыбнулся Минайдар.
- А какое из них имя свекра?
- Это, нижнее...
Маржанкуль долго всматривалась в буквы и вдруг попросила:
- Напиши-ка мое имя.
Минайдар, тяжело посапывая, нацарапал имя жены. Оно заняло едва ли не половину страницы.
- Дай-ка карандаш. Попробую, может, получится... Она легла рядом на живот и принялась старательно выводить буквы.
- Ой, палка в букве «М» у тебя слишком большая получилась. Не палка - целая загогулина...
- Ну да! - чуть покраснела Маржанкуль. - У тебя ведь такая же.
Головы их соприкасались. Минайдар вдруг повернулся и поцеловал жену в щеку.
- Ну, вот, начинается... - деланно пробурчала Маржанкуль и улыбнулась. - Мог бы и не подмазываться, когда я делом занимаюсь.
...Наступила глубокая ночь. Во всех домах погас свет, аул спал. И только в доме Минайдара горела подслеповатая лампа. Супруги попеременно брали учебник в серой обложке и увлеченно, букву за буквой, осиливали грамоту. Крупные печатные буквы в затрепанной книжице весело улыбались, перемигивались и словно радовались, что в казахской степи нашлись два таких прилежных ученика.
1928 г.
