Рыжая полосатая шуба — Майлин Беимбет
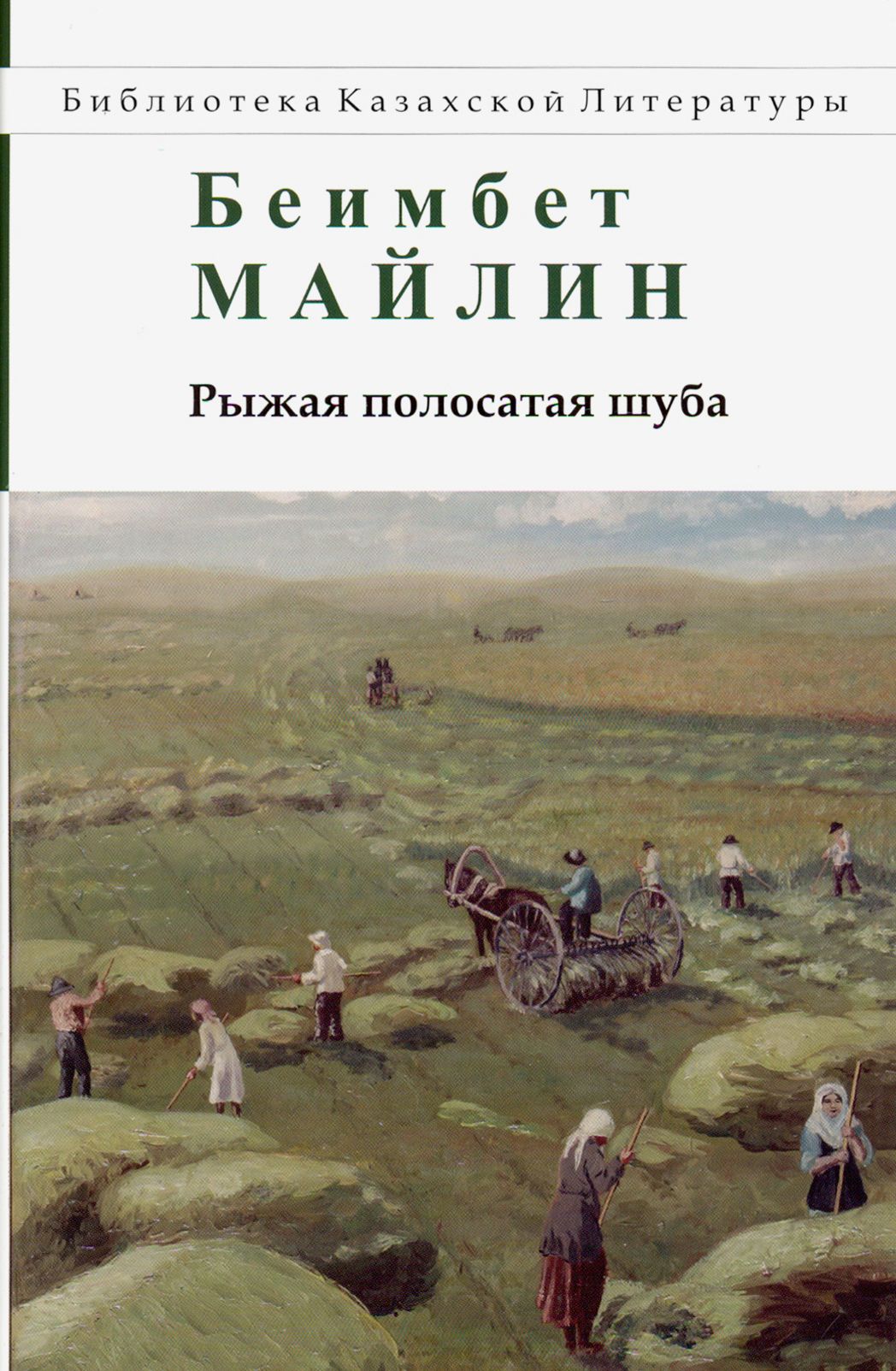
| Аты: | Рыжая полосатая шуба |
| Автор: | Майлин Беимбет |
| Жанр: | Романдар мен әңгімелер |
| Баспагер: | Аударма |
| Жылы: | 2009 |
| ISBN: | 9965-18-271-X |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Страница - 11
РЫЖАЯ ПОЛОСАТАЯ ШУБАI
День нахмурился, насупился, все вокруг точно вздыбилось... Степь поблекла, травы пожухли, повысохли. То ли туман, то ли хмарь низко нависла над землей, и сквозь эту унылую сутемень все казалось тусклым, зыбким - и несметная толпа, и сама неоглядная даль. Что это? Стадо, табун? Или люди? Толпа качнулась, будто рассыпалась. Так бывает, когда отделяется от табуна косяк строптивых меринов. «Апырмай, что же это может быть?» - подумал Шермек и, нахлестывая коня, помчался в сторону Кенжебая-бугра.
...Громыхнуло. И земля дрогнула. Хлестко сверкнула молния. Толпа заколыхалась, зароптала, загудела. Гул, нарастая, устремился, взмыл в небо, и от лязга нестерпимо звенело в ушах, казалось, вот-вот лопнут перепонки. Шермек натянул поводья, попридержал коня. Сердце учащенно билось, смутный страх овладевал им. Ему почудилось, будто обрушится сейчас небо, придавит его. Он пытался закричать, но голоса не было... Конь под ним насторожился, потом испуганно шарахнулся в сторону, понес, и всадник, неуклюже раскинув руки, ослабив шенкеля, плюхнулся оземь вместе с седлом и потником...
- Хватай его!.. Держи!..
Вздрогнув от противного вопля, он поднял голову. Черная мгла накрыла весь мир... Шермек задыхался, сердце подскочило к горлу, все тело била дрожь. Чьи-то железные когти намертво вцепились в правую руку, чуть ниже локтя. Не вырвешься, хоть руку руби...
Вокруг бушевали, клокотали гнев, ярость, ненависть, злоба...
- О, боже!.. Люди... пожалейте, пощадите!..
- Не жди пощады!.. Месть, месть!..- гремели злые, торжествующие голоса.
Откуда-то - то ли издалека, то ли из-под ног осатаневшей толпы - донесся слабый стон. Он пронзил Шермека, больно полоснул по сердцу. Он узнал голос отца и тут же увидел его самого. На земле, у людских ног, лежал Сейпен, бугрясь животом, точно холмик на свежей могиле.
- Шермекжан, не человек я уже больше! Видишь: живот мне распороли...
Собрав последние силы, Шермек бросился было к отцу, но в тот же миг перед его глазами хищно блеснула сабля. Шермек, ужаснувшись, резко отпрянул назад, ударился затылком о что-то твердое и взвыл от боли.
...Очнулся он от собственного крика. Подушка была смята, он ударился головой о железную спинку кровати, и теперь голова гудела и покалывало в висках.
Стоял сумрак. Едва можно было различить окна. Шермек лежал на кровати в своей комнате. Он был весь в поту и чувствовал себя разбитым. Хотел было повернуться на другой бок, но кровать под ним закачалась, отчаянно заскрипела, а едва успокоившееся сердце опять забилось мелкой дрожью.
Он полежал еще некоторое время, погруженный в дрему, почти не ощущая себя, ни о чем не думая. Потом все же окончательно проснулся и начал вспоминать свой сон. Вереницей проплывали перед ним события последних дней. И чем больше он вспоминал и раздумывал, тем явственнее чувствовал: тиски
неумолимо сужаются, и черные тучи опускаются над его головой все ниже. Никогда не предполагал Шермек, что очутится в таких переделках, окажется вдруг на распутье, когда впору хоть головой биться об стенку. Был он всегда везучий, удачливый и считал - и не без основания, - что он самый счастливый человек на свете...
Еще несколько дней назад эта уютная комната с двумя окнами и кроватью казалась Шермеку земным раем. Развалившись в постели и мысленно обозревая свою прошлую жизнь, он пришел тогда к выводу, что в прожитых годах - правда, еще недолгих - не было ни одного дня, который вспоминался бы им с досадой или с сожалением. Едва выйдя из утробы матери, он попал в мир, где не было ни забот, ни горя, в тот самый радужный мир, о котором говорится, что со всех четырех сторон его подпирает удача. Он был отпрыском состоятельного рода, сыном бая, известного коннозаводчика. Он учился в русских школах, носил узкую изящную одежду с блестящими пуговицами. А потом все повернулось. Но и тогда счастье не покинуло Шермека, наоборот, стало везти еще больше: он стал ярым и видным националистом. Его всюду привечали, никто не осмеливался ему возражать... Позже, когда укрепилась Советская власть, в аулах прошел слух, что, дескать, все, Шермеку каюк, больше ему не высунуться. Но просчитались доморощенные пророки. Сплетня заглохла, а он перебрался на советскую работу, обзавелся дружками, с их помощью пролез в партию... И до сих пор все у него шло тихо-мирно. Был он ловким, вертким и изменчивым, как ветер. То справа заходил, то слева. Иные из приятелей даже завидовали ему. «Ай да Шермек! - говаривали. - Никакой шайтан его не возьмет».
А сегодня Шермек был похож на бахсы-шамана, которого покинули вдруг его верные духи. Будто кто-
то подсек его, подшиб, разом лишил его всесокрушающей уверенности, отнял возносившее его к облакам счастье. Вчера его комната, такая приглядная, разукрашенная, казалась укромным райским уголком, а сегодня она зияла, словно зев дракона, готовящегося проглотить его живьем. Даже черноглазая гибкая красавица, его радость, мед и заря его ночных услад, потускнела, точно кукла, и стала неживой и бездушной. А всегда спокойное, неомрачимое ничем сердце билось судорожно и болезненно. И к горлу подкатывался душный ком.
«Апырмай, что делать? Как спасти отца?» - вновь и вновь спрашивал себя Шермек. Так лежал он, покусывая губы, не в силах ни сосредоточиться, ни собраться с мыслями, не зная, что делать. А надо было что-то предпринимать. Надвигались лихие времена. Приходилось рукой махнуть на законы, честь, совесть и вытаскивать родных из беды. Не то - погибель...
Только теперь, когда он принял это решение, сумятица в голове улеглась. Он соскочил с кровати, включил настольную лампу. Мысль о необходимости срочно действовать подхлестывала его, наполняла все существо неведомой яростью. Глаза его гневно щурились, скулы обострились, уголки рта нервно подрагивали. Потом гнев сменился обидой, он надулся. Слова и мысли бурлили в нем, как вода в половодье. Он сел за письменный стол и взял ручку. «Отец!» - вывел он в верхнем углу листа, подчеркнул обращение, а потом уж застрочил, почти не отнимая пера от бумаги...
...В полдень с холма Тасыбай спускались трое верховых. В низине, на самом берегу реки, расположился аул. Юрты стояли ровным рядом; над ними косо струился сизый дымок. Аул был зажиточный: в глазах мельтешило от множества людей и скотины.
Да, на тучных выпасах скота было видимоневидимо! С косогора к водопою тянулось стадо коров; здесь и там ходили отары овец; от реки к верховью лавиной, точно боевая конница, мчался табун лошадей; пыль клубилась из-под копыт и тучей вздымалась над косяками; жеребята и стригунки взбрыкивали и играли, словно расшалившиеся дети. Двое табунщиков, волоча сбоку березовые куруки1, скакали рядом, строго покрикивали на строптивых неуков, непослушных кобылиц-трехлеток, не давали разбредаться, отколоться от табуна молодым меринам...
- Что ни говори, а краса степи - скот! Вот на аул Алимбая, когда он еще был в силе и славе, любо было смотреть. А теперь? Скота лишился - и вида никакого... Убожество и нищета...
И один из верховых, спускавшихся с холма - был он чернолицый, с подстриженной бородкой, - грустно покачал головой и вздохнул.
Звали его Кожан, и такого ловкача, проныру и краснобая, с молодых лет отиравшегося возле баев, еще поискать надо было. А в середине на темно-рыжем иноходце ехал сам бай, Сейпен, - рябой, рыжеватый, тугобрюхий старик. Это его юрты сверкали и лоснились под солнцем. Это его несметные табуны и стада паслись на безбрежных пастбищах.
Сейпен молчал, привычно оглаживая иноходца плетью. Раньше он вроде не замечал своего огромного богатства, просто как бы не обращал на него внимания. А сегодня же не смог оторвать глаз от всего этого байского благолепия, и чем больше он смотрел, тем тяжелее становилось у него на сердце. Неведомая, непонятная тревога охватывала его, подтачивала, грызла душу. Он тяжело вздохнул.
- Эх, Кожан, Кожан... Смутная пришла пора.
Он покачнулся в седле, и иноходец под тяжестью этой огромной туши зашатался и сбился с ходу. Сейпен недовольно подергал поводья и вытянул коня плетью.
- Верно говорите: дурные времена настали, -подхватил слова бая Кожан. - Испортился народ. Каждый норовит напакостить. Ни уважения к старшим, ни почтения к предкам. Да и чего доброго можно ожидать, если сын Даукары, недавний батрак ваш, теперь сам в начальниках ходит, людьми правит?! Чуть что - хайло разевает, мерзавец. Вот ваш Шермек тоже ведь партийный. А когда в аул приезжает, так никого не задевает, ни к чему не придирается, а шутит, смеется, как равный...
Сказал и пригорюнился, вспомнил, наверно, как неспокойно стало в аулах, как шумят объединившиеся голодранцы, как в глаза, не смущаясь, называют его байским прихвостнем, паразитом. И особенно точит на него зубы сын Даукары - Султан. Житья не дает. До сих пор, однако, Кожан продержался. Рябой старик ему надежная опора. Он и впредь, пожалуй, не оставит приятеля в беде. В прошлом году Султан со своей шантрапой попытался было его, Кожана, посадить за взяточничество, но стоило рябому старику один раз съездить в город, как дело тут же заглохло. Кожан с благодарностью посмотрел сейчас на своего благодетеля Сейпена и про себя подумал: живи еще много лет, старик. Сейпен, нахлобучив на лоб войлочную шапку, молчал. Его тяжелая челюсть отвалилась. Он думал.
Они ехали по склонам бугра, и мимо них пронесся табун. Длинной цепью протянулся он по степи. Сейпен подозвал к себе табунщика.
- Дорогой, будь внимателен, - сказал он. - А то, говорят, тут волки и воры появились. Смотри ночью в оба. Уж днем отоспишься.
- Да как же это не спать ночью? - возмутился молодой суровый табунщик. - Этак и сдохнуть недолго.
Он ударил лошадь по бокам пятками и промчался мимо.
- Ты глянь-ка на этого пса паршивого! - возмутился Кожан, глядя ему вслед.
- Что поделаешь? - покорно заметил Сейпен и пустил коня в сторону аула. - На все божья воля...
Когда бай вошел к себе в юрту, старшая жена, Жамал-байбише, сливала кобылье молоко вечерней дойки в огромный лоснящийся бурдюк, а их работник Туткыш готовился мешалкой взбалтывать кумыс свежей закваски.
- От Шермекжана письмо, - сообщила байбише и полезла в карман. - «Пустомеля» из города привез. Велел только тебе передать... На, читай...
Едва прочитав первые же строки, Сейпен насупился и побледнел. А дойдя до середины, выронил письмо, -у него задергались щеки, и он заплакал.
...В огромной многостворчатой юрте было сумрачно. От порога до почетного места громоздились тюки, сундуки в узорах, скатанные дорогие ковры и разные драгоценности. А в середине на ворсистом волосатом ковре, постеленном поверх кошмы, сидел, вытянув ноги, упираясь обеими руками, растерянный, убитый новостью сына бай Сейпен. Голова его упала на грудь, по бороде текли слезы. В этот миг он ничего не понимал, не соображал, где он и что с ним. Он только чувствовал, как вспыхнувший вдруг в нем жуткий огонь пожирает его...
- О, боже!.. Что с тобой?! - ужаснулась Жамал-байбише.
- Не спрашивай, жена! Конец нам... - выдавил сквозь рыдания Сейпен.III
К. обеду новость облетела весь аул. Ее рассказывали друг другу, передавали из уст в уста, и она обретала все более и более причудливые очертания.
- Говорят, теперь в аулы нагрянут отряды...
- Говорят, весь скот отбирать будут...
- И еще, говорят, дочерей налогом обложат...
- Турсун рассказывает: зашел к баю, а байбише его сидит заре-е-еванная. «Пейте, говорит, кумыс, сколько влезет. Все равно, говорят, врагу достанется...»
- Брось... Чтоб вдруг Жамал-байбише расщедрилась - ни за что не поверю.
- Жамал и подыхать будет в обнимку с бурдюком...
Подобные слухи-кривотолки ползли, разрастаясь, над каждым домом. Расторопные бабы у колодцев, старики и старухи у очагов толковали их на разные лады. Но все толкования были поверхностны, никто не мог проникнуть глубоко в суть нежданной вести, а иные суждения и вовсе находились далеко в стороне от круга предстоящих событий.
Во всем ауле был один человек, совершенно безразличный к слухам и праздной колготне, - Куандык. Он обычно сидел, скрестив ноги, на полуистлевшем потнике у входа в юрту и с утра до вечера тюкал и тюкал топориком, что-то мастерил, что-то вырубал из дерева, и заскорузлая куцая шуба при этом привычно топорщилась на нем. Сегодня и он был явно взбудоражен. Сунув топор за белдеу - волосяной аркан, опоясывающий юрту, - он обвязался поверх шубы обрывком бечевы, словно собрался куда-то по срочным делам. Никуда, однако, он не пошел, а только топтался вокруг потника, озирался по сторонам, подзывал к себе случайных прохожих и нетерпеливо спрашивал: «Что нового?»
Накинув на локоть клок растеребленной шерсти, крутя на ходу прялку-юлу, вышла из дома соседка Батима, Куандык обрадовался.
- Эй, Батима! Будь ты неладна, подойди-ка сюда!
Жена Куандыка выскребала казан. Услышав голос мужа, высунулась на миг из двери, вся растрепанная, чумазая, полоснула его сердитым взглядом и с пущим рвением принялась скрести.
Батиме было лет под сорок, но бабой она оставалась манерной, игривой. И сейчас, точно молодайка, она кокетливо повернулась, вскинула брови и игриво воскликнула:
- С чего бы я вдруг тебе понадобилась, а?
И Куандык захитрил. Он спросил смиренно и почтительно:
- Да что ты, красавица? Когда это бывало, чтоб я в тебе не нуждался?
- Э, оставь... Тебе бы только языком трепать.
- Слушай, ты ведь к баю ходила? Что байбише говорит?
- Ревет байбише. Глаза от слез опухли... Зашла, значит, я, а она не съежилась, как прежде, не сжалась, а раза два взболтнула бурдюк и нацедила для меня полную чашу кумыса.
- Да не о кумысе речь! Ты лучше скажи, что она говорит...
Куандык еще ближе придвинулся к соседке.
- Ничего не говорит. Молчит... Ну, а мне расспрашивать неудобно. Выпила я кумыс, а она опять за бурдюк хватается. Дай, говорит, еще налью. А я, как назло, утром топила масло, наелась соленого вытопа и надулась сдуру шалапу1... Замутило меня от поганого пойла. У земляной печки увидела Несибель, жену табунщика. «Что это,- спрашиваю,- байбише плачет?» - «А,- говорит,- беда, должно быть, какая. Со
вчерашнего дня как с ума посходили. Ночью из соседних аулов аксакалов пригласили и до утра о чем-то советовались. Что говорили - не слышала». Правда ли, брехня ли - кто знает? Только, по-моему, что-то стряслось.
- Значит, аксакалов пригласили, говорит?
— Да.
- Ну?.. Потом что?
- Ну и все...
- Тьфу, провались! Раз уж начала говорить, надо было все вызнать.
- А зачем? Меня сплетни не волнуют. Это вам, мужикам, в каждую дырку нос совать охота.
Ничего путного так и не добился Куандык от Батимы, только еще больше распалила она его любопытство. Он постоял, покачался и решительно махнул рукой:
- Ладно. От тебя, вижу, толку нет. Пойду-ка к Арыстану.
Спотыкаясь о каждую кочку, тыкаясь березовым посохом, заспешил он к Арыстану. В дом его битком набились аулчане. Все выставились на хозяина, а он аж млел от собственного красноречия.
- А дело, если хотите знать, вот в чем - услышал Куандык, едва переступив порог.- У всех баев поголовно соберут скот, а самих вышлют куда подальше.
- Апырмай, какой ужас!
Гладколицый смуглый малый даже подскочил от удивления.
- Вот оно что! Неспроста, значит, Жамал-байбише так убивается, лицо себе царапает...
- Эй, эй, скажите, за какие грехи у баев скот отнимать будут, а?!
Еще один, рыхлый, раздутый, как жаба, глаза выпучил.
- Спрашиваешь! За то, что обжуливали нас, за то, что нашим горбом скот себе добывали.
- Хе, сказанул! - возмутился пучеглазый. - Кто из вас зазря на Сейпена горб гнул? И кого из нас Сейпен силком заставлял на себя работать, а?
- Оставьте это! - Куандык протолкнулся к Арыстану, плюхнулся рядом с ним. - Ты ответь мне: что со скотом делать будут, который отберут у баев?
- Думаешь, тебе отдадут? - усмехнулся кто-то. - Казне все достанется.
- А вот и не так, - важно заметил Арыстан. - Байский скот передадут в артель и разделят между бедняками.
- Ай, вряд ли? Сомневаюсь!
- Конечно, откуда бы дармовому добру на дороге валяться?
- Не особенно рты разевайте, - вдруг сказал горбоносый Шаупкел. - Сейпен ведь тоже себе на уме. Ночью он собрал аксакалов и договорился раздать весь скот им на хранение. Косяк вороного жеребца уже сегодня отогнали в табун Танатара. Об этом мне сам табунщик сказал. А аулнай бумагу подсунул, дескать, часть скота принадлежит сыну, которого бай, мол, отделил недавно. Шермек в городе тоже небось не дремлет. Недаром отцу письмо прислал с советами.
И, сообщив это, Шаупкел важно поглядел на Арыстана. Весть его выслушали, затаив дыхание.
- Да, так оно и есть скорей всего, - удрученно закивали одни.
- Конечно, во всей округе не сыщешь начальника, с которым бы не снюхался Шермек, - поддержали их другие.
- В городе, стало быть, у Шермека есть рука, а в аулах сам Сейпен - голова. Подарит он аксакалам по коню, а те и рады пиргеур1 подписать. Дескать, Сейпен хороший, не обижайте его.
- То-то и оно! А городских обвести вокруг пальца -раз плюнуть. Сунь им под нос бумажку с печатью, они только затылки поскребут и айда назад.
Куандык вдруг рассвирепел:
- А кто пиргеур даст? Я, что ли?! На, выкуси!
Арыстан тоже вспылил.
- Ну и пустобаи же вы все! Чуть что услышат -разнесут, раздуют, черную тоску наводят. Это же вздор! Как может бай свой скот упрятать? Как аулнай свою печать поставит? А мы что, глупые, слепые, немые? Мы что, молчать будем, если бай скот угонит, фальшивую бумагу раздобудет? Не сможем доложить, куда надо? Разве не опозорится он вконец, если мы его разоблачим и сообща докажем, что бай - вор и жулик?!
- Ойбай-ай, для этого ведь нужно, чтобы все бедняки были заодно!
- А что мешает объединиться? На прошлых выборах не мы разве провалили Сейпена вместе со всеми байскими прихвостнями? А нынче, когда делили землю, не мы разве вышвырнули его, отобрав все пастбища? Что это, по-твоему, не единство?!
- Ладно, ладно, объединяйтесь, отбирайте, мое дело - сторона, - сказал Шаупкел и отвернулся.
- Арыстан правильно говорит! - подал голос и Куандык. - Ты, Шаупкел, вечно не в ту сторону прешь, все тебе не так.
- Эй, Куандык, ты-то куда суешься? - Дородный Искак, точно бугор, возвышался в углу. - Нам с тобой на кой черт нужны людские пересуды? Наше дело -телеги чинить да на житье-бытье подработать.
- А почему бы не соваться? Если у Сейпена будут отбирать скот, я в стороне не останусь, пусть хоть провалится телега! Он что, мало пользовался моим трудом? Да я его возьму за шкирку! Пусть только попробует скот прятать!
- Ай, Куеке1, молодец! Когда делили землю, ты немало старался и теперь докажи им, на что способен... - Арыстан весело загоготал.
Куандык, довольный похвалой, встрепенулся, просиял весь.
- Дорогой Арыстан, скажи-ка честно: и в самом деле отберут у бая скот?
Черный верзила, обросший дремучей бородой, двинулся к Арыстану, и все расступились, как бы решив про себя, что без него, конечно же, не обойдется. А верзила помолчал, погладил задумчиво бороду и лишь потом заговорил:
- Ну если за это дело возьмется власть, то Сейпену не сдобровать. Полетит бай вверх тормашками. Вряд ли еще кто столько гнул спину на него, как я... Чего только не перетерпел?! С детских лет у него в услужении. И побоев сносил немало. Сказать по правде, и до сегодняшнего дня я еще не избавился от него, по-прежнему задарма на него жилы рву. Разве о всех мытарствах расскажешь? Ну, вот в двадцатом году надумал я зажить самостоятельно. Ушел, значит, от Сейпена. Он, конечно, вызверился, лютовал. А в двадцать первом - голод, какого свет не видывал. С голодом, известно, шутки плохи. Поплелся, значит, к Сейпену, в ноги ему бухнулся. Помоги, дескать, подсоби харчами, жив буду - в долгу не останусь, сполна отработаю. А он, собачья душа, развалился на одеялах, на подстилках, сложенных вчетверо, руки-ноги даже не подбирает, вроде бы не видит и не слышит меня... Говорят, сын его, Шермек, теперь коммунист, в чинах ходит. Если власть принадлежит нынче беднякам, то никак в толк не возьму, какое отношение к этой власти имеет Шермек. Убей меня - не поверю, что Шермек за бедный люд заступается, душой за нас болеет.
Ничего тогда я у Сейпена не выклянчил. А Шермек книжку читал, прислонившись к печке. Ну, думаю, попробую разжалобить сынка байского. И что вы думаете? Тонко усмехнулся Шермек, процедил сквозь зубы: «Умрешь, разом от долгов избавишься! А безгрешным на том свете поблажка...»
- У волчонка и повадки матерого волка.
- Удивляюсь, как этот Шермек стал коммунистом?!
- Пролез, значит, втихаря. Бедняком, должно быть, прикинулся. Ничего, и до него доберутся. У трудового народа сейчас сознание растет, глаза открываются все шире. Он уже может отличить врага от друга. Канпеске1 эта вовремя началась. Многим личину сорвут, многих бедняцкий суд перетряхнет.
Арыстан повеселел. У Куандыка возбужденно блестели глаза, щеки покраснели, он весь был во власти волнения, благородного душевного подъема.
- Вот, вот! Так им и нужно! Хоть отомстите за нас всем этим баям! На кого же нам еще надеяться, как не на вас, бедняцких коммунистов?!
- Чтобы отомстить баям и изгнать их из нашей среды, нам, беднякам, нужно крепко объединиться. Вы на это согласны? - спросил Арыстан.
- Согласны!
- Если мы будем едины, будем верными помощниками партии и власти, мы с любым делом запросто справимся. Запомните это!IV
Вскоре приехал уполномоченный из района. От него многие в ауле впервые услышали грозное слово -«канпеске». Теперь оно было у всех на устах. Для большинства аулчан оно звучало приятно, как нечто
родное, близкое. Даже босоногая малышня с радостью шлепало губами: «Канпеске, канпеске». И смысл его стал всем понятен. За несколько часов новое слово заняло прочное место в повседневно-обиходной речи аулчан. За уполномоченным всюду шли толпой. Те, что оставались дома, мгновенно узнавали все новости через посредников.
- О-хо-хо... Дурные настали времена,- вздыхал древний, весь сгорбившийся под тяжестью лет старик, прислоняясь спиной к стене.- Чего только не приходится слышать?..
Рыжий шелудивый кобель присел на задние лапы у обочины дороги, вскинул морду, завыл удрученно, тоскливо. Старик-горбун сердито прицыкнул на пса:
- Ты тут еще! А ну заткнись. Не накликай беду!..
Кто-то едко рассмеялся:
- А если накличет, пусть она обрушится на голову Сейпена.
И в самом деле, вслед за воем рыжего кобеля всплыл над аулом горький, пронзительный плач. Люди вздрогнули, прислушались.
- Оу, что такое?
- Кто это?
- Кажется, это голосит байская байбише, - заметил, улыбаясь, Куандык. - Долго теперь ей, бедняге, выть...
Все переглянулись. У некоторых на лице застыло явное недоумение: «Так как же - радоваться этому или горевать?»
...Чинным рядком выстроились три белые нарядные юрты. Чуть поодаль стоит еще одна - приземистая, продырявленная, прокопченная. За ней сидит лицом к западу - в сторону священной обители пророка -брюхастый, точно кадушка, Сейпен. Голова его понуро опущена на грудь... Глаза и лицо опухли. На жидкой бороденке блестит одинокая слезинка. К бедной юртчонке спиной привалилась непомерно раз-
давшаяся, словно надутый до отказа турсук1, байбише. Рыхлое лицо ее исполосовано, исцарапано. Вся она почернела от злобы и горя. Глаза налились кровью. Кажется, она и видит все вокруг лишь смутно, как в тумане. Видно, вспоминала байбише покинувшее вдруг ее благополучие, улетевшее счастье, обрушившееся, точно черный камень с неба, горе, которое оглушило ее, как рыбу в паводок. Вздыхает байбише, да так тяжко, так горько, будто грудь ее при этом разрывается.
- Старик, от Шермекжана нет вестей, что ли? Он ведь столько учился, давно уже в люди выбился, неужели не может помочь нам в беде?
- Что ты, старуха!.. Какая там помощь, когда его самого сейчас преследуют. «Байский сынок», - говорят. Письмо, которое он написал мне в последний раз, и то попало в руки этим негодяям. Они его в суд передали... Что теперь о нас горевать? Молись за сына, старая. Другой опоры у нас не осталось...
От обиды и злости затрясся Сейпен, заплакал.
