Они среди нас — Н. Егоров

| Аты: | Они среди нас |
| Автор: | Н. Егоров |
| Жанр: | Тарих |
| Баспагер: | |
| Жылы: | 1977 |
| ISBN: | |
| Кітап тілі: | Орыс |
| Жүктеп алу: |
Страница - 13
ПОКЛОНИСЬ МУЖЕСТВУ
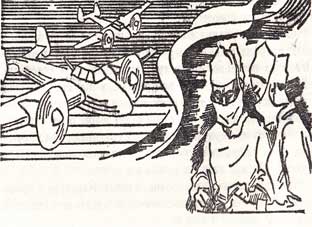
«Мы по праву гордимся тем, что в годы Великой Отечественной войны самоотверженный труд многих тысяч военных медиков возвратил в строй 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров.» (Генерал-полковник медицинской службы Д. Д. Кувшинский — начальник Центрального Военно-медицинского управления Министерства обороны СССР).
Обычно «сухие» цифры статистики мы вспоминаем как-то по-деловому, канцелярски-расчетливо, «холодным умом» что ли. Они не задевают, не тревожат нашего сердца. Но эта статистика не может не волновать. Ведь за этими цифрами стоят сотни тысяч советских воинов, которым спасена жизнь, возвращено здоровье. За этими цифрами — огромный, поистине титанический труд советских военных медиков, которые всегда отличались беззаветной преданностью Родине. История знает немало подвигов, совершенных ими на полях сражений. Не думая о собственной безопасности, зачастую в непосредственной близости от переднего края или в гуще боя врачи, фельдшера, медицинские сестры, санитары и санинструкторы отдавали все силы, а если требовалось — и жизнь для спасения воинов. Родина высоко оценила их героический труд в годину величайших испытаний: 44 военных медика удостоились высшей награды — звания Героя Советского Союза, а более 115 тысяч награждено орденами и медалями.
Славным делам военных медиков отдает дань признательности и советская литература. Поэт-фронтовик Иосиф Уткин посвятил им вот эти выстраданные сердцем строки:
Когда, упав на поле боя —
И не в стихах, а наяву,—
Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву,
Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра,—
Боль сразу стала не такою:
Не так сильна, не так остра.
Меня как будто оросили
Живой и мертвою водой.
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой головой!.. («Сестра», 1943 год.)
Не может без волнения слышать эти стихи заслуженный врач Казахской ССР Мархаба Файзрахмановна Тукубаева — хирург-травматолог четвертой Алма-Атинской городской больницы, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии медицинского института. Стихи эти имеют к ней самое непосредственное отношение...
В то летнее утро 1960 года Мархаба Файзрахмановна как обычно пришла на работу.
— А у нас новенькая,— встретил ее профессор Эдельштейн.— В четвертой палате.
Тукубаева удивленно взглянула на него. «Почему Григорий Львович обратил особое внимание на такое в общем-то заурядное событие? На то и больница, чтоб в нее поступали больные». И она приступила к обычному утреннему обходу. Вот и четвертая палата.
...Она стояла у окна — худенькая незнакомка в пестром халатике. В первый момент Мархабу Файзрахмановну поразило не то, что девушка была... без рук. Точнее, левой не было совсем, а у правой не хватало кисти и более половины предплечья. Это она увидела, можно сказать, в следующую секунду. А поначалу ее поразило выражение больших черных глаз. В них не было ни мольбы о помощи, ни отчаянья,— того, что обычно «написано» на лице тяжелобольного. Девушка смотрела спокойно, даже, пожалуй, равнодушно. Лишь где-то в глубине, на самом донышке глаз затаилась тихая грусть и непомерная усталость от долгого, непрерывного, постоянного, но так и не ставшего привычным страдания. Видимо, к страданию привыкнуть невозможно.
Несчастье, как это нередко и бывает, обрушилось внезапно. Солнечным утром радостная Марфуга ехала на поезде в пионерский лагерь. И не доехала. В дорожной катастрофе десятилетняя девчушка лишилась рук. Все старания, врачей спасти хотя бы правую кисть были тщетны...
Мархаба Файзрахмановна слушала рассказ девушки и все больше поражалась твердости ее характера, необычайной силе воли. Невольно приходила на память история с безногим летчиком Мересьевым, сумевшим вернуться в строй; зримые, осязаемые формы принимало и изречение Максима Горького: «В жизни всегда есть место подвигам».
Девочка не бросила школу, успешно закончила десятилетку, выдержала приемные экзамены в Казахский государственный университет и уже перешла на второй курс исторического факультета.
— Самое большое мое желание,— чуть слышно сказала под конец Марфуга,— это самой, понимаете,— самой!— написать, как в первом классе пишут, «ма-ма». Только одно слово!.. Хотя бы одно...
Каким же нужно обладать мужеством, чтобы остаться Человеком (это не описка, именно Человеком с большой буквы) в таком поистине нечеловеческом положений, когда ты не в состоянии черкнуть хотя бы пару строк родным, даже не можешь перелистнуть страницу и не знаешь, сможешь ли хоть когда-нибудь осуществить без посторонней помощи эти простейшие операции!
Тяжкие сомнения обуревали Тукубаеву. Операция Крукенберга... Только таким путем можно хоть как-то помочь девушке. Специалисты знают, насколько сложна «технически» и ответственна морально такая операция. Внешне она состоит в том, чтобы из остатка предплечья «сделать» два больших подвижных «пальца», способных до некоторой степени заменить утраченные. В случае неудачи повторить подобную операцию вряд ли удастся...
Операции Крукенберга в Казахстане вообще довольно большая редкость. И Мархабе Файзрахмановне не приходилось еще самостоятельно делать их. Правда, учась в клинической ординатуре при Московском центральном институте травматологии и ортопедии ей приходилось ассистировать при подобного рода операциях. И поэтому она четко представляла трудности, которые ее ожидают.
«Понимаешь ли ты всю серьезность положения, Мархаба? Что, если операция не удастся? Как в той пословице, где говорится о пресловутом первом блине? Ведь рухнут надежды девушки и вместо спасителя ты превратишься в ее морального убийцу? Можешь ли ты взять на себя такую страшную ответственность? Учти, если откажешься от операции, никто тебя не осудит... А как же девушка, как ей жить дальше? Как будешь смотреть ей в глаза? Ведь ты — ее единственная надежда. Решайся, Мархаба!»
Словно подслушав ее мысли, профессор Эдельштейн сказал:
:— Верю в вас, Мархаба Файзрахмановна. Мужества вам не занимать. Все будет хорошо. Если не возражаете, ассистировать буду я.
Что ж, профессор был прав: в малодушии врача Тукубаеву никак нельзя было заподозрить. Порукой тому ее боевая молодость.
...Клянусь Аполлону — врачу, Эскулапу, Гигее и Панацее, всем богам и богиням, взывая их свидетелями, что присягу вту и последующие обязательства сохраню строго по мере моих сил и способностей...
Что-то ласковое, еле ощутимое коснулось щеки, скользнуло по губам. Мархаба открыла глава. Серая пелена, словно огромная солдатская шинель, сплошь затянула и без того бедное красками северное небо. Белые бабочки-капустницы плавно кружат в неподвижном воздухе, не спеша садятся ей на голову, на запятнанный кровью халат, на черные ветви низкорослой березки, сиротливо примостившейся у глыбы вывороченного снарядом торфа. «Ишь, храбрые какие,— подумала Мархаба про бабочек.— Даже человека не боятся». Одна из бабочек села ей на ладонь—-и тут же... растаяла. «Да это же снежинки!— поразилась девушка.— Неужели они бывают такие крупные?»
Очнулась Мархаба то ли от холода, то ли от голоса. Словно кто-то позвал ее.
— Где я?—медленно зашевелились ее затвердевшие на холоде губы.— Что со мной? И при чем здесь клятва Гиппократа?
Тупая боль в затылке постепенно поутихла, только в ушах завяз непрерывный стрекот сверчков. «Сверчки? Зимой?» Что-то свистнуло над головой, срезало веточку с березки. Это вернуло Мархабу к действительности. «Никакие это не сверчки. Просто трещат крупнокалиберные не* мецкие пулеметы... Выходит, ты была без сознания? Сколько? Минуту? Час?.. Однако, хватит лежать. Тебя ждут раненые».
Мархаба резко повернула голову — и все поплыло перед глазами, в бешеном танце запрыгали снежинки, к горлу подкатила тошнота. Она опять едва не лишилась сознания» «А ведь ты контужена, Мархаба. Полежи спокойно, полежи. Главное — не горячись, не делай резких движений, Тебе холодно в гимнастерке да в халате? Сама виновата, нужно было надеть ватник. К тому же, никто тебя не заставлял идти с бойцами в атаку. Сама пошла, хотя командир полка Ковалев и крикнул тебе: «Куда, военврач? Место ваше на медпункте!» Что ж, Петр Ильич прав, обязанность моя — делать операции. Но сидеть сложа руки, когда другие идут в атаку, я тоже но могу. Мой человеческий долг — быть ближе к бойцам, как можно быстрее оказать помощь раненым прямо на поле боя. Опасно? Можно погибнуть? Да. Но на то и война.
Ох, как холодно! Ну до чего же холодно! Спина совсем заледенела, недолго и обморозиться. Попробуй повернуться на бок... Легче, легче, Мархаба, а то опять голова закружится... Вот так, хорошо. Закрой глаза, чтоб прогнать тошноту. И попробуй отвлечься. Говорят, от приятных мыслей человеку становится теплее, повышается жизненный тонус. Ну, например, представь себе что-нибудь теплое. Теплое? А что может быть теплее родного дома, теплее маминых рук!
Милая, золотая пора—детство! Помнишь, как увлеченно «лечила» ты ссадины и ушибы у своих сверстников? Подружки твои мечтали стать кто продавцом мороженого, кто портнихой, а ты всегда, сколько помнишь себя, говорила, что будешь врачом. И не изменила своей мечте. В 1932 году двенадцатилетней девчушкой поступила в Талды-Курганский медицинский рабфак. Невероятно!— скажет кто-нибудь. Если бы речь шла о ком-нибудь другом, а не обо мне самой, я бы тоже не поверила. И все же это правда. Но сколько настойчивости и слез это стоило! «Тебе, Мархаба, целых четырех лет не хватает,— говорили члены приемной комиссии.— Мала ты еще». «Ну и что?— «логично» возражала ты.— Я же вырасту!»
Как летит время, Мархаба! Уже почти год идет война и ты, студентка последнего курса Алма-Атинского медицинского института, чуть не каждый день после занятий с подругами бегаешь в госпиталь. Нет, не на плановую «производственную практику». Врачебная практика сама собой. Выкраивая минуты из своего до предела сжатого «лимита свободного времени», ты помогаешь санитаркам в уходе за ранеными, которых поступает все больше и больше. Вот здесь-то ты и услышала такое, чего человек не может забыть за всю свою жизнь.
На помощь нянечкам иногда приходила девчушка из детдома. Была она замкнутая, неразговорчивая, с алебастровым, белее стен госпиталя, лицом и серьезными, совсем не детскими глазами. В тот день глаза эти были полны слез. «Что с тобой, Леночка?»—невольно остановилась ты. Худенькое тельце девочки затряслось от рыданий. «Н-не... берут...». «Куда не берут? Кто?» «На... на фронт...» «Успокойся, Леночка, успокойся, милая,»— гладишь ты льняные волосы девочки. Тебе еще не приходилось разговаривать с ней. Знала только, что эта девчушка лет пятнадцати была из блокадного Ленинграда. «Мне нужно, очень нужно на фронт... а не берут...». «Зачем тебе на фронт, глупенькая. Там и без тебя обойдутся». «Нет, не обойдутся! Мне самой... самой надо бить фашистов! Они... они...» Девочка задохнулась от гнева. Слезы моментально высохли. В глазах вспыхнула такая не детская ненависть, что ты, Мархаба, поняла, как много нужно пережить, чтобы в пятнадцать лет стать взрослым человеком. Позднее ты услышала рассказ девочки о ее горе: «В тот день пошли мы гулять в парк Лесотехнической академии. Папа нес грудную Оксанку, а я шла с мамой. В том парке есть пруд и малюсенький островок. На него мостик переброшен. Мы любили здесь отдыхать. Тихо там, безлюдно, в воде, как в зеркале, деревья отражаются... Листочки о чем-то шепчутся... Тут видим, на проспекте что-то необычное творится. Люди группами собираются, кричат что-то. Встревожились и мы. Папа побежал на проспект, быстро вернулся: война! Уже на другой день ушел он добровольцем на фронт — и больше мы его не видели. А в августе пришла похоронка, погиб под городом Лугой смертью храбрых...»
Лена опять не сдержала слез. Чуть успокоившись, с трудом продолжала: «Потом началась блокада. Папа, когда еще был жив, писал с фронта, чтоб мы эвакуировались, если немец к городу подойдет. А мы остались. Мама говорила, что фашистов скоро разобьют, папа вернется, а нас нет. Откуда ей было знать, что не так все будет?.. А однажды глубокой осенью уже мы с Оксаной как всегда с работы маму ждали. Что-то долго ее не было. Еще вечером должна была прийти, а уже ночь опустилась — мамы все нет и нет. Оксанка ревет, есть хочет. Грудная ведь все еще была... Утром уже стук в дверь. Мама! — бросилась я к двери. А на пороге — соседка. Смотрит на нас так горько, что поняла я: не увидим мы больше маму. Потом уже узнала: во время обстрела снаряд попал в переполненный вагон трамвая, а мама была вагоновожатой... Два дня я с Оксанкой дома сидела, а потом пошла на Кировский завод снаряды делать. Вскоре и холода пришли, морозы ударили. Дома холодина, топить нечем. Хорошо хоть за сестренкой Валентина Федоровна присматривала, соску ей из хлебного мякиша делала. Бодрая такая старушка была, все приговаривала: «Пусть будет еще холоднее, чтоб позамерзали все фашистские гады, а мы выносливые, мы все вытерпим ради победы нашей». И правда, очень выносливая была старушка. Уже все ее подруги-бабушки поумирали от холода да голода, а она все с Оксанкой нянчилась. Однако, в конце января и ее не стало. Пошла на Неву за водой — и не дошла... Поработала я еще несколько дней, а дальше уже сил не стало на завод ходить. Ноги распухли, в валенки не лезут. И Оксанку не с кем оставлять. А в голове одна мысль, мучит как зубная боль: где добыть хоть что-нибудь для Оксанки, хлебный мякиш мало помогает, ослабла она совсем, глотать не может. Молочка ей хоть бы ложечку, хоть бы капельку. Она уже не плачет, не кричит, только пищит чуть слышно: ма-ма... ма-ма...» Мархаба почувствовала, как защипало глаза. Она молча прижала к груди голову девочки. «Не помню как выскочила на улицу, только бы не слышать Оксанкин писк. Не знаю, как сумела натянуть валенки на свои ноги-бревна, как добралась до Финляндского вокзала. Там ларек был, где уезжающие из Ленинграда хлебные карточки за десять дней вперед отоваривали. Вот, думаю, получу паек, где-нибудь обменяю его хоть на полстакана сухого молока, разведу тепленькой водичкой, напою Оксанку,— а там будь что будет... Ну, отстояла очередь, подала карточки, а продавщица не отпускает. Знаем, говорит, мы таких. Хлеб за десять дней вперед съедите, а потом мрете с голоду как мухи... Расплакалась я, реву навзрыд. Ну, что мне делать? Тут подходит ко мне военный, капитан. Тетка, говорит, может чем помочь надо? А женщины ему из очереди: какая она тетка, пацанка совсем. А я вправду на старуху похожа была. Голова старой шалью закутана, только и видно что нос, да и тот весь в саже от коптилки. Поглядел капитан на мои распухшие ноги и говорит: «Пропадешь ты здесь, дочка. Приходи завтра сюда же, пораньше. Я тебя через Ладогу переправлю». Не могу, отвечаю, не одна я. Забирай всех своих, говорит, всех и переправлю. И сунул мне в руку крохотный кусочек сахару... Летела я домой как на крыльях. Откуда только силы взялись. Даже бегом к себе на второй этаж взбежала. Оксанка, кричу, Оксанка, вот тебе сахарочек! Сую ей в ротик — а у нее уже губки недвижные, закоченелые...» Не выдержала Мархаба. Что-то стиснуло грудь, потемнело в глазах. Слушать по радио, читать в газетах о зверствах фашистов, тяжело. И все же воспринимаешь это как нечто от тебя далекое, задевающее не столько сердце, сколько разум. А тут — вот она живая боль человеческая, рядом с тобой, входит в тебя, в твое сердце как своя собственная. В тебе еще сильнее разгорается желание скорее попасть на фронт и уже не кажется противоестественным стремление вот такой девчушки, как Лена, самой бить фашистов. «Что же было дальше, Леночка?» «Дальше?»... Дальше как в тумане. Кто-то сбил гробик, кто-то достал салазки... Пришла я в себя уже ночью. Оделась потеплее и часа в три вышла из дому, чтобы к утру прийти на Финляндский. Никогда мне не было так тяжело. Каких-то два километра шла часа четыре. Один раз упала и не смогла подняться. Обессилела совсем. А с Финского залива — ледяной ветер. Ладно кто-то споткнулся об меня, помог подняться... А капитан уже на вокзале ждал. Приезжал он в город за пополнением и теперь возвращался в часть с новобранцами. Выдал он мне на дорогу полбуханки хлеба, маслица топленого дал, сахарку да кусочек мыла. Вот ведь человек какой! Немолодой уже, говорит, дядей! Сашей зови. А я, дуреха, до того отупевшая была, что и фамилии не спросила. Я уже потом во все концы писала, старалась найти его. Да разве будет кто искать «дядю Сашу, капитана?» Так и не смогла отблагодарить его...» «Дальше-то, дальше что было?» «Комендант в Войбокало дал мне эвакосправку и отправил на «Большую землю». Только при атом головой покачал: «Что же ты, дочка, так задержалась? Доедешь ли, уж больно плоха...» Из семьи нашей только я и осталась. Теперь окрепла маленько, могу идти на фронт. Ну, как люди не понимают, что должна я, понимаете? — должна!— отомстить фашистам за все, за все! Больше ведь некому...»
— Се...еестра...— явственно донесся до Мархабы чей-то голос. «Ой, что же это я залежалась. Там же раненые ждут.» Медленно, чтобы опять не закружилась голова, повернулась вниз лицом и осторожно, «тараня» головой снег, поползла на голос. Вдалеке, в стороне высоты 43,3 продолжают трещать пулеметы, ухают разрывы гранат. Фю-юить,—жутко посвистывает смерть над головой. Шальные пули часто бьют в землю, то тут, то там взлетают снежные фонтанчики. Изредка рвутся снаряды.
Обогнув воронку, подползла Мархаба к навзничь лежавшему солдату. Из рваной раны чуть выше виска медленно сочилась густая кровь, а с побелевших губ слетало едва слышное:
— Сестра... сестра...
— Что-то знакомое почудилось Мархабе в лице солдата. Приглядевшись, вспомнила: да это же Васильич! Видела его в Вологде, в госпитале, куда в ноябре 1942 года прибыла после завершения курсов усовершенствования медицинского состава в Москве. Лежал он в палате выздоравливающих и хотя был не старше многих соседей по палате, все к нему обращались уважительно «Васильич». Была в нем эдакая солидность, основательность что ли .Его рассказ о «Дороге жизни» слушали не перебивая, затаив дыхание. Довелось его услышать и Мархабе, правда, не с самого начала. «...Да, братцы, узелок немец завязал нам крепкий. Вроде как петлю на горло Ленинграду накинул. Уже восьмого сентября, на семьдесят девятый день войны, капкан захлопнулся. А тут еще продовольственные склады погибли под бомбами. Беда пришла страшная, никакого подвоза продовольствия. Что делать? Одна надежда — на Ладогу. Когда она подмерзнет, то хоть по льду можно будет иметь связь с «Большой землей». Но немец тоже не дурак, понимает что к чему. С севера и с юга жмет на нас, старается захватить западный берег озера. Туго нам пришлось, братцы. Немец прет — несть числа, а *у нас только отдельная погранкомендатура, которой командует майор Иовлев, кое-какие части укрепрайона, моряки Ладожской военной флотилии да наш восьмой пограничный отряд майора Ревуна, в котором я и служил. Сейчас-то силенок там побольше, прочно держим оборону берега... Так вот, нам было приказано особо беречь от постороннего глаза район, по которому должна была пройти ледовоя трасса. Вот ведь, братцы, как в жизни бывает. Все живое на земле к теплу да к свету тянется, а мы тогда мечтали, чтоб побыстрее холода наступили, да ночи стали длиннее и потемнее. Невмоготу было слушать о бедствиях ленинградцев... Однако, дождались, стала-таки Ладога. Пора наступила разведать трассу. Первыми по льду озера через остров Зеленец до деревни Кобона и обратно прошли пограничники. Вслед за ними мы. Вышли ночью. Тьма кромешная. Ветер рвет, с ног сбивает. Небо сплошь затянуто гучами, ориентиров — никаких. Вся надежда на компас.
А ледок-то еще слабенький, наступаешь — и чувствуешь, как он прогибается. Командир торопит, не дает останавливаться. И правильно делает. Чем быстрее перебираешь ногами тем больше шансов не уйти под лед. Особенно жутко было, когда за спиной трещал лед. Надо было бы денек-другой обождать с разведкой-то, но, сами понимаете, тут каждый час был дорог. Ну, ничего, обошлось. К утру добрались до восточного берега. Нас радостно встретили бойцы погранзаставы. Не успели переброситься и парой слов, как налетели «юнкерсы», обрадовались, гады, что ветер тучи разогнал. И так остервенело бомбили Кобону, будто гибель этой рыбацкой деревушки означала для них победный конец войны... На обратном пути в Коккорево, на станции Осиновец мы увидели первую партию истощенных, больных ленинградцев—женщин, стариков, детей...» Васильич крепко зажмурился, закрутил головой и замычал, словно от нестерпимой зубной боли. «Сколько потом не приходилось сталкиваться с горем людским — такой зарубки на сердце ничто не смогло оставить. Не знаю, как и передать словами, не умею красно-то говорить. Ну, в общем, это были скелеты. Живые скелеты с живыми глазами. И что самое непереносимое — так это смотреть в эти глаза. Понимаете, братцы, ни упрека в них, ни страха. Только просьба жгучая: отомсти за нас, солдат, отомсти! На что уж тихий, невозмутимый был украинец Ляшко, бывало слово у него клещами не вытянешь,— а и тот заговорил. Братцы, говорит, не могу я смотреть в глаза эти. Не могу! Жгут они меня. Огнем жгут! Не будет от меня пощады проклятым фашистам. Не будет!.. Пожалуй, лучше не скажешь о нашем тогда состоянии». Мархаба заметила, как сжались кулаки у слушателей, как болью и гневом налились их глаза. Поуспокоившись, Васильич продолжал: «Трасса наша набирала силу, а немец день ото дня становился злее. Оно и понятно почему. Рассчитывал он голодом сломить ленинградцев — а не вышло. Ну и обрушился он на ледовую дорогу. Что только ни делал! По дороге круглые сутки бьет артиллерия, тучи пикировщиков беспрерывно бомбят Кобону, Леднево, Осиновец, Коккорево,— а трасса живет. Движение по ней не прекращается ни днем, ни ночью. За сутки проходило до трех тысяч автомашин. Сейчас, может, и больше, не знаю. В Ленинград — с боеприпасами, горючим, продовольствием, обратно — все больше с эвакуированными. Многие тысячи жизней спасла наша дорога. (По статистическим данным из Ленинграда по «Дороге жизни» было вывезено 419 тысяч человек). Ну, и мы не щадили ни сил, ни жизней своих. Среди солдат нашей роты есть и шоферы, и трактористы, и дорожники. Сменившись с постов, каждый ив нас добровольно, без приказа помогал вытаскивать провалившиеся машины, расчищать от заносов дорогу, шестами отмечать проломы во льду после бомбежки либо артобстрела. Многие мои товарищи погибли там, многих ранило, не уберегся и я. Ходили мы в разведку под Шлиссельбург, там меня и зацепило... Слов нет, «Дорога жизни», можно сказать, спасла Ленинград. Но, и сейчас страшно тяжело ленинградцам. Не может одна эта трасса обеспечить город всем необходимым. Думаю, что поднакопим мы силенок и где-нибудь на суше прорубим коридор к Ленинграду. Как бы мне хотелось участвовать в таком добром деле...»
(На восточном берегу Ладожского озера, у деревни Кобона, где начиналась ледовая трасса, воздвигнут теперь величественный монумент тем, кто не щадя своей жизни прокладывал ее, ездил по ней, защищал ее. На монументе высечены слова: «Дорога жизни», прорвав фашистскую блокаду, соединила сердце Ленинграда с родной Москвой, с Советской Отчизной»).
— Вот и сбылась мечта твоя, солдат,— прошептала Мархаба, забинтовывая ему голову негнущимися, закоченевшими пальцами.— В прорыве блокады есть и твоя доля. Ленинградцы тебя не забудут.
Немного отогрев подмышками кисти рук, она соединила два поясных ремня — свой и раненого, прикрепила их к плащ-палатке Васильича, сунула левую руку в ременную петлю, которая пришлась на локтевой сгиб, закинула за спину автомат солдата — и поползла. Двигалась она рывками каждый раз, когда подтягивала раненого к себе, тот в беспамятстве стонал:
— Сестра... сестра...
— Потерпи, дорогой, потерпи,— успокаивала Васильича Мархаба, как будто он мог ее слышать.— Рана не опасная, будешь жить, будешь...
«Кто бы знал, как тяжело мне с ранеными. Ведь признаться в этой самой себе можно. К тебе как нельзя лучше подходит определение «пигалица». Пигалица и есть. Росточку небольшого, да еще и худющая. Откуда у тебя только силы берутся? Сколько уже раненых вынесла с поля боя? Сбилась со счета? Вернее не считала... Ох, опять голова закружилась... Что, не можешь больше ползти? Неправда! Можешь! Только нужно очень хотеть. Очень! Притом, никто тебя не неволил идти на фронт. При распределении направляли работать в Талды-Курган, а ты что заявила? На фронт! Только на фронт! «Так что терпи... Ну, вытягивай правую руку, одновременно подтягивай левую ногу, подтянись сама... Так. Теперь тяни раненого. P-раз!.. Молодец, Мархаба! Еще разок проделай такую же процедуру... Теперь еще, еще... Ну, вот! Дело и пошло. А чтобы не было так тяжело и не мутило от головокружение, постарайся отвлечься... Как? Ну, вспоминай что-нибудь...»
А вспоминать из последних событий было что.
...На передовые позиции 1216 стрелковый полк 364 стрелковой дивизии, в котором военврач Тукубаева служила с середины ноября 1942 года, со станции Волхов двинулся пешим порядком. Несмотря на леденящий сырой ветер с Балтики, пробиравший, казалось, до самых костей, и свинцовую тяжесть в ногах от долгой ходьбы по разбитому бездорожью, настроение у солдат было бодрое, если не сказать радостное. И было от чего. Год назад хороший удар получили фашисты под Москвой. Правда, летом фашисты поднажали и дошли до Волги и Кавказа, однако опять поднатужился русский солдат и такую «мышеловку» устроил фашистам в Сталинграде, что вряд ли теперь 330-тысячная армия Паулюса унесет оттуда ноги. По всему видать, наступило время поквитаться с немцами и здесь, под Ленинградом. Как известно, солдатский «телеграф» всегда работает бесперебойно. Безошибочно сработал он и на этот раз: в наступление идем, братцы! И признаки по солдатской мерке были более чем убедительные, особенно когда прибыли на передовую. Ни окопов, ни землянок приказано не рыть, тихо, без шума разместиться в тех, что есть, потеснив «хозяев». Даже медпункт расположился к войскам ближе некуда, прямо на льду речки Назии, всего в полуки-лометре от позиций противника.
Перед рассветом Мархаба вышла из палатки. Вызвездило. Тихо, темно, холодно. На позициях немцев беззвучно взлетают белые осветительные ракеты, кое-где так, для порядка, строчат пулеметы.
И вдруг содрогнулась земля, через секунду-другую страшный грохот обрушился с небес. Огненной чертой разрывов обозначился передний край обороны противника.
— Что это, что?— выскочила из палатки испуганная Клава Рябова, начальник аптеки.
— Началось!— ликующе крикнула ей в ухо Мархаба.— Началось, Клавушка!
(Не ошиблась Мархаба. То действительно было началом долгожданного прорыва блокады Ленинграда. Сотни орудий и гвардейских минометов-«катюш» Волховского фронта внезапно обрушили тонны смертоносного металла на зарывшегося в землю врага. С рассветом позиции немцев начала «обрабатывать» и авиация. Одновременно мощный удар по врагу нанесли части Ленинградского фронта, поддержанные авиацией Краснознаменного Балтийского флота. Бесстрашно дрались и народные мстители 3-й Ленинградской партизанской бригады. Один из полков бригады под командованием Константина Васильевича Гвоздева разгромил сильный вражеский гарнизон на станции Подсевы, тем самым надолго задержали переброску гитлеровских резервов в район Синявинских высот.
Днем и ночью войска фронтов шли навстречу друг другу, «прогрызая» сплошную, одетую в бетон и железо оборону противника. Наконец, 18 января 1943 года, на седьмые сутки непрерывных боев враг был смят и солдаты обеих фронтов соединились в районе рабочих поселков № 1 и № 5.
Блокада Ленинграда прорвана! И хотя еще не завершились 900 героических дней его обороны, но самый мучительный, самый трагический этап осады окончился. Пройдет еще год — и Мархаба впервые пройдет по улицам Ленинграда, ставшего во всем мире синонимом мужества. Враги душили его городом, 641 тысяча ленинградцев погибла голодной смертью. Враги обрушили на него 100 тысяч авиабомб и 150 тысяч снарядов. Каждый третий дом был поврежден, каждый пятый — разрушен. Но Ленинград не только выстоял. Он победил и остался единственным среди крупных городов Европы, куда ни разу за всю его историю не ступила нога завоевателя. Город Ленина стоял «неколебимо, как Россия»! Слова Пушкина, полтора века назад адресованные этому городу, оказались пророческими.
«Пройдут века,— сказал М. И. Калинин при вручении Ленинграду ордена Ленина в 1945 году, но дело, которое сделали ленинградцы... никогда не изгладится из памяти самых отдаленных поколений»).
— Началось!—ликовали солдаты, ожидая сигнала к атаке.
...Для Мархабы эти семь суток слились в единую цепь, где смешалось все: кровь, раненые, операции, перевязки. Запомнилось только, что лишь за первый день штурма немецких позиций она вместе с Клавой Рябовой под огнем противника вынесла с поля боя около тридцати раненых.
...Уже сколько дней 1216-й полк штурмует высоту 43,3. Сюда, в район Синявинских высот, 364-я стрелковая дивизия была «брошена» вскоре после прорыва блокады. Фашисты никак не могут смириться с фактом прорыва, всеми силами стремятся ликвидировать «коридор». Необходимо во что бы то ни стало сбить его с господствующих над равниной высот. Но сделать это далеко не просто. За полтора года блокады гитлеровцы сделали свои позиции почти неприступными. По семь-восемь раз в день бросаются бойцы в атаку на высоту 43,3 — и с большими потерями откатываются. Вместе с бойцами ходит в атаку и Мархаба. Только вместо винтовки у нее санитарная сумка, набитая перевязочным материалом.
Все меньше остается в полку бойцов и командиров, но приказ комдива неизменен: «Высоту взять! Любой ценой!»
...Очередная атака захлебнулась в самом начале. Многослойный огонь противника прижал солдат к земле. Лежат они в желто-зеленом месиве из снега и торфа, не в силах поднять головы. Кажется, нет той силы, которая может поднять их. И тогда впереди цепей появился* сам командир 1216-го полка Петр Ильич Ковалев. «За Родину-у! За мной!»—крикнул он и, высоко подняв автомат, бросился вперед, к высоте. Как один вскочили бойцы, мощное «Ур-рааа!» прокатилось по цепям. Еще торопливее застучали немецкие пулеметы, пронзительнее завыли мины, но ничто уже не могло остановить бойцов. Вместе со всеми бежала вперед и Мархаба. Вдруг она увидела, как взмахнул руками Ковалев и медленно осел на землю. Еще успела услышать, как кто-то крикнул: «Командира убило-о!»— и тут же какая-то страшная сила швырнула ее в сугроб. А разъяренные гибелью командира полка бойцы продолжали штурмовать доселе мало кому известную горушку. Не о ней ли сложил стихи казахстанский поэт-фронтовик Сагингали Сеитов:
О тебе не писали в сводках...
Не село, и не город ты.
А всего лишь — в поле высотка,
Где росли трава и цветы.
Не отмечена ты на карте,
И не мог о тебе я знать.
Ни один журналист не тратил
Время, чтоб о тебе писать.
Только ты мне родней и ближе.
Многих сел, что взяты в бою.
Кровь моя и друзей погибших
Пропитала землю твою...
Сестра,— очнулся Васильич.— Сестра... высотка...
как...
— Все в порядке. Помолчи, родной,— продолжала ползти Мархаба.— «Как бы не сбиться с курса»,— подумала она и приподнялась, чтобы оглядеться. В тот же миг резкий удар в грудь опрокинул ее в снег. «Ранена»,— поняла она, нащупав на халате крохотную дырочку. «Брось Васильича, брось»,— где-то в подсознании зашевелилась гаденькая мысль. «Одна ты еще сможешь ползти». «Как это брось?»—возмутилась Мархаба. Ей показалось, что она крикнула во весь голос, но лишь слабый стон слетел с ее непослушных губ. «Нет, ты не бросишь, не бросишь!»— тянет она ремень к себе. И в затухающем сознании промелькнули слова великого грека: «...Если присягу сию сохраню свято и ни в чем ее не преступлю, да будет мне дозволено в счастии и уважении всех людей вести жизнь мою во все времена, и блаженными плодами моего искусства пользоваться обильно; если же присягу сию преступлю и стану вероломным, пусть тогда противной станет мне судьба моя...» И уже не почувствовала Мархаба, как руки легкораненых солдат подхватили ее и Васильича, как бережно понесли в медпункт.
Высота 43,3 была взята.
(За вынос с поля боя более ста раненых во время прорыва блокады Ленинграда военврач Тукубаева была награждена орденом Красной Звезды. В день вручения награды она была принята в партию, стала коммунистом. О ее мужестве и самоотверженности в статье «Патриотка Родины» писала дивизионная газета «За Радину!» в номере от 8 марта 1943 года).
...Операция длилась три часа. Сто восемьдесят минут, в корне изменивших жизнь человека... Впрочем, лучше предоставить слово, вернее, страницу этой книги самой оперированной. Вот строки, адресованные автору этого очерка. Они написаны собственноручно Марфугой Абдра-имовной Орынбаевой. С ее любезного согласия мы приводим их здесь: «В своем письме я хочу рассказать вам, каким образом Мархаба Файзрахмановна стала мне очень близким и родным человеком. Впервые я встретилась с нею в 1960 году, в очень трудную для меня пору. Мне, студентке КазГу, было 18 лет. Дома, в селе, тяжелая обстановка: у матери малыш, отец больной, бабушка слепая, К тому же перед самой операцией произошло страшное несчастье: утонула сестра-девятиклассница. И я замкнулась в себе, не с кем поговорить, излить свою душу. И в такую минуту в больнице мне встретилась Мархаба Файзрахмановна. С первой нашей встречи она поняла мое состояние, старалась возвратить меня к жизни, пробуждала у меня желание жить. Заставить меня поверить в свои силы в то время смогла лишь она.
Операция прошла успешно. В первые дни Мархаба Файзрахмановна была для меня всем: и няней, и сиделкой, и матерью, и старшим другом, и врачом. С тех пор мы с ней родные. Она в курсе всех моих дел: радовалась окончанию мною КазГУ, радовалась моим удачам в работе. Дружбе нашей уже 17 лет. Всегда, когда бываю в Алма-Ате, прихожу к Мархабе Файзрахмановне. И знаю, что здесь мой второй дом, здесь моя вторая мать... Я выполняю рукой многие функции, чего не могла раньше. И если я пишу это письмо, то только благодаря ей, дорогой матери, которой я обязана своим 'вторым рождением...»
Вряд ли есть надобность в комментарии к этому письму. Добавлю лишь, что Марфуга Абдраимовна Орынбаева живет в селе Берлин Мойынкумского района Джамбулской области и работает преподавателем истории в местной средней школе имени Кирова.
В победные майские дни 1945 года среди тысяч надписей на стенах рейхстага можно было видеть и такую: «Девушка из Казахстана прошла долгий путь: Талды-Курган, Алма-Ата, Москва, Берлин. Мархаба Тукубаева». Ее фронтовой путь отмечен двумя орденами и многими медалями, а также четырнадцатью благодарностями за подписью Верховного Главнокомандующего.
...В Центральном музее Казахской ССР хранится шинель военврача Тукубаевой. Фронтовая. Маленькая шинель большой души человека.
