Степное знание — Ауэзхан Кодар
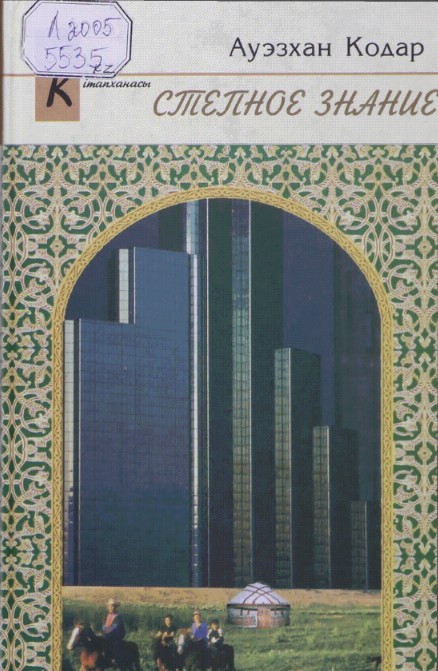
| Название: | Степное знание |
| Автор: | Ауэзхан Кодар |
| Жанр: | Философия, образование |
| Издательство: | |
| Год: | 2002 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 2
1. Методологические предпосылки диалоги с традицией
Проблема казахской философии прежде всего методологическая проблема. Если бы мы имели, развитую философскую традицию, со всеми институциями и богатым категориальным аппаратом, нам было бы гораздо легче. Мы просто излагали бы историю этой философии, и этого было бы достаточно. Однако, нельзя сказать, что у нас и вовсе нет никакой интеллектуальной традиции. Задача только в том, чтобы сообщить ей философский характер. Это достигается при помощи философской рефлексии о казахской философии, которая возможна лишь в том случае, если мы встали на собственно философский путь, отринув иные подходы как нефилософские. Для этого нужно, чтобы мы разбирались в истории мировой философии и в современном, вернее, в постсовременном философском развитии. В противном Случае, говоря о казахской философии, мы будем сбиваться на этнологический дискурс, не дающий нам ничего, кроме голой эмпирии и никуда не ведущей фактологий.
На мой взгляд, казахская философия возможна только как диалог с традицией, происходящий в мозгу исследователя. В терминах постмодернистского дискурса это называется герменевтикой, или искусством истолкования текстов. При таком подходе необходимо наличие квалифицированного исследователя и определенных текстов, требующих истолкования. При наличии данных факторов нужна способность исследователя к диалогу, то есть, не навязывать тексту свое мировоззрение, а услышать голос текста, вчувствоваться в его разнообразные стратегии. Диалог осуществляется в "вопросно-ответной" форме: важно не только реконструировать вопрос, ответом на который данный текст является, но и отнести этот вопрос к себе. Для текстов казанской интеллектуальной традиции такой подход тем более справедлив, что это в основном тексты “Вторичного исполнения”, то есть они сначала создаются в устной форме (легенда, сказка, эпос, генеалогические предания) и лишь потом достигают письменной фиксации. Сложность данных текстов в их много-слойности и анонимности, создающих, по существу, непроходимый барьер для исследователя.
Таким образом, диалог с традицией возможен в ситуации “здесь и теперь”, когда прошлое осмысливается с позиции настоящего. А поскольку мы живем в едином информационном пространстве, при постоянной модернизации мышления, не имеющей обратного хода, надо признать, что без усвоения западного постклассического дискурса наш разговор о казахской философии загодя не актуален или, по крайней мере, не интересен для других. В таком случае мы не возвысим казахскую философию до факта мировой культуры. А как явление провинциальное, она не интересна и нам самим.
В. связи с вышеизложенным я намерен начать с критики марксистской концепции нации и традиции, поскольку при нынешнем мировоззренческом вакууме марксизм у нас продолжает господствовать, заранее обрекая на поражения наши интеллектуальные построения. Прощание с марксизмом становится для нас актуальной задачей, но оно невозможно, если не усвоить альтернативных методов философствования. Посему вслед за критикой марксизма я дам краткий очерк западной философии мифа, а затем, опираясь на герменевтику Хайдеггера-Гадамера, перейду к изложению своей концепции казахской философии, как диалога с традицией.
Прощание с марксизмом как актуальная проблема философского самоопределения в Казахстане
По дефиниции “Современного философского словаря”, “марксизм — совокупность марксистски ориентированных учений (советский марксизм, фрейдомарксизм, антигуманистический марксизм, “критическая теория”), не образующая определенного единства. Учение самого Маркса является продуктом разнородных (экономических, исторических, политических, методологических) исследований и предположений. Широта этих исследований и воплощенные в них интересы не укладываются без ущерба и потерь в жесткую схему или однозначное определение”/1/. Однако, на территории Советского Союза удалось создать такое учение, которое удовлетворяло интересы партократического тоталитарного государства, благодаря которому мы пробавлялись самой примитивной формой марксизма — марксизмом -ленинизмом. В дальнейшем изложении мы будем иметь в виду только эту форму марксизма.
Позитивизм и марксизм были как бы визитной карточкой XIX века с его буржуазным прагматизмом и нарождающейся технократией. Ныне непостижимо, что в Советском Союзе до последней четверти XX века марксизм считался вершиной философских достижений человечества. Вот как пишет об этом один из эмигрантов первой волны, профессор Б.П.Вышеславцев в работе, написанной в конце Второй мировой войны: “Миросозерцание марксизма, воспроизводимое диаматом, всецело относится к прошлому веку. Ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин не подозревали современных открытий в области физики и психологии: современная научно-философская диалектика говорит свое “нет” старому понятию материи и старой психологии сознания, на которых ориентировался марксизм. Все философские проблемы теперь ставятся иначе, чем во времена Маркса и Энгельса. Марксизм их просто не понимает: для него Не существовало и не существует проблемы детерминизма и индетерминизма в физике, проблемы сознания и бессознательного в психологии, проблемы свободы и необходимости в этике и, наконец, новейшей фундаментальной философской Проблемы ценности. В сущности, для него не существует вообще, никаких проблем, ибо все принципиально решено, и он утверждает свое тоталитарное знание. А так как наука и философия есть всегда диалектическое движение, сомнение, научное незнание, для которого бытие есть всегда задача со многими неизвестными, то догма марксизма и катехизис диамата Не есть ни наука, ни философия.
Марксизм есть классовая идеология, и это признается его собственной доктриной. Такая идеология есть прямая противоположность науке и философии. Она есть коллективная психологическая мобилизация для целей борьбы, завоевания, покорения и властвования. Она не дает в сущности никакого миросозерцания, ибо не хочет ничего “созерцать” и ничего “искать”: она нашла средство внушать, пропагандировать, психически властвовать, вести массы. Демагогическую идеологию мы наблюдаем в формах нацизма, фашизма и коммунизма. Эта идеология не терпит никакой диалектики, не признает никакого диалога, она признает только монолог. диктат, диктатуру. Эта идеология может брать любую идею из свободной философии, но се идея всегда обращается в “идеократию”, т.е. в диктатуру идей, в инквизицию. Метод идеологии во всем противоположен методу науки и философии: она не терпит научного незнания, не допускает сомнения, не признает ничего неясного и нерешенного, не любит самостоятельной мысли, и говорит; “ты не думай — вожди за тебя подумали”. Идеи практического и метафизического материализма при этом особенно удобны для овладения массовой психологией пролетариата, и не одного только пролетариата, но и массового человека вообще. Материализм есть самая примитивная, легкая и общедоступная философия: вера в вещи, в тела, в материальные блага, как в единственную реальность. Если материя есть низшая и простейшая ступень бытия, то материализм есть низшая и простейшая ступень философии”. О нефилософском характере основных положений. марксизма еще в пореволюционное время пишет Бердяев.
“Учение о прибавочной ценности, которое и обнаруживает эксплуатацию рабочих капиталистами, Маркс счит ал научным экономическим учением. Но в действительности это есть прежде всего этическое учение. Эксплуатация есть не экономический феномен, а, прежде всего, феномен нравственного порядка, дурное отношение человека к человеку. Существует разительное противоречие между ңаучным аморализмом Маркса, который терпеть не мог этического обоснования социализма, и крайним морализмом марксистов в оценках общественной жизни. Все учение о классовой борьбе носит аксиологический характер. Различие между буржуа и пролетарием есть различие между злом и добром, несправедливостью и справедливостью, между заслуживающим порицания и одобрения. В системе марксизма есть логически противоречивое соединение элементов материалистических, научно-детерминистических с элементами идеалистическими, моралистическими, религиозно-мифотворческими. Миссия пролетариата есть предмет веры. Марксизм есть не только наука и политика, он есть также вера, религия”.
Того же мнения придерживается и К. Поппер в своем критическом анализе марксизма. “Аналогичная ситуация имеет место и в недооценке Марксом значимости своих собственных моральных идей. Ведь невозможно усомниться в Том, что секрет его религиозного влияния заключен в его нравственном призыве, что его критика капитализма была эффективной главным образом в своей моральной ипостаси. Маркс показал, что социальная система как таковая может быть несправедливой и что если система плоха, то вся добродетельность индивидуумов, извлекающих из этой системы выгоду, есть фальшь и лицемерие, поскольку наша ответственность распространяется на социальную систему и ее институты, которым мы позволяем продолжать существовать”.
Что касается современного отношения к марксизму, то интересно процитировать мнение Бориса Парамонова, известного литературоведа, обозревателя радио "Свобода". На его взгляд, марксизм нельзя использовать в современном мире. Он устарел, умер, кончился. Ибо марксизм есть не просто описание реальностей капиталистической экономики, а учение об избавлении от капитализма. И вот выясняется, что избавиться от него нельзя — от рыночной экономики, от экономической детерминации, от критериев доходности. То есть избавиться, конечно, можно, что и попытались сделать в России, но получается много хуже. Резон памяти о Марксе -продолжающееся действие экономических законов (не им, кстати, и открытых) в развитых хозяйственных системах”. Далее Парамонов оспаривает главный тезис промарксистски ориентированных американцев о том, что преодоленные на Западе имманентные пороки рыночной экономики воспроизводятся ныне на глобальном уровне. “Маркс тут ни при чем. Он не предвидел ситуации, в которой не европейский мир станет самостоятельным хозяйственным и, что в данном случае важнее, политическим субъектом. Он жил в эпоху колониализма. Какие сюрпризы может принести глобализация экономики, каковы катастрофические ее потенции, пока не ясно. Это станет ясно тогда, когда и если такая катастрофа произойдет. Ясно только одно: что если мир и погибнет по Марксу, то не по Марксу он спасется”.
Поппер следующим образом вскрывает причины неудачи мессианского проекта Маркса: “… недооценка Марксом роли политической власти означает не только то, что он не уделил должного внимания разработке теории очень важного потенциального средства улучшения положения экономически слабых, но и что он не осознал величайшей потенциальной опасности, грозящей человеческой свободе. Его наивный взгляд, согласно которому в бесклассовом обществе государственная власть утратит свои функции и “отомрет”, ясно показывает, что он никогда не понимал ни парадокса свободы, ни той функции, которую государственная власть может и должна выполнять, служа свободе и человечеству”.
Маркс был сильный политэконом, но плохой философ, который взгляд эмпирика поставил выше философского созерцания. Вышеславский акцентирует, что все, что есть в марксизме “философского и диалектического, — крохи с гегелева стола, сохраненные эпигонами. Однако все же это лишь жалкие остатки: богатое содержание подлинной диалектики недоступно материалистам”.
Культ практики, последовательно проводимый марксизмом, обеднял сознание, иссушал душу, низводя человека до простого статиста на пиру капиталистического производства. Сама дихотомия Марксова материализма на диалектический и исторический является на деле тавтологией и противоречием в определении. Впрочем, само это разделение марксизма на два подвида было неудачным плагиатом советских марксистов. Так, в учебнике “Философия” под редакцией В.Н.Лавриненко пишется: “В советской философской литературе укрепилось представление, что философия К.Маркса и Ф.Энгельса — это диалектический и исторический материализм. Долгие годы даже ведись дискуссии о том, как понимать соотношение между диалектическим и историческим материализмом. По поводу этих споров многие оппоненты марксизма отзывались как о схоластических дискуссиях. Например, Д.Белл — современный американский социолог — упрекал советских марксистов в незнании подлинных взглядов Маркса отождествлении их с популяризаторскими идеями Плеханова. Следует отметить, что ни Маркс, ни Энгельс никогда не рассматривали свою философию как диалектический и исторический материализм”. Впервые это разделение появляется у французского леворадикального мыслителя Луи Альтюссера, который настаивал на том, что с одной стороны существует наука об истории, или исторический материализм, е другой, философия, выступающая основанием этой науки, или диалектический материализм. В действительности, при этом разделении теряется и история, и философия, поскольку эти дисциплины не призваны иллюстрировать друг друга, Это даже не соседствующие вершины, а иные миры,
Не менее сомнительны и другие категории марксизма. Особо надо остановится на понятии формации. Оно обозначает у Маркса логически обобщенный тип (форму) организации социально-экономической жизни общества и складывается на основе выделения у различных конкретно-исторических обществ общих черт и признаков, прежде всего в способе производства. Иными словами, это исторически определенный тип общества, представляющий собой особую ступень в его развитии. Так, капитализм — это машинная индустрия, частная собственность на средства производства, товарное производство, рынок. Под формацией, следовательно, нельзя понимать какое-то эмпирическое общество (английское, французское и проч.) или какое-то совокупное геополитическое сообщество (Запад, Восток), Формация в этом смысле высоко идеализированный, абстрактно-логический объект. Вместе с тем, формация — это и реальность, выступающая как общее в социально-экономической организации жизни различных конкретных обществ.
Основные пункты критики формационной теории, пожалуй, наиболее концентрированно изложены в статьях историков А.Я. Гуревича и М.А.Барта на рубеже 80-90-х годов. Аргументы А.Я.Гуревича сводятся к следующему.
1. Формационная теория, разработанная на материале истории Западной Европы без достаточных оснований перенесена на всемирную историю. Реальные тенденции и формы развития обществ во многих регионах и странах мира, прежде всего Востока, не укладываются в схему пяти формаций. Это почувствовал еще сам Маркс, выдвинувший проблему азиатского способа производства, но так и не решивший ее.
2. Формационная теория в качестве основной детерминанты исторической жизни выделяет лишь один ее аспект -социально-экономический. Однако убедительно продемонстрировать универсальную зависимость духовной жизни и культуры от материальной истории общества, в частности, по линии “базис-надстройка”, не удается.
3. Теория формаций зиждется на признании одноуклад-ности общества. Но реальная история свидетельствует, что многоукладность является закономерностью едва ли не всякого общества. Причем ни одному из укладов приписывать определяющую роль нет оснований.
4. Формационная теория нацелена на макросоциологичес-кий анализ истории и игнорирует микросоциологический, создающий почву для сближения социально-экономического исследования с исследованием ценностей, норм поведения, коллективного сознания, религиозных установок и картин мира, заложенных в сознании людей их культурой.
5. Формационная теория предписывает истории однолинейный и телеологический характер, строгую последовательность стадий развития, определенную заданность, смысл и финал этого развития — коммунизм как идеальное состояние общественной жизни. В этом отношении теория формаций оказалась наследницей традиционно присущей христианской мысли хилиастической эсхатологии .
Близкую, хотя и менее радикальную позицию занимает М. А. Барт. В его аргументации есть несколько дополнительных моментов.
1. При формационном подходе картина социальной структуры общества настолько обедняется, что все социальные слои за пределами основных классов-антагонистов выступают по сути как маргинальные элементы. Вся многоплановая социальная структура так или иначе подтягивается к классам-антагонистам.
2. При анализе духовной культуры формационный подход ориентирует на сведение всего его богатства к отражению интересов основных антагонистических классов, игнорируя обширный субстрат общечеловеческих идей и представлений, нравственных ценностей, которые формировались на протяжении всей истории данного народа, этноса и не могут быть сведены ни к какому классовому началу.
3. Формационный анализ сводит государство к роли инструмента политического господства эксплуататорского класса, что далеко не исчерпывает его сути. Совокупность неформационных функций государства (олицетворение народности, правосудия и справедливости, хранитель целостности общества, арбитр в споре между общими и частными интересами и т.д.) превращает его в огромной силы социально-творческий фактор, который в рамках формационного подхода не может быть адекватно осмыслен.
4. При формационном подходе функционально обедненной оказывается роль духовной сферы общества, как и вообще вопрос о структуре этой области. Сведение этой сферы к отражению первичной стороны и, как следствие, к служебной роли закрывает возможность объективного ее анализа как самостоятельного, генетически независимого от данного способа производства фактора, который формирует социальность, В решающей степени определяет коммуникативную историю данного общества. Без учета исторической специфики ментальности данного народа в данную эпоху нельзя понять своеобразия проявлений различных форм социального антагонизма в обществе, а также поведения принадлежащих к нему индивидов.
Общий вывод М.Барта состоит в следующем. Формационный подход к истории не может претендовать на глобальную эвристическую функцию в историческом познании вообще, поскольку оставляет вне поля зрения множество элементов и связей общества как системы, которые тем самым не находят в монистическом взгляде на историю своего адекватного объяснения. Формационный подход способен обеспечить научное познание объективного аспекта истории, т.е. процессов складывающихся из суммирования результатов индивидуальных и групповых действий общественных индивидов, которые ими изначально не предвиделись и впоследствии оставались либо вовсе за пределами их сознания, либо осознавались ими “превращенно”.
Один из “зубров” постструктурализма, Мишель Фуко, не вдаваясь в подробности категорий марксизма, пытается определить место Маркса в западной философии рубежа ХІХ-ХХ веков.
“Мне представляется, что Маркс, Ницше и Фрейд не увеличили количество знаков в западном мире. Они не придали никакого нового смысла тому, что раньше было бессмысленным, Однако они изменили саму природу знака, сам способ, которым вообще можно интерпретировать знаки. Первый вопрос, который я хотел бы здесь обсудить: действительно ли Маркс, Ницше и Фрейд так глубоко видоизменили само пространство распределения знаков, пространство, где знаки становятся знаками? В эпоху, принятую мной заточку отсчета, в XVI веке, знаки гомогенно располагались в пространстве, которое само было гомогенным во всех направлениях. Земные знаки отсылали и к небу, и, с таким же успехом, к подземному миру. Знаки могли отсылать от человека к животному, от животного к растению и наоборот. Начиная с XIX века, начиная с Фрейда, Маркса и Ницше, знаки оказались размещены в пространстве, гораздо более дифференцированном с точки зрения глубины — если глубину понимать не как нечто внутреннее, а, наоборот, как внешнее. Я, в частности, думаю здесь о непрекращающемся споре, который Ницше вел с идеей Глубины. Ницше критикует идеальную глубину, глубину сознания, оң объявляет ее выдумкой философов. Эта глубина обычно предстает как некий чистый внутренний поиск истины. Но Ницше показывает, что она неявно подразумевает уступку, лицемерие, сокрытие. Так что интерпретатор, когда он просматривает знаки этой глубины, чтобы разоблачить их, должен опускаться вниз по вертикали и показывать, что эта глубина внутреннего в действительности — вовсе не то, о чем она сама говорит. Интерпретатор, следовательно, должен, как говорит Ницше, “хорошо раскапывать основания”. Но в действительности этот путь вниз проделывается лишь для того, чтобы восстановить ту блистающую поверхность, которая была спрятана и погребена. То есть, если интерпретатор и должен двигаться вглубь в своем “раскапывании”, само движение интерпретации — это своего рода возвышение, стремление вверх, оно делает расстилающуюся под ним глубину все более и более видимой. Глубина теперь предстает исключительно как тайна поверхности, и, таким образом, полет орла, восхождение на гору — вся эта вертикальность, столь важная в “Заратустре”, — есть, строго говоря, реверсия глубины, открытие того, что она есть не что иное, как игра или складка поверхности. Чем более глубоким мир представляется взгляду, тем очевиднее становится, что все, считавшееся глубиной человека, есть всего лишь детская игра. Я задаю вопрос: нельзя ли — при всех очевидных различиях —сопоставить эту пространствен-ность [spatialite], эту игру, которую Ницше ведет с понятием глубины, с той игрой, которую ведет Маркс с понятием “плоскости” [пошлости, platitude]. Это понятие весьма важно для Маркса; в начале “Капитала” он показывает, как, в отличие от Персея, он должен погрузиться в туман, чтобы показать, что на самом деле за ним нет никаких чудовищ, никаких глубинных загадок, и вся глубина, стоящая за созданными буржуазией понятиями денег, капитала, стоимости, есть всего лишь “плоскость”.
Однако, ныне не все так просто с марксизмом. У некоторых современных исследователей он переживает своеобразный ренессанс. Например, Александр Дугин, все еще зачарованный простотой и грандиозностью базовых установок современном мире и полагает, что для реанимации последнего нужны силы.
“Учение Маркса было настолько популярно в XX веке, что говорить о нем чрезвычайно сложно, особенно в России, где марксизм в течение долгих десятилетий провозглашался официальной идеологией. Столь же болезненным и перенасыщенным аллюзиями и коннотациями этот вопрос представляется и для западных интеллектуалов, для которых полемика и дискуссии относительно Маркса были центральной темой философских и культурологических дискурсов. Маркс как никто иной повлиял на современную историю -трудно назвать имя мыслителя, сравнимого с ним по известности, популярности, тиражам книг. Но чрезмерная эксплуатация марксизма привела в какой-то момент к обратному результату — его идеи и доктрины казались столь универсальными, что их в какой-то момент просто перестали понимать, превратив марксизм в “догму”, в гадает, в невразумительный штамп, который стал использоваться и толковаться совершенно произвольно. Марксисты-ортодоксы заморозили рефлексии в этой области, канонизировали взгляды Маркса даже в тех сферах, где они были наглядно опровергнуты ходом самой истории (как экономической, так и политической). Еретики и ревизионисты слишком растянули марксизм, включив в него идеи и теории, строго говоря, никакого отношения к марксистскому контексту не имевшие. И постепенно мы столкнулись с парадоксальной картиной, когда наиболее популярный и знаменитый мыслитель современности и его теории оказались непонятными, неизвестными, непроницаемыми для большинства. В конце концов гордиев узел марксизма был попросту ликвидирован признанием философии и политэкономии марксизма “заблуждением” и затем всеобщим отказом от этой идеологии. Чрезмерные превозношение и догматизация превратились в столь же чрезмерные ниспровержение и релятивизацию. И со стремительной скоростью все казавшееся столь внушительным здание марксизма было внезапно и повсеместно ликвидировано. Причем самыми рьяными ликвидаторами были именно силы, ответственные за создание отчужденного догматического культа Маркса. Как бы то ни было, идеи Маркса сейчас практически не имеют наследников, но от этого они не стали менее глубокими и поразительно точными в решении определенных вопросов. Складывается ситуация, когда марксизм, полностью растерявший своих традиционных сторонников, может быть взят на вооружение совершенно иными силами, остававшимися в стороне от марксизма в то время, когда вокруг его идей и имен царил интеллектуальный и политический ажиотаж. Подобная дистанция и отсутствие ангажированности в тот иди иной марксистский лагерь на предшествующих стадиях интеллектуальной истории, позволяет переоткрыть Маркса заново, прочитать его послание так, как это невозможно было ранее. Совершенно явно, что огромная часть культурно-исторических воззрений Маркса безнадежно устарела, и многочисленные аспекта его доктрины следует опросить в силу неадекватности. Однако важнее беспристрастно рассмотреть те аспекты его учения, которые, напротив, полностью сохранили актуальность и которое помогут понять важнейшие аспекты парадигмы истории в ее экономическом и социально-политическом ключе”.
Не столь оптимистичен Поппер, считающий, что не нужно повторять ошибок марксизма.
“Марксисты действительно просмотрели фундаментальную роль “формальной свободы”. Они считают, что формальной демократии недостаточно, и хотели бы дополнить ее тем, что они обычно называют “экономической демократией”. Это — двусмысленная и совершенно пустая фраза, которая затемняет тот факт, что “чисто формальная свобода” является единственной гарантией демократической экономической политики”.
Без сожаления расставаясь со многими социально-экономическими заблуждениями Маркса, Поппер, как бы сопротивляясь всепронекающему имморализму нарастающего постмодернисткого дискурса, приветствует интеллектуальный оптимизм и этическую зараженность марксизма. "Именно этот моральный радикализм Маркса объясняет то большое влияние, которое Маркс заслуженно имеет. Это обнадеживает. Моральный радикализм все еще жив. Наша задача — сохранить его, не дать ему повторить судьбу марксова политического радикализма.“Научный” марксизм умер, но выражаемое им чувство социальной ответственности и его любовь к свободе должны выжить”.
В мировой социологической литературе не прекращаются споры о том, можно ли считать основоположников марксизма идеологами модернизма, проводниками и реализаторами модернистского проекта. Например, Хабермас считает Маркса кем-то вроде антимодерниста-романтика, Берман утверждает, что Маркс был “одним из первых и величайших модернистов”, а Велинг говорит, что он не был ни тем, ни другим, а просто искал способа свести мучительные противоречия современной ему жизни к их общественной основе /20/. О социальном смысле модерна писал Макс Вебер, указывая, что социальный мир становится все более “прозрачным”, то есть ясным, понятным, доступным для познания и изменения благодаря его “расколдовыванию вследствие нарастающей рационализации социальной жизни. Расколдовывание означало освобождение общества от господства магии и суеверий, его доверие к разуму, науке, рациональной процедуре во всех сферах общественной жизни. Расколдовывание рассматривалось им не как единовременный акт, а как тенденция, а именно тенденция, придающая единство и смысл всей эпохе модерна. Вебер отмечал: “Нарастающая интеллектуализация и рационализация,… не означают возрастания всеобщего знания условий жизни, в которых находится человек. Но они означают нечто другое: знание того или веру в то, что человек всегда может это узнать, как только захочет, что вообще нет т аинственных непредсказуемых сил, вмешивающихся в его жизнь, что он может — в принципе — путем рационального расчета овладеть всеми вещами. Вот что означает расколдовывание мира. Теперь не приходится как дикарям, для которых эти силы существовали, прибегать к магии, чтобы покорить или умилостивить духов: это становится делом расчета и техники, Формируется интеллектуализация как таковая”. Однако Маркс, анализируя опыт практического развития капитализма, пришел к выводу, что людям не удается взглянуть на мир трезвыми глазами. С точки зрения Маркса мир не расколдовывался, а наоборот, реальные отношения обретали все более мистифицированную форму. Маркс искал ее тайну в буржуазной политэкономии, разоблачая фетишизм товара и представление труда в форме предметности как основные механизмы сокрытия истины межчеловеческих отношений в процессе капиталистического производства. В результате он пришел к формуле, согласно которой трудящиеся должны прорвать ограничивающий барьер капиталистической аккумуляции и взять в свои руки управление процессом “обмена веществ с природой”. В связи с этим, Л.Г.Ионин полагает, что каждое из достижений модернистского проекта было и целью марксизма. В первую очередь это касается преобразований в социальной сфере-преодоления социального неравенства и достижения равенства, а также средств достижения такого состояния — рациональной организации хозяйства и общественного существования в целом. Так что, можно сказать, Маркс был подлинным модернистом, сыном эпохи Просвещения, хотя и блудным. На мой взгляд, в этом нет принижения роли Маркса в мировой истории, а есть попытка вписать его в адекватную шкалу ценностей.
