Новые ветры — Виктор Бадиков
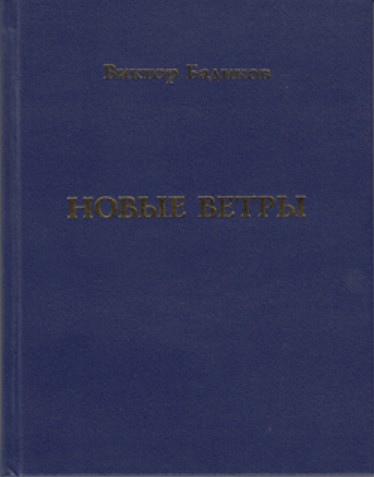
| Название: | Новые ветры — Виктор Бадиков |
| Автор: | Виктор Бадиков |
| Жанр: | Литература |
| Издательство: | |
| Год: | 2005 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 26
«ХОЛСТОМЕР» И «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Сближения. М. Булгаков
Гоголевское травестийно-пародийное начало у Булгакова сильнее и очевиднее, чей толстовская нравоучительность, но влияние традиций автора «Война и мир» Булгаков подчеркивал сам. Одна из них — мотив высшего нравственного суда (по Канту, «нравственного закона во мне»), или противоестественности «неистинной» жизни людей. Думая о смысле жизни, Л. Толстой приходил к выводу, что «животные личности для своих целей хотят воспользоваться личностью человека. А чувство любви влечет его к тому, чтобы отдать свое существование на пользу других существ». Христианско-нравоучительный акцент этого вывода («возлюби ближнего своего, как самого себя») Булгаков «переносит» в сон Алексея Турбина, когда Жилин слышит от Бога: «все вы (и красные и белые — В.Б.) у меня одинаковые в поле брани убиенные»; то же и в молитве Елены- «все мы в крови повинны, но ты не карай» («Белая гвардия»). Аллюзия этого мотива присутствует и в подтексте «Собачьего сердца». Это тем более интересно, что у Толстого тоже есть повесть о думающем исповедующемся животном — «Холстомер».
Кажется, никто еще не сопоставлял эти вещи да и параллелей здесь как будто бы нет: разные фабулы и герои-животные, разные исторические эпохи, толстовская история отчасти ассоциируется с лошадиной страной Свифта («Путешествия Гулливера»), булгаковская — попадает в русло классической традиции метаморфозы «человек — животное». Тем интереснее поиск близости в несходном.
В толстовской повести, пожалуй, впервые в русской литературе художественно оживает говорящее и обличающее животное — пегий мерин Холстомер. Это прием остранения, усиливающий идейный пафос автора. Но Холстомер не является его символическим заместителем. Образ его равноправен в художественном плане с образами человеческими и более того — контрастно противопоставлен им, особенно образу Серпуховского. Повествователь присутствует здесь как объективный свидетель неправедности и неправильности социального бытия людей, которое еще более обнарркивает свою несостоятельность, потому что рассматривается с точки зрения лошади, на фоне бытия природного. Вместе с Холстомером, отрицая право эгоистической собственности, калечащее и животное и человека. Толстой приходит в сущности к парадоксальному выводу, вложенному в «уста» лошади: «И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому (отсутствию чувства и права собственности — В.Б.) смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей — по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же — делом». От себя повествователь подтверждает этот вывод безжалостно-материалистически: тело забитою Холстомера пошло на пользу животным и людям до последней кости; что же касается тела Серпуховского, то «ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились», и оно стало добычей могильных червей. Только эта, «последняя», естественная метаморфоза присутствует в повести Толстого, полярно разводя героев и наводя читателей на невеселые раздумья.
В «Собачьем сердце» основной, по-своему научно-авантюрный интерес как будто бы сосредоточен прежде всего на двойной метаморфозе Шарика в Клима Чугункина и обратно. Но, как и у Толстого, здесь тоже со- и противопоставлены история и психология собаки (животного) и человека, и тоже не в пользу последнего. Правда, Булгаков соединяет две этих истории более тесно — на основе научного, евгенического эксперимента профессора Преображенского, но все-таки на протяжении всего повествования сохраняет контраст между собакой и человеком, по-толстовски резкий и идейно-значимый. Клим Чугункин — это человек, который, согласно поговорке, хуже собаки, тем более Шарика, на теле которого он, так сказать, паразитирует, придавая ему облик собственного тела, тоже ставшего, конечно, добычей тех самых червей.
У обоих писателей животное рассматривается как объект эгоистического или специального (научного) интереса человека. Это судьба животного, искалеченного человеком, который вмешивается в его жизнь, его естественную эволюцию. Лошадиные несчастья Холстомера в его собственной среде несопоставимы с его тяжелой судьбой среди людей. Шарику, бродячему псу, живется холодно и голодно, но Преображенский поступает с ним так, что от него, как от собаки, после операции рке ничего не остается, кроме ненависти к котам. Холостят и Холстомера и Шарика, но последнего более жестоко, потому что Преображенский преступает нравственный закон эволюции, той самой эволюции, которая для Булгакова является основой и залогом жизненности всего живого. Человек ломает судьбу животного и самого человека, посягает на естество самой природы и в результате провоцирует катастрофы эпидемий, революций или всеуничтожающих войн (ср, «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Адам и Ева»). По сути дела неестественная смерть (убийство) Холстомера равноценна научному убийству (метаморфозе) Шарика, но Булгаков «воскрешением» своего пса еще более, чем Толстой, заостряет антитезу «животное — человек» (естественное — искусственное).
И Холстомер, и Шарик, в качестве думающих исповедующихся рас сказчиков, видят в жизни людей то, чего сами они видеть не хотят. Лошадиная жизнь естественнее и гуманнее человеческой. Начиная с рождения и до самого убийства, Холстомер непрерывно убеждается в капризном эгоистическом корыстолюбии своих многочисленных хозяев, мучающих не только его, но и самих себя — в силу безнравственности, «неистинности» своей жизни.
Руководствуясь «словами, а не делами», они обманывают себя, обрекают себя собственно на животное существование. Этот мотив у Булгакова получает и политическую окраску. Как и Холстомер, Шарик — свидетель «собачьей» жизни людей. Не случайно первоначально повесть называлась «Собачье счастье», с намеком не только на судьбу Шарика, но и на «озверение» люмпен-пролетариата — главной движущей силы революции. Что же касается слов и дел, то не под влиянием ли Толстого этому мотиву Булгаков придает подчеркнуто саркастический характер? Возмущение Преображенского по поводу советских газет, «разрухи» и «контрреволюции» вполне оправданно, потому что «вся эта социальная кутерьма», т.е. революция, — просто-напросто «больной бред»: «разруха сидит не в клозетах, а в головах».
Если у Толстого люди бесчеловечны к себе и животным по причине права и чувства собственности, то у Булгакова такой первопричиной является классовое чувство — политическая трансформация собственнического инстинкта. Это еще более разнузданное чувство, потому что оно санкционировано сверху и насаждается как главная заповедь морального кодекса пролетариата. На основе классовой ненависти и борьбы пустые лозунги не только подменяют собой насущные естественные дела и потребности, но и нравственно развращают людей, поощряя и «утеснения» буржуазных спецов и доносы Шарикова-Швондера, и всю ту революционную демагогию, которая даже может толкнуть на убийство (Шариков — Борменталъ). Не случайно также Преображенский и Борменталь подумывают о бегстве за границу.
Холстомер сетует на свою тяжелую судьбу, но она закономерна и неотвратима в человеческом обществе. Потому вся его исповедь, как и судьба, — прежде всего обвинительный приговор людям. Люди, уверенные в своем праве жить, как они живут, и поступать с ним, как поступают, — глубоко ошибаются. Их дела и мысли говорят о том, что в лестнице живых существ они действительно стоят ниже животных. Ошибаются все хозяева Холстомера, воображая, что он «принадлежит не Богу и себе, как это свойственно всему живому», а им, его владельцам. Они ошибаются, когда фамильярно ласкают его, делая вместо приятного неприятное, когда холостят его и даже когда, пытаясь лечить, на самом деле только калечат. Эта ошибочность, происходящая опять-таки от «неистинной» жизни, не знающей любви к ближнему своему, не говоря о животных, злым роком лежит и на судьбах самих людей — наиболее явственно на «животной личности» Серпуховского. Люди не знают чувства самопожертвования, которым наделен Холстомер. «Хотя он был причиной моей погибели, — говорит о гусарском офицере Холстомер, — хотя он ничего и никогда не любил, я любил и люблю его именно за это». След этого мотива обнаруживается и у Булгакова, когда бездомный Шарик сочувствует советской машинистке в «холодных штанах», унижаемой своим любовником. Преображенский же особенно подчеркивает роль и значение ласки в отношениях к людям и «братьям меньшим». «Никого драть нельзя, — говорит он Зине. — На человека и на животное можно воздействовать только внушением». Это его убеждение имеет не только этический, но и социально-политический оттенок. На вопрос Борменталя, как ему удалось подманить такого «нервного пса», Преображенский отвечает: «Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло… Они (власть — В.Б.) напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему».
Ошибочность происшедшего в октябре 1917 года и происходящего позже Булгаков в своей повести соотносит и с опытом Преображенского и с «опытом» Швондера. Научный опыт проецируется на социально-политический, причем и сам профессор оказывается подопытным материалом для Швондера и его компании. Ошибочность первого эксперимента зеркально отражается в ошибочности второго. В сущности они неразрывны: одно взаимно дополняет другое. Ошибка Преображенского в том, что антиприродное действие приводит к антисоциальному результату, и наоборот — антисоциальная, антигуманная классовая догматика Швондера увеличивает в той же прогрессии антиприродный, психологический эффект его покровительства Шарикову.
Булгаков тоже подводит читателя к недвусмысленному, почти гротескному выводу: в советское время бродячая собака стоит «в лестнице живых существ выше, чем люди». Шарик со своей необычной судьбой, подобно Холстомеру, таким образом остранял советскую действительность, что ни оставалось ни тени сомнения в ее чудовищной карикатурности (ср. подзаголовок повести — «чудовищная история»). Булгаковские «великие усилия СТАТЬ БЕССТРАСТНО НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ» были во многом сродни незаангажированной нравственноэтической позиции зрелого Толстого.
1998
