Путь Абая. Книга четвертая — Мухтар Ауэзов
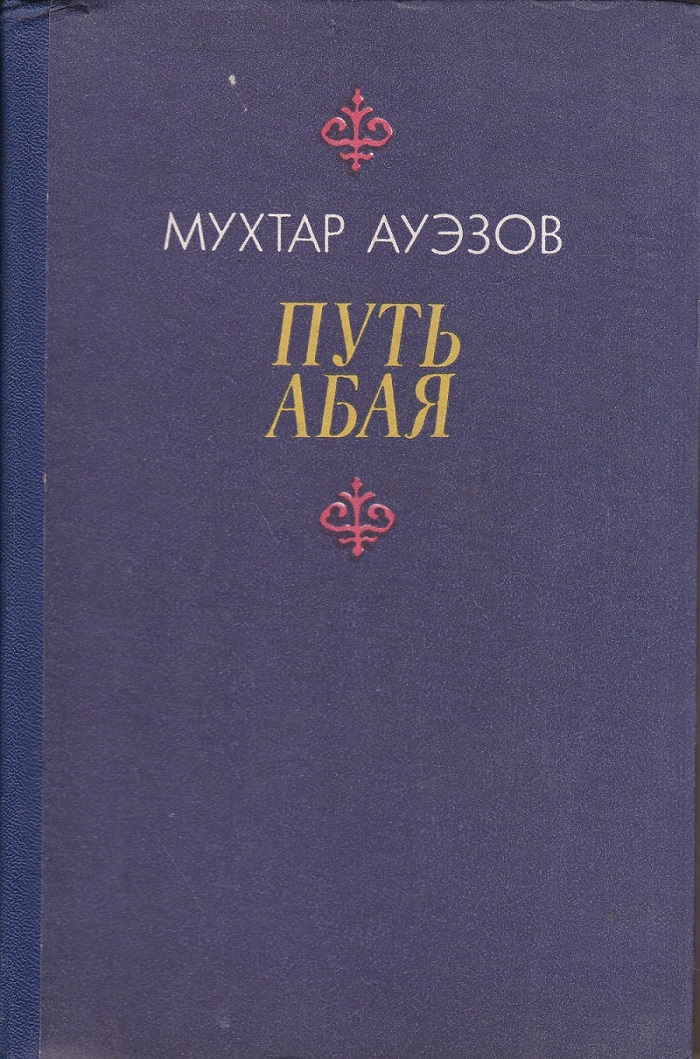
| Название: | Путь Абая. Книга четвертая |
| Автор: | Мухтар Ауэзов |
| Жанр: | Литература |
| Издательство: | Аударма |
| Год: | 2010 |
| ISBN: | 9965-18-292-2 |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 2
Если сторожа тут опытные, они будут кружить неподалеку от табуна, чтобы лучше слышать и вовремя перехватить чужого. Таких обмануть трудно даже глухой ночью. И Бахтыгул покороче взял повод, следя за тем, чтобы Сивый не застучал копытами по камню, а главное, чтобы он, соскучившись в долгом одиночестве, не заржал при виде табуна.
Медлить нельзя. Ночное дело любит проворных, решительных. Бахтыгул держал коня на коротком поводу, не давая ему опускать головы. Подобрался и он, сам готовый каждую секунду к любой неожидан-ности. Маленькие узкие глаза его по-птичьи расширены, округлены, будто и вправду видели в темноте.
Табун неторопливо тек вверх, по луговому скату, навстречу Бахтыгулу. До табуна - расстояние хорошо брошенного камня. Бахтыгул застыл под одинокой скалой. Похрапывая, пофыркивая, кони дружно хрустели сочной травой. Далеко разносилось игривое заливистое ржание молодняка. Изредка подавали голос жеребцы - заботливые, осторожные и
воинственные хозяева косяков. На миг Бахтыгул отчетливо различил переливающееся, плотное пятно табуна. И испугался - неужто посветлело? Нет, темно, хоть глаз коли. А табун богатый, несметно богатый.
Бахтыгул снял шапку и повесил ее на луку седла. Прислушался, закусив длинный ус. Ничего подозрительного. Табунщики не то лукавы, как бесы, не то попросту спят. Не видно и не слышно людей. Однако то, что кони паслись кучно, настораживало. Это не случайно. Кто-то умелый собрал их, держал вкупе и вел в непроглядной ночи на новые травы.
Вдруг тонкая живая струйка отделилась от тесно сбитой массы табуна и потекла к скале, у которой притаился Бахтыгул. Он тотчас бесшумно лег на спину Сивого, заставил и его опустить морду к траве. Струйка расплескалась, расползлась и вновь слилась. Ага! Это жеребец отвел от табуна свой косяк. Стало быть, табунщика поблизости нет...
Бахтыгул немедля толкнул коленями Сивого, и тот потихоньку, будто пасясь, пошел к косяку.
Косяк тут же насторожился, стал отходить в сторону, не подпуская к себе чужого одинокого коня. Длинногривый буланый красавец жеребец, вокруг которого держался косяк, высоко вскинул голову и негромко коротко заржал, словно спрашивая: ты кто? Он, конечно, заметил человека.
Опытный слух сразу отличит это басистое ржание: в нем угроза и вызов. Как бы не подманило оно табунщика! Но Сивый вовремя отступил вбок, а Бахтыгул прикинулся, что дремлет в седле. Жеребец опустил голову.
Сперва кони в косяке показались мелковатыми - годовалый, двухгодовалый молодняк. Ночью, пока не подъедешь вплотную, не разберешь, насколько они упитанны. Постепенно Сивый подобрался к ним ближе, и Бахтыгул вздохнул с облегчением, жадно прищурив глаза. Вот она! Отыскалась, желанная...
Крупная дородная кобылица - лучшая в косяке, а может, и во всем табуне. Бока у нее гладкие, круглые, грива подстрижена, ходит рядом с жеребцом - хороша.
Бахтыгул снял с седла волосяной аркан. Больше он не колебался. Когда умный, знающий свое дело Сивый забрался в самую середину косяка и притиснул плечом кобылу, Бахтыгул не промахнулся в темноте - первым же точным броском накинул ей на шею крепкую петлю аркана. Таким броском Бахтыгул мог бы заарканить птицу на лету.
Кобыла была строптива - целое лето ее не касались ни узда, ни путы. Капризно, испуганно встряхнув, она с места метнулась вперед, прочь из косяка. Но Сивый был готов к этому - не впервой! Не дожидаясь понуканий, он так же стремительно пошел следом за беглянкой, не давая ей вырвать аркан из рук хозяина.
Резвая кобыла долго неслась напрямик, во всю прыть, так, что аркан звенел на скаку, словно струна. Бахтыгул расчетливо, плавно сдерживал ее, не позволяя кинуться вбок и дернуть аркан. Сивым он не правил, пастуший конь сам шел как надо, помогая всаднику в каждом его движении. Кобыла брыкалась, спотыкалась на скаку и вскоре устала, пошла по кругу, поворачивая к табуну.
Тут-то Бахтыгул дал ей почувствовать мощь своих рук и батрацкой поясницы. Он круто повалился в седле на спину, мыча от натуги. Кобыла задохлась в петле аркана и умерила бег. Потом остановилась как вкопанная, понурив голову.
Осторожно подбирая и укорачивая аркан, успокаивая кобылу тихими ласковыми и властными возгласами, Бахтыгул подъехал к ней и быстро, ловко взнуздал. Легонько, скользящим ударом плети стегнул по мокрому от дождя и пота крупу и повел за собой.
Кони в табуне, беспокойно озираясь, теснились, толкались, отходя от Бахтыгула. Это не могло остаться незамеченным. И вот прямо перед ним, а вернее, над
ним, замаячил на рослом коне грузный и словно безголовый верзила с большущей дубиной...
Померещилось? Нет... стоит на пути, не шевелясь, как безгласный чурбан. Ждет, соображает, свой это или чужой? Ну и овечьи же у него мозги...
Бахтыгул резко пришпорил Сивого, посылая его вперед. Верзила немо протянул длинную руку и схватил коня под уздцы. Сообразил наконец! Худо дело. Бахтыгул с дрожью представил себе, как петля волосяного аркана затягивает его плечи... Однако верзила вел себя странно: он удерживал Сивого как бы нехотя, лениво, вяло. Дубинищи своей не поднял. И молчал, чего-то выжидая, густо сопя.
Бахтыгул встал в стременах, приглядываясь, и хохотнул невольно. Так и есть, перед ним не баран - овечка. Это Кокай, известный удалец, парень с дуроломной, лошадиной силой и с заячьей душой, посмешище всей округи. Кто над ним не шутил, кто его не разыгрывал!
- Р-раздавлю... ч-чучело! - страшным шепотом выговорил Бахтыгул и, хлестнув Кокая плетью по блошиной его голове, снес с нее шапку.
Удар не сильный, скорей обидный, но Кокай кулем вывалился из седла и укрылся за крупом своего коня, сопя еще гуще. Он не посмел даже крикнуть, позвать товарищей. Знал, что посмеются над ним, тем и кончится, как всегда. Лучше уж помалкивать, прикрывшись ночной темнотой и моля аллаха, чтобы этот неузнанный поживей убрался восвояси.
Бахтыгул дернул за повод и поскакал к большому ущелью, заросшему сосняком. Там он укроется надежно, там его следа и днем не сыскать...
А Кокай - табунщик Сальмена, самого Сальмена!
Значит, угодил Бахтыгул в точку, прямо в жадное кабанье сердце. И зря мучил себя сомнениями двое суток.
Сивый несся во весь мах, обходя табун. Кобыла покорно и охотно шла рядом, плечом к плечу.
Холодный зев ущелья открывался перед ними. И тут они напоролись на другого табунщика.
Он скакал на хорошем коне сверху, от перевала, наперерез Бахтыгулу, зычно крича:
- Эй, кто там? Кто такой?!
Бахтыгул мигом узнал его по голосу, по уверенной повадке. Этот неробкого десятка, черту не спустит. Сам Бахтыгул был некогда на его месте у Сальмена - знал бай, кому довериться.
Припав к гриве Сивого, Бахтыгул молча выпростал дубину, а табунщик на полном скаку поднял над головой свою, вопя во все горло:
- А!.. Сюда! Ко мне, братцы! А!.. - Раскатистое эхо погналось за ними по пятам.
И тотчас с разных сторон отозвались голоса других табунщиков. Судя по тому, как дружно они всполошились, ни один не спал и их было много. В темноте они живо и безошибочно разобрались, в какую сторону кинуться, и это их не спутало. Бахтыгул услышал за собой гулкий топот азартной погони.
Многоголосое яростное улюлюканье раскатилось над табуном. Табунщики словно науськивали друг друга дурным криком и накликали бурю. В одну минуту послушный, смирный табун одичал.
Десятки голов и грив разом взметнулись вверх, изогнулись длинные хвосты, разлетелись, точно по ветру. Кони злобно грызлись, лягались, подкидывая задами, громоздясь на дыбы. Заметались жеребцы, стараясь развести в разные стороны свои косяки. В беспорядочном гуле копыт потонули голоса людей.
Конские спины кружились и дыбились, как волны на реке перед порогом. Затем все слилось воедино - в общий тяжелый круговорот разгоряченных и словно слепленных между собой тел. А этот круговорот внезапно вылился в страшный, сокрушительный вал, дробящий и размалывающий все и вся тысячами копыт.
Не разбирая пути, в паническом ужасе, будто от наводнения или пожара, табун стремительно покатился по травам джайляу. Кони распластались в бешеном галопе, неслись бок о бок, вплотную, сминая и растаптывая слабых, и, подобно легким камешкам от снежной лавины, отлетали прочь однолетки и жеребята, падая замертво.
Казалось, раскат грома, бесконечный, оглушительный, навалился и лег на горные луга, на окрестные хребты, от ущелья до перевала. Благо еще, что конский вал катил не к обрыву.
Табунщики один за другим останавливались и поворачивали обратно. Поздно они спохватились! Ни один из них не видел, за кем гнался. Того и гляди, заблудишься в темноте.
Не сразу удалось остановить и успокоить табун.
Но наконец он утихомирился, и головы коней опустились к траве. Лишь ржание маток, искавших своих жеребят, пронзительно звенело в тишине.
Табунщики съехались и загалдели, бранясь, упрекая друг друга:
- Что же это было? Кто первый кричал? И откуда он взялся, шайтан проклятый! Кто его видел самолично?
Никто ничего толком не видел и не знал, но как же не крикнуть ночью? В темноте твой зов - мой глаз...
Осмотрелись крикуны и обнаружили, что нет старшего табунщика.
Вернулись к ущелью, рассыпались, негромко перекликаясь, зовя Жамантая.
Его нашел проворный Кокай на острых камнях скалистого ската, опоясывавшего луга. Жамантай слабо стонал, от него пахло кровью, рядом валялась дубинка, а его коня поблизости не было видно.
- Э!.. - вскрикнул Кокай. - Гляди-ка... Кто-то его треснул по башке... Из него вытекла вся кровь!
Жамантая подобрали.
- Живой! Дышит... Кто тебя? Кто?
Старший табунщик невнятно мычал, показывая на ущелье.
У этих камней он столкнулся с Бахтыгулом. Жамантай первый ударил его, но сгоряча, с налета, и вышел удар слабый и неметкий, серединой дубины по плечу. Зато крепок был ответный удар - и всадник и конь покатились под откос...
Не успел Жамантай опознать чужого. Но судя по тому, как вор управился один в ночи, оставив в дураках столько сторожей, знаток парень, понаторел на тайных делах. По резвости ценишь коня, по резвости узнаешь и волка...
Бахтыгул ехал по ущелью неторопливой рысцой. Сперва он прислушивался, потом успокоился, и Сивый не настораживал ушей. Погони за ними не было. На всякий случай Бахтыгул покружил среди сосен, сделав несколько лисьих петель. Кружил по сырой земле, уходил по гладкому камню. Впрочем, вряд ли после дождя поднимут его след.
Ушел Бахтыгул и увел свою удачу. То и дело он поглядывал на кобылу, любуясь ею. Очень она ему нравилась.
Потрепав ее по шее, он нащупал под короткой гривой тугой, плотный слой жира. Ткнешь пальцем - пружинит. Ну разве не удача? Давно Бахтыгул не был так доволен.
- Хороша... - с восхищенным вздохом сказал он. - Добрая скотинка!.. - И чтобы не сглазить, сплюнул на пальцы: - Тьфу-тьфу!
Дождь моросил не переставая. Сырая мгла омывала лицо Бахтыгула. Он, усмехаясь, подкрутил мокрый ус. Бахтыгул не боялся заплутаться. Пусть черно небо, черны горы, а перед мордой Сивого словно ком кудлатой овечьей шерсти, - Бахтыгул видел в этой черноте небо, видел горы и хорошо видел дорогу.
Задолго до рассвета он по душистому запаху почувствовал, что вышел к бору Сарымсакты. Дорога
вниз всегда короче дороги вверх... И Сивый работяга, в хозяина! Но когда на опушке смолистый дух ударил в нос, сморщился, отвернулся Бахтыгул, его замутило. Он проглотил все, что осталось в бурдюке, и слез с коня. Расседлав его, обтер, огладил ему спину, бока, грудь. Надо и Сивому поостыть, пообсохнуть, и у него, наверное, гложет нутро.
Бахтыгул задумался, сидя на седле под старой сосной. Сивый тихонько толкнул хозяина мордой в плечо. И правда, пора. До света надо уйти подальше. Грех мешкать, ведя удачу в поводу.
Бахтыгул снова заседлал Сивого и потуже подтянул заднюю подпругу, чтобы седло не сползало на холку коню, потому что ехать предстояло все время вниз.
Под утро дождь прекратился, стало теплей. Бахтыгула сморил сон. Он задремал в седле, упершись усами в грудь.
Очнулся оттого, что всхрапнул. В испуге встряхнулся, дико озираясь. Ему привиделось, что его душат.
Светало. Как бы не попасться кому-нибудь на глаза...
Бахтыгул поехал дальним, скрытным путем, продираясь сквозь девственные заросли карачая, цепкого, как конский клещ, тесного, как паутина.
Теперь он не останавливался и днем, погонял и погонял, не давая передышки ни себе, ни коням.
- Домой пора, детишки ждут... - бормотал он в уши Сивому.
Зимовье Бахтыгула сиротливо ютилось в пустынной горной лощине. Пыльные караванные тропы не пролегали в этих краях, зато в лощине можно было укрыть хоть целый косяк угнанных коней. Здесь Бахтыгул родился и похоронил отца и мать. Здесь он был дома.
На виду у зимовья он спешился, стреножил для порядка кобылу и валко зашагал к жилью, разминаясь, облизывая пересохшие губы.
До снега оставалось не меньше месяца, и семья жила еще в юрте, драной, прокопченной, поблизости от изгороди загона.
Бахтыгул крякнул, тронул черный ус, чтобы скрыть усталую улыбку. Он увидел Хатшу. Загорелая до черноты, едва прикрытая рваными обносками, она хлопотала у очага, кипятила детям чай. Детишек было трое: первенцу Сеиту десять лет, второму, Жумабаю, пять, двухлетнюю чернявенькую шуструю Батиму еще не отняли от груди. Двое сыновей, дочка... Вот богатство Бахтыгула и Хатши.
Отца встретили без шума, без суеты, но сразу словно посветлело в черной юрте. Рослая ладная Хатша замерла, увидев мужа, в радостно-тревожном ожидании. А он спокойно подошел к дому, не говоря ни слова, не роняя достоинства мужчины. Перешагнул через наваленный у порога хворост, вступил в юрту и, покряхтывая, сел на главном хозяйском месте у стены, против входа. Это - тор, «красный угол» юрты. После трудной дороги сладко это место под родным кровом.
Недолго, однако, молчал Бахтыгул, теребя ус. Не выдержал, покосился на красные угли в очаге, повел носом.
- Ну, как там у тебя, жена... Ярко ли горело, живо ли поспело? Нет ли чего-нибудь хоть на один зубок...
Хатше хотелось кинуться, прильнуть к его широкому твердому плечу. Она не посмела; почтительно, робко спросила от порога:
- Удалась ли ваша дорога?
- Э, поворачивайся... - буркнул он в ответ. - Некогда мне мешкать!
Все, что имелось в доме, выставила Хатша на стол. Не пожалела и масла, которое хранила с весны в высушенной прозрачной бараньей кишке. Достала его
из сундучка для продуктов с самого дна. Подала мужу. Налила горячего чаю. И то и дело старалась хоть мимолетно коснуться его локтя, плеча своим телом. Он шумно прихлебывал обжигающий чай, а у нее щемило в груди, и он это видел.
В семье праздник. У детей заблестели глаза, радость так и рвалась из них наружу. Жумабай и Батима потихоньку пинали друг друга, шаловливо пересмеиваясь. Сеит строго шикал на них, а у самого улыбка до ушей.
Все улыбалось и в душе Бахтыгула. Впервые за много дней словно разжались незримые тиски, сжимавшие его грудь. Но по лицу не заметишь, что он рад. И слова тратить попусту он не любил. Сидел, пил чай, поглаживая ус.
Опорожнил три пиалы подряд, утер усы, поднялся и пошел из юрты. С порога бросил жене через плечо как бы самое маловажное, а она ждала этого с трепетом:
- Прихвати мешок, иди за мной.
Наскоро она прибрала в юрте, наказала старшему сыну Сеиту:
- Никуда из дому не уходи. Смотри за огнем. Если кто придет, спросит, скажешь: мать пошла за кизяком, сейчас вернется.
В юрте остались одни дети. Поднялась возня. Из-за дырявых войлочных стен доносился то отчаянный визг и плач, то заливистый смех. Жумабай, неуемный задира, донимал и сестренку и брата, выхватывая у них из рук лакомые кусочки иримшика - сушеных сливок.
Хатша нашла мужа неподалеку, в укромном месте, на дне маленького высохшего ледникового озерка. Дно каменистое, в щелях плотно слежавшийся прошлогодний снег, берега отвесные, точно частоколом, обнесены «бараньими лбами» - бело-розовыми выветренными камнями, острыми, как рога, проросшими длинными космами трав, похожими на козлиные бороды. Место незаметное, и попасть сюда можно только с риском сломать коню ноги, а себе шею.
Бахтыгул сидел на корточках подле распластанной туши кобылы. Он уже начал ее свежевать. В каменной яме было темновато, холодно. Сильно пахло сырым мясом. Хатша принялась торопливо и ловко помогать мужу.
Порядочно пришлось ей повозиться, когда он вывалил, на шкуру внутренности лошади. Разобраться в них было женской заботой, и Хатша старалась как умела.
Между делом она быстро, ловко развела на плоском камне огонь. Она не забыла, что муж невесть сколько не ел мясного, и закопала в горячие угли жирную сизолиловую почку и еще два-три любовно выбранных лакомых куска - доброе ему угощение, кормильцу.
Бахтыгул беспокойно поглядывал на огонь. Как бы дым не привлек незваных гостей... Но и тут он смолчал. Голод туманит разум, приклеивает язык к небу. Боже, сохрани этот огонь, накорми этой едой!..
До вечера трудились не покладая рук. Разделали тушу и надежно припрятали шкуру и мясо, заложив их камнями. Выделили и оставили только недельную долю мяса и требушинки. Доля умеренная, но для батрацкой семьи празднично сытная. В сумерках вернулись в юрту.
Бахтыгул исподволь усмехался в усы, глядя на то, как Хатша хлопочет у очага: подвесив над огнем закопченный казанок с водой, она бросила в него кусок нежного вымени, сердце, щедро заправила варево подгривным жиром. Заодно она жарила на углях кусочки печени и раздавала их детям.
Ночь дышала холодом, а в юрте тепло, по- домашнему уютно. Сеит подтаскивал и клал под руки матери хворост. Мальчик старался, но его усердие не обмануло Бахтыгула. Он окликнул сына, тот подошел как бы нехотя. Сеит вдруг загрустил.
Это с ним случалось и прежде. Странный он был мальчик, не по летам задумчивый, не по разуму пытливый, не к месту понятливый. Дома уныние,
гнетущее молчание, старшие рассорились, а он ни с того ни с сего пускается в пляс, скачет, точно козленок. Все веселы, а он уткнется носом в колени - и не поднимешь его с земли. Когда на него этакое находило, перед ним хоть золото сыпь! Смотрит, как побитый пес или как помешанный, тоскливо и безучастно, и словно слепнет и глохнет, не оборачивается даже на зов матери и отца.
Вот и сейчас задумался мальчик, тяжел его взгляд, как у взрослого, на безусых губах бледная печальная виноватая улыбка...
Бахтыгул усадил его рядом с собой. Тут же к отцу бросились и Жумабай и Батима, прилипли, как щенки к соскам. Хатша укрыла всех четверых тулупом - они сидели поодаль от огня.
Дети притихли. От них исходил сладостный блаженный покой. В котле булькало, в юрте вкусно пахло, Хатша суетилась, шутливо приговаривая. Бахтыгул слышал ее голос точно сквозь ватный халат. Он не заметил, как уснул сидя.
Хатша наполнила теплой водой узкогорлый кумган и окликнула мужа, предлагая полить на руки. Он с усилием разжал веки. Глаза его были мутны и в отсветах дымного пламени казались налитыми кровью. Во сне у него озябла спина, затекли ноги, он потянулся, вздрагивая, спросонья разметав приникших к нему детей.
- Ох-хо, неживой я... - пробормотал он, складывая ладони ковшиком.
- Сейчас, милый, сейчас... - отозвалась Хатша ласково и любовно.
Сняв казанок с треножника, она схватила деревянный черпак, чтобы выложить мясо на блюдо. А Бахтыгул поднял с земли свой пояс, вытащил из ножен длинный узкий нож с черной рукоятью и попробовал остроту лезвия большим пальцем левой руки. Нож отменный, мясо режет, как масло. Бахтыгул из чайника обмыл клинок кипятком.
- Сейчас, сейчас... - повторила Хатша, и тут снаружи донесся лай.
Дружно забрехали старая сука и два ее щенка. По лаю Бахтыгул понял, что собаки бросились к загону.
Хатша так и застыла, подняв черпак над казанком, испуганно глядя на мужа.
Топот множества копыт словно вырвался из-под земли и заглушил лай. Бахтыгул отчетливо различал знакомый дробный стук волочащихся по камням соилов, испытанного оружия степняков.
- Прикрой мясо... недолго до беды! - глухо вскрикнул он.
Хатша заметалась, точно птичий пух на ветру, - она никак не могла найти крышку от казанка. Топот приближался. Муж смотрел сердито, зло, а она совсем потерялась. Размахивая черпаком, обливалась потом, шептала бессмысленно:
- Сейчас, сейчас...
Бахтыгул выругался сквозь зубы, и она впопыхах подхватила с земли половик и покрыла им котел, а черпак кинула в ведро с водой, судорожно отдернув руку, точно обжегшись. Из-под половика выбивались струйки пара, но Хатша не замечала этого. Ноги ее не держали, и она, села прямо на голую землю.
В юрту уже входили без спроса и без привета чужие люди, и лица их не предвещали ничего хорошего. Это были козыбаковцы - головорезы, здоровенные, матерые, отборная шайка насильников, ночных добытчиков. Поступь нахальная, взгляды презрительные. Сразу видать, что привыкли говорить кулаком да дубиной и не ждут, что им возразят.
Постегивая по голенищу плетью, важно, вразвалку, вошел толстобрюхий и толстозадый Сальмен, подпоясанный широким кожаным ремнем с серебряными бляхами и насечками, и с ним еще несколько надутых, спесивых, сытых. Грузно стали против Бахтыгула.
В юрте становилось тесно, а сзади все напирали, проталкивались поближе к баю. Последним юрко
вывернулся из толпы щуплый рыжебородый человек с колючими глазками. Этот и не взглянул на Бахтыгула, а с ходу шумно потянул носом и, словно нырнув, лег у очага, привалясь плечом к одуревшей от страха Хатше. Она отстранилась, он подмигнул ей, нагло ухмыляясь. Шуты да охальники везде как дома!..
Дюжий краснорожий детина, устрашающе тараща глаза, раздувая ноздри и кривя рот, лизнул свои подбритые усики и начал без обиняков:
- Эй, вчера ночью на джайляу Дэн ты увел из нашего табуна жеребую кобылку и проломил башку табунщику Жамантаю. Больше некому! Всякий, кто понимает, скажет: твоих рук дело. К. тому же видели поутру в горах одинокого всадника с двумя сивыми лошадьми. А один приметил под вечер дым близ твоей юрты. Словом, нечего тут воду толочь. Ограбленный отцу не спустит! А мы тебе - и подавно... Отвечай!
Бахтыгул не оробел перед всей этой разбойной оравой, хотя знал: приехали по его душу люди жестокие и тупоумные, от них не жди пощады. От твердил себе, словно клятву: «Моя правда, ваша кривда! Что бы я ни сделал, Сальмену - все поделом!» И потому, не отвечая верзиле, спокойно спросил бая:
- Кажется, ты меня хочешь обратить в вора? Когда Бахтыгул был вором?
Сальмен,отдуваясь, процедил:
- Белую ворону из себя не корчи!
Ни один мускул не дрогнул на каменном лице Бахтыгула.
- Куда вороне до ястреба! Мне ли с тобой равняться, тебе ли со мной квитаться?
Сальмен мгновенно побагровел, задохся от ярости.
- Ах, ты... ах, ты... змея...
- Докажи сперва! Кто меня уличил! Кто тому свидетель?
- Найдется... будь спокоен...
- Где он? Пусть скажет мне в глаза.
- Крутишь! - перебил бай. - Увел скотину, перебесил табун... За одну ночь - такой убыток. И это ты, ты, выросший у меня на руках!
- Оно и видно, что у тебя на руках. Недаром швыряешься мной как попало. Тебе не привыкать, знать! А скажи, за что на меня взъелся?
- Ты же мне пакостишь и ты же меня попрекаешь?
- Будто не в чем тебя попрекнуть!
Бай тупо уставился на батрака.
- А что я у тебя взял?
- Спроси: чего не взял! Душу из меня вынул. Брата родного сгубил. Забил до смерти...
- Вон оно что! Стало быть, я твой кровник?
Бахтыгул приложил руки к груди.
- Сам бог подсказал тебе эти слова... Ты их выговорил первый!
- Рехнулся ты! Сдурел?
Бахтыгул с горечью покачал головой.
- Умирающему не дал спокойно помереть... Ни привета, ни подаяния! Полгода он чах, ждал от тебя хотя бы паршивой овцы. Надеялся хоть перед смертью сердцем утешиться...
Бай прищурил заплывшие глаза, поцокал языком.
- Э... вон куда гнешь... Что ж, считай давай! Много ли там с меня причитается? Может, огулом половина моего добра - твоя? Хватай, не зевай! Что еще вздумал содрать с козыбаков, с Сальмена?
Угодливый и угрожающий смешок послышался в толпе, но Бахтыгул бровью не повел. Пусть он один. Зато с ним правда!
- Считать, говоришь? Изволь. Двадцать зим я подстилал лед, укрывался снегом, а летом сутками не смыкал глаз. Двадцать весен не радовался, двадцать осеней не жаловался, света не видя, пас твои табуны! Столько же бедовал с твоими отарами горемыка Тектыгул. Хатша двенадцать лет как стала мне женой, а тебе слугой, угодницей твоей матери. Таяла в чахотке
твоя мать, таяла молодость-красота моей жены. И что ж нам за это за все? Одно право - ковырять в носу, пока не подохнем с голоду?
- Понял я, понял... Драный паршивый раб! - закричал Сальмен, брызжа слюной. - Вижу тебя насквозь. Какова дерзость! Ворюга срамить меня вздумал! Ну, ты у меня прикусишь язык... Где кобыла?
