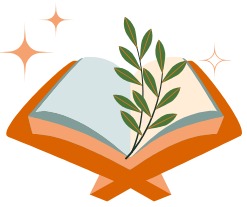Древо обновления — Рымгали Нургалиев
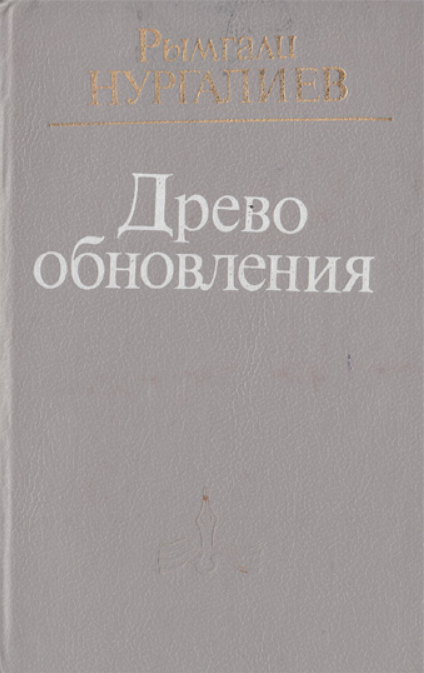
| Название: | Древо обновления |
| Автор: | Рымгали Нургалиев |
| Жанр: | Образование |
| Издательство: | |
| Год: | 1989 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(Или о том, что не сделано)
Современная общественно-политическая ситуация, возникшая в стране после XXVII съезда КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференции, благоприятно сказывается на процессе демократизации всех сторон жизни, на расширении и углублении гласности, формирует новое мышление и новый подход ко всем сферам и явлениям жизни, ко всем проблемам общества. Не последняя роль в этом деле принадлежит литературе, искусству, культуре и науке, которые как никогда прежде остро чувствуют свою ответственность за нравственное очищение общества, за утверждение социальной, исторической справедливости, за формирование у людей активной гражданской позиции. Именно с этих позиций, на наш взгляд, должны оцениваться нынешняя литература и искусство, именно на это должны ориентировать их литературоведение и искусствознание. В этом видится одна из главных задач перестройки в литературе, искусстве и в науке о них.
Всем известно, что литература и искусство возрожденного Великим Октябрем казахского народа в годы Советской власти достигли больших успехов. Особенно это ярко обнаруживается в период до 70-х годов. Достаточно вспомнить такие крупные, этапные в литературно-культурной жизни республики произведения, как «Ботагоз» С. Муканова, «Путь Абая» М. Ауэзова, «Пробужденный край» Г. Мусрепова, «После бури» Г. Мустафина, «Ак Жаик» X. Есенжанова, «Кровь и пот» А. Нурпеисова, «Кочевники» И. Есенберлина. Или же в области культуры и искусства: «Ер-Таргын», «Абай», «Биржан и Сара», «Енлик — Кебек», «Ахан-серэ — Ак-токты» и многие другие произведения.
Эти творения послужили основой для бурного развития литературоведческой и искусствоведческой науки в республике. На этой ниве плодотворно трудились такие корифеи, как М. Ауэзов, С. Муканов, А. Маргулан, X. Джумалиев, А. Жубанов, Е. Исмаилов, Б. Кенжебаев, И. Дюсенбаев, М. Сильченко, Н. Смирнова, М. Габдуллин, которые своими исследованиями не только заложили основы науки о казахской литературе и искусстве, но и сформировали и развили ее, создали первую научную «Историю казахской литературы» в 6-ти томах на казахском и в 3-х томах на русском языках, значение которой трудно переоценить. Эта «История» до сих пор не потеряла своего значения, еще не изжила себя и по сей день служит основным обобщающим трудом для студенческой молодежи, для аспирантов и научной общественности.
Однако надо признать, что годы застоя дали себя знать и в казахском литературоведении и искусствознании. В этот период, т. е. начиная с 70-х годов, наше литературоведение и искусствознание значительно ослабили свои позиции. В эти годы преобладали мелкотемье, узкие интересы. В свет выходили слабые, низкого уровня работы, в которых вместо анализа доминировали пересказ и описательность. Не было исследований, где были бы глубоко проанализированы происходящие современные процессы, четко определены основные тенденции развития литературы и искусства Казахстана. Не стали разрабатываться теоретические вопросы, проблемы теории литературы, «темными пятнами» оставались так называемые «белые пятна» истории литературы. Незаслуженному забвению были преданы отдельные фольклорные образцы, литературные произведения.
То же самое происходило и в искусствознании. Искусствоведы за последние 10—15 лет не создали ни одного серьезного, обобщающего исследования, они слабо или почти не влияют на художественный процесс и культурную жизнь республики. Иногда создается впечатление, что они чересчур «заакадемизировались», ибо не участвуют активно в творческой работе деятелей культуры. На нынешнем этапе важнее вопрос о том, как исправить дело, как перестроить науку о казахской литратуре и искусстве.
Современное состояние науки требует, во-первых, расширения источниковедческой базы исследований. Иначе говоря, в качестве главной предпосылки для подъема литературоведения выдвигается источниковедческая, текстологическая и теоретическая работа. Это значит, что необходимо широко развернуть собирательскую и издательскую деятельность. Для этого необходимо как можно скорее, на должном научно-текстологическом уровне издать тексты. В связи с этим возникает вопрос о необходимости возобновить начатое М. Ауэзовым и Н. Смирновой академическое издание эпических памятников и Других образцов фольклора. Осуществляв мое ныне институтом 50-ти томное издание фольклора не отвечает современным принципам науки, оно выпускается как научно-популярная серия и естественно, что вызывает много нареканий не только со стороны специалистов, но и со стороны рядовых читателей.
Во-вторых, для дальнейшего развития фольклористики, для подъема ее на новый уровень следует: а) улучшить текстологическую работу и изучить теорию текстологии, б) начать научную систематизацию и каталогизацию материалов, в)создать систематический указатель сюжетов эпоса и сказок, г) внедрить применение ЭВМ для обработки фольклорных текстов, сюжетов и мотивов.
В-третьих, качественно улучшить экспедиционную работу, сделав ее регулярной и комплексной, что позволит в перспективе создать фольклористическую карту (атлас) республики.
При своевременном и качественном осуществлении и соблюдении указанных предпосылок фольклористика может успешно решать стоящие перед нею задачи, а именно углубленного изучения поэтики и истории казахского фольклора.
В течение последних 20 лет фольклористика абсолютно упустила из виду современные формы народного творчества. Она при изучении этого вопроса основное внимание сосредоточила на поэзии народных акынов. Это, в принципе, не плохо. Но ведь народное творчество, этим не ограничивается. В нашу эпоху оно изменило свои формы, претерпевает различные трансформации, возникают новые...
Все это нуждается в осмыслении. Неверно суждение о том, что на современном этапе нет фольклора. Народ творил во все времена. Он творит и сейчас. Только нужно уметь находить и изучать. История казахской литературы — наиболее уязвимое место в нашей филологии. Многие годы ушли на утверждение концепции о том, что история казахской литературы занимает длительное время, что истоки ее уходят в древне-тюркскую литературу, что собственно казахская литература начинается с XV века, а не с XVIII века, как было принято считать раньше. Но даже и при всеобщем признании этой концепции литераторы Казахстана еще не разработали детально периоды и этапы развития литературы XV—XVIII и последующих веков. А чтобы создать целостную историю родной литературы, необходимо исследовать и более ранние периоды, а именно общетюркские литературные памятники VI—VIII веков, средневековые произведения на тюрки (IX—XIV вв).
С сожалением приходится констатировать, что у нас вообще нет или очень мало специалистов по древней и средневековой литературе. А ведь для того чтобы выяснить отношение казахской литературы к древнетюркской и средневековой литературе, чтобы показать их преемственность, нужно знать не только языки, но и увидеть и исследовать подлинники этих памятников. Следовательно, нашим тюркологам-литераторам надо посещать орхо-но-енисейские края, повидать и исследовать эти каменные плиты, самим сделать эстампаж. Медиевистам следует ездить в крупные книгохранилища и архивы, воочию увидеть и снять копии тех памятников средневековья, которые имеют связь с нашей литературой. И только потом приступить к анализу идейно-художественного содержания произведения в контексте с общей социальнокультурной историей региона и этноса. При таком подходе появилась бы возможность изучения этих периодов по этапам, по поэтическим стилям и направлениям. Подобный принцип помог бы нам преодолеть стереотипный подход к светской и религиозной литературе, которые должны рассматриваться как две части единой культуры средневековья.
Еще недостаточно исследована также литература XI— XVIII веков. Исследователи ограничиваются разбором идейно-художественного содержания произведений акынов и Жырау этого периода. Слабо ведется работа по дополнительному выявлению, разысканию новых творческих имен. Ученые не приступили к анализу места и роли акынов и жырау в истории казахской литературы, в ее становлении. До сих пор не определены индивидуальные стили каждого акына и жырау, типологические закономерности их творчества.
В истории казахской литературы наиболее сложным ц потому нередко вызывавшим жаркие споры периодом является, как известно, вторая половина XIX века и начало XX века. Именно в этой части литературоведения накопилось много проблем, ждущих своего решения и требующих много усилий. Догматическое понимание ленинского учения о двух культурах в каждой национальной культуре мешало правильному осмыслению творчества поэтов так называемой «эпохи скорби» и поэтов-книжников, писавших на восточный манер. Из-за этого произведения этих авторов оказывались запретными и, как правило, оценивались односторонне, огульно отрицательно. Их роль в развитии художественной, да и общественной мысли казахского народа очень большая. Такие поэты, как Шортанбай, Дулат, Мурат, Шангерей, остро реагировали на тогдашние социально-политические события и правдиво, самое главное — высокопоэтично, отражали противоречия своей эпохи. В ту пору жили и творили немало таких поэтов, но их имена и творения до сих пор остаются за завесами «таинства».
Это же нужно сказать и в отношении поэтов-книжников, которые своим творчеством продолжали древнюю восточную поэтическую традицию «назира» и воспевали гуманизм и любовь. Их поэтическое мастерство не было исследовано ни одним литературоведом. Все это говорит о том, что вторая половина XIX века остается «белым пятном» в истории нашей литературы и еще раз подтверждает необходимость специальной, плановой, многолетней разработки, результаты которой должны вылиться в солидные коллективные труды в нескольких частях.
Один из самых драматических периодов нашей литературы— начало XX века. Литература этого времени до сих пор нами не изучалась в целостности, со всеми противоречиями, ошибками, поисками, блужданиями, И здесь сказалось догматическое понимание роли литературы и искусства в обществе, имело место механическое перенесение общественных и социальных явлений на художественное творчество. В результате, литература этого отрезка времени представала только в одном разрезе: как просветительско-демократическая. Это говорит о том, что при оценке и изучении творчества того или иного писателя, всей литературы не учитывались специфика и закономерности художественного, эстетического развития.
Говоря о литературе XIX и XX веков, надо отметить и то, что имеются серьезные пробелы и в тех направлениях, которые, казалось бы, исследованы с достаточной полнотой. Здесь имеется в виду, творчество Махамбета Утемисова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева, Сул-танмахмута Торайгырова и других видных деятелей. Например, о Махамбете после покойного академика X. Джумалиева никто серьезно не писал. В последние годы сложилось неправильное мнение, что все проблемы, связанные с творчеством этих писателей, окончательно решены. Но в действительности далеко не так. И Ибрай, и Абай, и Султанмахмут, и Биржан, и Акылбай, и Бернияз и многие другие должны постоянно быть во внимании. Особенно сейчас, в период обновления, следует заново вернуться к их творчеству, проявить к ним новый подход и пересмотреть некоторые, уже устаревшие оценки. Например, о школе Абая, об его поэтическом окружении.
К этому следует добавить, что еще не открыт целый пласт в литературе кануна Октября; многогранное творчество Шакарима Кудайбердиева, Ахмета Байтурсунова, Магжана Жумабаева, Жусупбека Аймауытова, Миржакыпа Дулатова и других, которые сыграли большую роль в развитии художественной мысли казахского народа. Реабилитация указанных деятелей позволяет издать их произведения, специально заниматься их творчеством и восполнить имеющийся пробел в истории литературы.
Очень большие и сложные задачи стоят перед специалистами советской литературы. Новая обстановка, сложившаяся в литературно-художественной жизни страны, публикация многих доселе неизвестных и недоступных материалов, развенчание антигуманных явлений периода культа личности и застоя,— все это обязывает нас тоже по-новому взглянуть на историю советской литературы, углубить архивно-разыскательские работы, пересмотреть многие свои принципы и оценки; заново осмыслить отдельные этапы и с позиций современных требований анализировать произведения и явления советской литературы.
В связи с этим во всей полноте и сложности встают проблемы литературы и культурной жизни 20—40-х годов. Ни для кого не секрет, что до сих пор мы избегали анализа литературного процесса того времени, абсолютно умалчивали идейно-политическую борьбу в художественном творчестве, обходили стороной вопросы, связанные с литературной, культурной политикой тех лет, т. е. оставались «черными дырами» многие вопросы литературного и культурного развития республики в 20— 40-е годы. Все еще остаются неизвестными общественности имена многих репрессированных поэтов, писателей и литературных критиков, участвовавших в той или иной форме и степени в тогдашнем литературно-художественном процессе.
К сожалению, не только малоизвестные, но и такие классики, как С. Сейфуллин, Б. Майлин, И. Джансугуров, еще не исследованы в той мере, какую они заслуживают. Их произведения еще не изданы в академическом плане, а об их творчестве после книг С. Кирабаева, М. Дуйсенова, Т. Нуртазина, Б. Наурызбаева, вышедших в 60—70-е годы, не было ни одного серьезного исследования.
Особого разговора заслуживает история казахского литературоведения и литературной критики. Наиболее сложные периоды ее составляют 20—30-е и 40—50-е годы. Нам надо уже сейчас приступить к осмыслению того периода, для чего следует изучить всю литературно-периодическую печать тех лет. Нужно без спешки и ажиотажа разобраться в тогдашней ситуации, исследовать и оценить объективно литературную критику того времени, восстановить и вернуть в историю имена незаслуженно обвиненных и преданных забвению ученых и критиков. Особенно актуально это сейчас, когда Политбюро ЦК КПСС отменило известное постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». В свете этого, видимо, нам тоже надо будет поднять перед ЦК Компартии Казахстана вопрос о пересмотре постановления ЦК от 21 января 1947 года «О грубых политических ошибках в работе Института языка и литературы АН КазССР». Как известно, после этого документа все эпические памятники, за исключением эпоса «Камбар-батыр», были признаны феодально-байскими, многие поэты и деятели культуры были объявлены политически опасными и вредными, а на их творчество был наложен запрет. Это постановление фактически давно устарело и отменено самой жизнью. Как известно, в 30—40—50-х годах в Казахстане тоже имели место репрессии, гонения и публичные избиения. Появления таких статей, как «За марксистское освещение истории Казахстана», было следствием разнузданной кампании преследования ученых. Все вы хорошо знаете, к чему привели эти и другие публикации того времени. Настало время пересмотреть те позиции, продиктованные демагогией, и по-новому осветить как исторические события, так и литературные произведения о них, признанные в те годы как антинародные, реакционные и т. п.
Проблем, которые нужно решить и пересмотреть, в казахской советской литературе очень много. Все их здесь не перечислить. Но хочу остановиться на важных научных проблемах. Это — академическое издание сочинений всех классиков, исследование их мастерства, написание специальных работ о каждом из них. Это — новое освещение и новое осмысление различных этапов и явлений советской литературы, новый анализ и новая оценка произведений тех или иных лет. Наконец, это — характеристика современного литературного процесса, выявление главных тенденций его развития, изучение истории становления науки о казахской литературе и литературной критики.
Большую значимость на современном этапе приобретает теория литературы. С сожалением приходится констатировать, что у нас исследований в этой области очень мало. Вероятно, это является одной из причин того, что казахская филологическая наука в последние годы впала в застой, потеряла позиции, завоеванные в 60-е годы, и не поднялась на всесоюзный уровень.
Самым неотложным делом, на наш взгляд, является создание терминов и терминологического словаря. Все мы хорошо знаем, что фактически после книги А. Бай-турсунова «Эдебиет таныткышы», изданной еще в 1926 году, у нас не появилось ни одной работы, посвященной практическим вопросам терминотворчества по литературоведению и эстетике. Известные книги Е. Исмаилова, X. Джумалиева, 3. Кабдулова по теории литературы в основном имеют характер учебника. Конечно, в них тоже разрабатывалась практическая терминология, но терминотворчеству не было уделено должного внимания.
У нас до сих пор нет академического труда под названием «Теория литературы». Такое издание в 2-х томах, например, имеется в Узбекистане, не говоря уже о Грузии, Армении и Прибалтийских республиках. Подобный труд оказал бы большое влияние на развитие науки о казахской литературе в целом.
Немаловажными являются проблемы художественного метода казахской литературы, которые лежат нетронутой целиной. Историческое освещение вопросов романтизма, реализма и их разновидностей, их своеобразия в дореволюционной и советской казахской литературе пролило бы свет на многие, непонятые до сих пор явления. Необходимость разработки проблем художественного метода, в частности — реализма, особенно остро ставится на современном этапе, когда многие положения о реализме, конкретно о социалистическом реализме, подвергаются пересмотру. Именно художественный метод во многом определяет жанровые и стилевые формы, которые, кстати, казахскими литературоведами также еще не исследованы. Многообразие жанровых, стилевых и поэтических форм и средств всегда игнорировалось нами при анализе того или иного произведения, при оценке творчества писателя, особенно дореволюционного времени. В результате получалось, что у нас дореволюционные писатели были или демократами, или реакционерами. То есть делились на народные и антинародные.
В нынешних условиях в новом видении нуждаются интернациональные связи казахской литературы. Наступил период перехода от фиксации и описания фактов к глубокому теоретическому осмыслению истории и современного состояния литературных взаимосвязей, к системному освещению истории взаимоотношения казахской литературы с литературами Востока и Запада. Иначе говоря, пришло время обобщить имеющийся материал и создать труд, который назывался бы «История интернациональных связей казахской литературы».
В русле этой же проблемы должны изучаться вопросы русской литературы Казахстана. Думается, что одна из главных задач ученых в этой области заключается в раскрытии специфики русской литературы Казахстана, в определении ее роли и места в литературном процессе не только Казахстана, но и всего Советского Союза. Весьма большие задачи стоят и перед учеными-искусствоведами. Нет ничего удивительного в том, что за последние 15—20 лет по искусствоведению не создано ни одного фундаментального труда.
Кстати, в связи с музыкальным фольклором хочется обратить внимание на следующее. Мы все привыкли думать и говорить, что у нас очень богатый музыкальный фольклор, но на самом деле мы не видим его ни в виде книги, не слышим ни по радио, ни в исполнении в концертных залах и на эстраде. Все время звучит какое-то ограниченное количество песен и кюев, что создает впечатление, что народных песен и кюев у казахов не более 300—400. А где же «1000 песен», «500 песен и кюев» А. Затаевича, где же записи Б. Ерзаковича, Т. Бек-хожиной, 3. Жанузаковой, Т. Мергалиева и других фольклористов? Мы не говорим о записях радио, телевидения, консерватории и дома народного творчества. Как видим, вроде собрано много, но не издано. Стало быть, назрела необходимость их издания и исследования.
Открытость, гласность, научная, творческая дискуссия— вот вкратце, по нашему мнению, основные задачи казахской литературно-художественной критики.