Мартовский снег — Абиш Кекильбаев

| Название: | Мартовский снег |
| Автор: | Абиш Кекильбаев |
| Жанр: | Казахская художественная проза |
| Издательство: | Советский писатель |
| Год: | 1988 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
Страница - 27
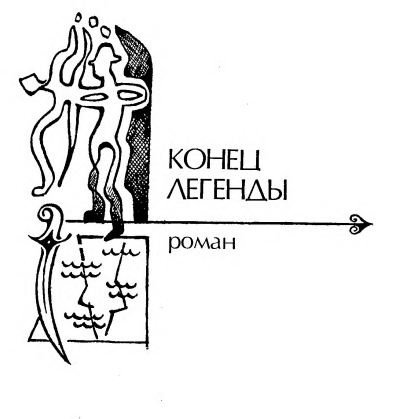
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КРАСНОЕ ЯБЛОКО
1
Крошечные воронки, появляющиеся под копытами устало бредущих коней, тут же вновь заполняются песком. И мгновенно исчезают бесчисленные следы на склонах вздыбленной гряды барханов, оставленные отрядом угрюмо взирающих окрест телохранителей, едущих на отборных скакунах саврасой масти впереди, на расстоянии пущенной стрелы. Зыбучий песок, безмолвный и бездушный, издревле привыкший к непостоянству и тщетности бытия, мигом стирает малейший отпечаток на бескровном лике этого безбрежного серо-пепельного мертвого пространства. Как бы ни старался Повелитель, вступив в Великую пустыню, отвести взгляд от всепожирающего сыпучего песка вокруг, однако никак не мог избавиться от гнетущего ощущения его беспредельной ненасытности. И каждый раз, когда он, утомленный однообразным, удручающе монотонным сухим хляскаипем копыт увязающих в песке по самые щетки лошадей, досадливо откидывает занавеску у окна своей крытой повозки, перед глазами его простирается все то же унылое песчаное море.
Ранняя, чахлая весна. Скудная, убогая равнина, и нынешней зимой обделенная снегом, утомляла глаз. На кривых сучьях саксаула и жузгена еще не развернулись почки. Все вокруг погрузилось в дрему. Горбатые барханы, невзрачные, раскорячившиеся кусты точно застыли в извечной неподвижности, прижавшись к убитой земле.
На стыке зимы и весны здесь всегда бушуют бури. Самая свирепая и затяжная из них, именуемая в народе «черепашьей», отшумела лишь недавно. Пять суток кряду, словно из преисподней, бил им в лицо раскаленный докрасна зной пустыни. Пыльный смерч смешал землю и небо. Казалось, какая-то чудовищная сила, распаляя себя, в пепел, в прах истолкла всю твердь земли и провеивала ее па жестоком ветру. Несметное войско, ничего не видя и не слыша в этой черной кутерьме, с тупым упорством брело, тащи лось, грудью налегая на валивший с ног коней упругий шквал. Точно вздыбился весь мир и белый свет померк... Где земля, где небо — не разобрать... Ломило уши от рева ветра... Смерч, возбуждаясь, крепчая, гулял-свистел по всей вселенной... И казалось, не угомонится он никогда, не уймется, пока не разнесет, не развеет всю землю в прах. Вконец осатаневший ветер шквалом набрасывался на крытую ханскую повозку, норовя зашвырнуть ее в пучину мрака.
Кони вымотались, храпели; песок забивался в ноздри, в уши, в глаза, и изнуренные воины с трудом двигались против ветра. Но Повелитель велел продолжать поход. Какой смысл в привале, если в голой пустыне пет ни кустика, где б можно было укрыться?
Наоборот, очень даже возможно, что разбушевавшаяся буря играючи разметет-расшвыряет по пустыне все повозки и тюки. Ведь не один караван бесследно исчезал под этими безмолвными барханами.
Не в правилах Повелителя было отправляться в походы в весеннюю распутицу или по чернотропу. На этот раз, стремясь вернуться в родные края к началу весны, он поневоле изменил обычаю. Однако, чувствуя какое-либо сопротивление, он становился упрямее, ожесточеннее и сильнее стискивал зубы. В самом деле, кто могущественнее на этом свете: этот шальной, безумный ветер, лишь дважды — в весеннюю и осеннюю пору — обрушивающийся на землю, или он, владыка, способный при желании перевернуть вверх тормашками весь этот бренный мир?!
И все же, все же зло брало, что он, всемогущий, перед которым трепетало все живое, не в силах был укротить — ни копьем, ни саблей — вздорный нрав разгульного ветра. Тысячники, темники то и дело кружили вокруг его повозки, как бы умоляя о привале, но Повелитель был непроницаем. Он сидел неподвижный, угрюмый и, казалось, не слышал, не замечал вовсе надсадного воя бури.
Пять дней и ночей ярилась буря — предвестница благодатной весны. Потом весь мир враз утишился, словно обессиленный после камлания баксы-шамана. Повсюду вокруг — кучками и поодиночке — валялись вылезшие, должно быть, на свет божий из трещин черепахи. Ветер расшвырял их как попало. Иные лежали брюхом кверху и беспомощно сучили уродливыми ножками.
В тот день, когда улеглась буря, к полудню войско добрело до барханов. Склоны песчаных дюн, исхлестанные ветром, напоминали иссохший остов диковинных ископаемых чудовищ. Глубоко увязая в серый сыпучий песок, брели воины уже несколько дней. Еще недавно, всего несколько дней тому назад, они терпели великие муки из-за шквального ветра, теперь их изводила, угнетала глухая непробиваемая тишь. В груди сжимался, щемил беспокойно-горячий, с кулачок, комочек, точно опасаясь умолкнуть, остановиться невзначай в этом оглохшем от тишины и неподвижности мертвом пространстве.
Вокруг, куда ни посмотри, горбатились бурые барханы, и как бы пи спешило войско преодолеть их один за другим, пока еще и намека не было на надежную твердь. Пустыня, изборожденная тяжелыми песчаными складками-морщинами, простиралась во все стороны. Сколько бы ты ни всматривался в затейливую и таинственную, как сура Корана, вязь, начертанную ветром-каллиграфом на податливомягком песке, не вычитаешь ничего, что бы могло взбодрить онемевшую мысль. Наоборот, эти причудливые письмена поневоле навевали тягостные думы о том, что сама жизнь не что иное, как бессмысленные, беспорядочные знаки на песке, как случайные, постоянно меняющиеся, призрачные следы в этом однообразно тусклом и безбрежном мире. Ведь так же, как весенняя буря, которая после многодневного буйства, вдруг разом обессилев, смиряется сама по себе, все, что человек привычно называет жизнью, со всеми ее страстями и суетой, остается завтра безжалостно стертым и погребенным сыпучим песком, имя которому Время.
Четыре долгих года провел он в походах, сто тысяч коней истоптали, истыкали копытами немало чужих земель. Неужели когда-нибудь и это точно так же бесследно развеет ветер и проглотит песок? Если человеческая жизнь — нечто мимолетное, как шальной степной ветер, что просвистел и унесся прочь, значит, и прожитые годы, старательно нанизывающие подряд и без разбора все ничтожное и сокровенное, так же призрачны и бесплодны, как этот зыбкий, шуршащий песок под ногами. Выходит, между небом и землей нет ничего, кроме низменной суеты и бессмысленности? Выходит, все-все проходит и только непостоянство постоянно, вечно?
Кто знает... может, так оно и есть. Разве мало унижений испытал он в прошлом? Разве не мыкался вот в этой недоброй пустыне с женой и сынишкой, спасаясь от гонений? Разве не эти проклятые пески, отупляющие даже сейчас, когда он смотрит па них из расшитой золотом повозки, обжигали ему тогда пятки до кровавых волдырей? Даже чахлого кустика не мог он найти в те черные дни, чтобы пальцами разгребать под ним песок в надежде коснуться истресканными от жажды губами желанной прохлады и влаги, и тогда в отчаянии казалось, что никогда уже не суждено ему выбраться из ненавистной скряги-пустыни, иссушившей его тело и душу, и никогда не дожить ему до того счастливого мгновения, когда он может или мог бы ополоснуть рот глотком живительной воды. Но кто о том знает теперь? Ведь даже он — он сам! — вспоминает о том разве что в безысходной тоске. Прошлые унижения стерло нынешнее могущество. Прошлые муки искупились нынешним счастьем. Но ведь так может забыться и сегодняшнее. Тогда что собой представляет Завтра, о котором беспрестанно твердит жалкий человеческий род? Что оно? Безумный разрушитель всего сущего на земле, равнодушный губитель всего, что живет сегодня, или карающий меч судьбы, бессмысленности и непостоянства, одинаково беспощадный ко всему и ко всем? Что оно, это Завтра?
Если оно и впрямь меч карающий, то к чему тогда Сегодня, олицетворяющее неминуемую смерть с хищно разинутой пастью?! А если Сегодня — вечно, бессмертно, то где — Вчера? Где оно, что было вчера? Где они, что жили вчера? Как случилось, что те, кто еще вчера сражался с ним, сегодня погребены песком забвения? Неужели их сразила лишь его пощады не знающая сабля? Нет, конечно! В своей гибели они повинны сами. Вернее, слабость их повинна. Выходит, Вчера — попросту разновидность слабости. Точнее, другое ее название. Лишь ослабев, обессилев, Сегодня превращается в Вчера. А неуемная, все сокрушающая сила способна дерзко схлестнуться не только с сегодняшним, но и бросить вызов самому Завтра... Истинное имя силы — Вечность. Только необузданная сила, мощь в состоянии находить с нею общий язык. Гибель слабого предопределена уже Сегодня; кару для посредственности, для середняка готовит Завтра; и только сильный, не признающий никого и ничего, бессмертен, как сама Вечность.
Сегодня — это еще неопределенность, какая-то зыбкая серединная межа между страхом и надеждой. Это доля презренного большинства. Это плавание на утлой лодчонке в ограниченном, строго очерченном пространстве. И только. Лишь в таком шатком положении — между явью и заб- пением — жалкий люд способен постичь и признать волю сильного. А без него тьма-тьмущая слабых — сброд. Лишь тот, кто наделен такой могучей волей и в состоянии держать чернь между Страхом и Надеждой, может превратить ничтожных в ее реальную силу. В руках такого Сегодня оборачивается грозным оружием в борьбе с Завтра... Каждому своему военачальнику он неустанно внушает: «Какие бы напасти ни подстерегали тебя, не попадайся в тупик, из которого нет выхода. Заранее позаботься о лазейке для спасения...» Слабость — тот же тупик... Надо иметь в запасе уйму уловок, чтобы не очутиться в ее тенетах.
Разве не о том же говорится в Священном писании?
Спросил однажды муравей у пророка Соломона: «Ведаешь ли, отчего всеблагий подчинил себе ветер?» Соломон не нашелся что ответить. «В том заключен намек, что царство и могущество твое когда-нибудь ветер же и развеет». Побледнел мудрый Соломон, услышав это. «Ибо сказано: устами ничтожного аллах сообщает свою волю великим»,— сказал муравей и уполз восвояси. Если уж от самого Соломона отвернулось Счастье, то что говорить о других. Но, лишившись счастья, он ведь не лишился славы. И потому не следует ли из этого, что счастье — призрачное благо бренной жизни, а слава — достояние величия и вечности?
Разве славу Соломона сберегли до нынешних дней не все те же бедные дехкане — безымянные труженики мура- вьи, которым несть числа? И разве не они, не те же самые ничтожные, чьими устами аллах сообщает свою волю великим, воздают им славу и почести по всей земле? Неслучайно любое деяние великих черни всегда кажется исполненным смысла и значения. Ведь именно толпа вознесет тебя до небес, глядя на твои недоступные ее разумению свершения. Скакун, на котором скачет слава,— людская молва. Пока нерасторопная истина в устах разумного взберется в седло, пустозвонная молва в устах горлопана уже поскачет, развевая полы, по низовьям и верховьям.
Пустослов, распространяющий молву, шалеет от одного звона. Он воспринимает лишь грохот славы. И не станет надрывать глотку в надежде отведать от славы тихой и скромной. Главное: что бы ни делал, нужно делать так, чтобы удивить, ошеломить этого ничтожного маленького человечка. Ошеломленный, он не в состоянии отличить хорошее от плохого, добро от худа. Ну, вот к примеру, идет впереди, тяжело переваливаясь, ногами-бревнами вспарывая хрусткую гладь песчаных холмов, неуклюжий верзила слои, груженный золотом и драгоценностями поверженных южных стран, и тот, кому этот слон в диковинку, отнюдь не станет рассуждать, хорошее это животное или плохое. Глядя па его чудовищную громадность, несуразно длинный хребет, человек, вероятно, не испытывает в первый момент ни страха, ни ужаса, ни отвращения даже, а только и прежде всего — удивление.
Размеры твоих деяний — все равно, во имя добра или зла, — должны быть непременно больше, внушительней, чем в силах охватить их маленький глаз маленького человека. Малым твоим добром оп так и так не удовольствуется, а за малое твое зло начнет тебя же ругать и склонять на все лады. Разобьешь кому-нибудь нос в кровь, тебя осудят и поднимут галдеж; если же утопишь в крови половину вселенной, тобой начнут восхищаться и говорить о тебе с благоговением и страхом.
Пока ты жив, старайся удивлять всех, кто тебя окружает. Те, кого ты сумел удивить при жизни, будут удивлены и после твоей смерти. И, прислушиваясь к их россказням, начнут удивляться потом и те, кто тебя и в глаза не видел. Важно только сохранить кое-где приметы своей славы и верноподданных потомков — живой отголосок былого твоего могущества, которые не дадут угаснуть восторженной молве, подбрасывая изредка в костер легенды хворост воспоминаний.
Не всякому такое дано. Это удел избранных. Но тебе- то это вполне доступно, пока владеешь несметным богатством и держишь в руках тумены послушного войска. Только но прозевай своего часа, пе дряхлей... И не обленись от пресыщения... Иначе уподобишься незадачливому любовнику неверной, похотливой бабенки: едва выскользнешь из ее опустошающих объятий, как на твое место уже метит другой, более удачливый и сильный. Таков он, этот лживый, изменчивый мир. Разве сам ты пе достиг могущества и славы, ловко воспользовавшись слабинкой других? Теперь старайся, чтобы они ни за что не догадывались о твоей слабости... Пусть о том знает всевышний. И только.
Один всевышний... Да-а... ранее, бывало, возвращаясь с победой, оп по ломал себе голову, размышляя о том о сем. Все эти мысли сохранялись в Глубокой тайне в самом потайном уголке сердца. И оберегал оп ее, эту сокровенную тайну, не только от чужих, словно какую-нибудь свя- тыпю, которую храпят в заветном местечке за семью замками, но и от самого себя, подальше, в глубине души, радуясь тому, что она есть, всегда при нем, и одновременно боясь даже лишний раз о ней подумать. Тогда зачем, по какой причине теперь вдруг всколыхнулось, всплыло наверх все сокровенное, многажды раз передуманное до мелочей, взвешенное до крупицы, тщательно оберегаемой от всех живых? Зачем он вновь и вновь жует свою жвачку, давясь отрыжкой, словно Старый, шелудивый верблюд? Ведь если уж хранить тайну тайн своих, то следует ее хранить, как верную дамасскую саблю. Если без толку размахивать ею, не мудрено ненароком и выронить из рук. А став добычей врага, твоя сабля тебя же и обезглавит.
Потому-то он и не позволял себе передумывать то, что было им однажды решено. А сегодня с ним творилось что-то непонятное. Прежде, как бы он ни уставал от изнурительных походов, в душе не чувствовал подобного смятения. Или, может, его вконец истомила многодневная свирепая буря великой пустыни, особенно опасная в эту пору — на стыке зимы и весны?.. С чего бы это? Ведь немало стран покорено, немало тронов опрокинуто. Он наконец-то на этот раз свел счеты и в прах разнес двух давних, коварных, немало крови ему попортивших соперников, не говоря уже о карликовых правителях, которых без труда поработил попутно.
Раньше, глядя на то, как падали к его ногам чужие короны, он испытывал сладостное и грозное удовлетворение. На этот раз все в нем точно онемело. Может, причиной тому непрошеная, незваная гостья — старость, подстерегающая его с некоторых пор на каждом шагу? Она, пожалуй, похуже любого врага. Ее никаким войском не одолеешь. И сабля не берет, и златом не откупишься, и хитростью не упредишь. Она, словно кровный твой враг, незаметно берет в осаду и не обрушивается врасплох, а изводит постепенно, подтачивая силу и веру, вселяя тайный страх.
И вот теперь она же, старость, крепко напоминает, что дальние и долгие походы отныне не для него.
И, думая об этом, он почувствовал, как сердце точно каленой иглой кольнуло.
Когда-то, давным-давно, добившись трона и короны, он явственно понял, что, покоряя одного за другим своих бесчисленных врагов, проведет свою жизнь не на золотом троне, а в походном седле.
Так оно и случилось. Так он и жил до сих пор. Многие пароды и страны покорил. В краях, доступных копы там коней, осталась неподвластной ему лишь одна-единст венная страна. Народу в ней видимо-невидимо, как муравьев- в муравейнике, и, должно быть, потому не трепещут перед ним, как другие. Более того, время от времени подсылают к нему своих редкобородых, узкоглазых послов, и они то угодливо припадают к его стопам, то горделиво-полусонно взирают на него, важно плетут словеса с подчеркнутым достоинством па каменно-непроницаемых лицах. Давно на них он точит зубы, но, кажется, пробил час судьбы, дошел и до них черед. Остальные три стороны света он подмял под себя, да так, что не поднять им больше головы. И потому, чтобы в будущих походах не думать о покоренных уже странах и не тратить силы на подавление возможных мятежей, он приказал заблаговременно истребить поголовно всех побежденных воинов. Теперь уж можно не оглядываться.
Сейчас и победоносное войско его, сокрушившее немало врагов и наводящее ужас па чужеземцев, как никогда в славе и силе. И пока оно не растеряло грозного воинского духа, он намерен после недолгой передышки вновь отправиться в далекий поход.
По пути он пополнил свое войско успевшими подрасти воинами ранее покоренных стран. Песок повизгивал-шуршал под копытами тысячи и тысячи коней, голубые копья, ощетинившись, сверкали в лучах солнца, из-за барханов и дюн все шли-текли, словно черные тучи из-за ущелий, грозные туманы, и казалось, не из похода возвращается великое войско, а, наоборот, выступает в кровавый поход. Воины веселы, бодры, точно джигиты после жарких девичьих объятий. Боевые знамена и бунчуки сотников и темников горделиво развевались па пустынном ветру.
И лишь по тяжело навьюченным караванам и по множеству рабов, закованных в кандалы, и пленниц можно было догадаться, что войско возвращается из победного похода. Да-а, что бы там ни было, он решил вступить в столичный город всем войском, многочисленным, как комариная туча. Пусть народ лицезрит своего властелина, завоевавшего три стороны света, во всем могуществе и блеске, пусть полюбуется его мощью, шалея от гордости и спеси...
Вдали над белым песчаным холмом Повелитель неожиданно увидел странный силуэт, похожий на тонкий шест. Он был голубее самого прозрачного неба и впивался своим острием в окутанный дымкой марева горизонт.
Пораженный властелин хотел было подозвать немедленно провидца из свиты, чтобы узнать, не божий то ли знак, но, заметив, что шест все явственнее обозначался на фоне неба, обретая темпо-синюю окраску, решил повременить.
Наконец-то кончились могучие барханы и дюны и пошли мелкие, разрозненные холмики. Чувствовалось, что пустыня па исходе и скоро нога коснется желанной тверди. Все чаще попадались островки с чахлыми кустиками.
Когда песчаные увалы остались позади, горизонт, зажатый ими, вдруг сразу раздвинулся, расширился.
И вместе с горизонтом, по-весеннему зыбким, смутным, с просинью, медленно, по-кошачьи отступавшим назад, туда, к неотвратимо удалявшимся, точно в страхе от несметного полчища, барханам, отодвигался, уплывал и таинственный голубеющий шест.
Вот тумены обогнули дикие заросли саксаула и жуз- гена, поднялись на суглинистый перевал и выбрались на твердь долгожданного плоскогорья. Впереди, далеко-далеко, в дымчатом мареве дрожала, зыбилась гряда пестрых гор.
Еще некоторое время спустя в урочище, значительно ближе от пестроголовых гор, в сплошной дымке, показались силуэты больших и малых строений. Голубой шест особняком, загадочно завис над ними, постепенно погружаясь в густую синеву неба.
Вскоре четко вырисовался город в долине. Точно выплыл из голубого марева войску навстречу со своими голубыми, будто воздушно-невесомыми, минаретами. Прямой как стрела голубой шест, упиравшийся вершиной в небо, обернулся — и Повелитель увидел теперь это ясно — величественной башней. Раньше ее не было в его столице. Стройная, округлая, чем ближе, тем причудливей переливавшаяся всеми красками башня напоминала молодую, нежную женщину в голубом шелковом платье, истосковавшуюся по далекому, измученному дорогой возлюбленному и машущую ему рукой. Здесь, на равнине, широко раскинувшейся во впадине, земля обрела вдруг рыжеватый оттенок. Вокруг — то здесь, то там — шевелились, суетились крохотные черные точечки. Весна властно преобразила ровное поле в окрестностях города. Многочисленные сохи, запряженные лошадьми, волами, а то и людьми, вспарывали, бороздили упругую, с едва заметным, еще блеклым покровом пашню, будто вырезали тесьму на могучем теле земли. На равнине за городом войско, под которым стонала и прогибалась земля, в честь возвращения с победой двинулось торжественным строем. В первых рядах, натянув до звона тетиву, шли лучники; за ними, грозно вскинув стальные сабли и острые копья,— сабельные и копьеносцы. Дальше, гремя кандалами, тащились пленники-рабы и брели тяжело груженные добычей караваны верблюдов. За караваном, покорно опустив головы, прошли юные красавицы, пленницы из разных племен и народов. И лишь в конце, замыкая шествие, в окружении десяти тысяч верных нукеров, проплыла под тягучий рык кар- паев ханская повозка.
Караульные отряды, обступив торжественный строй с двух сторон, сопровождали войско до главных городских ворот. Поля, вспаханные под бахчу, хлопчатник, овош, перешли вскоре в тщательно ухоженные фруктовые сады. На деревьях недавно, видно, лопнули клейкие почки. Все вокруг точно в сиренево-белых прозрачных платьицах. Под раскидистыми ветвями виднелись бурые глиняные дувалы вокруг маленьких двориков. Здесь начиналась окраина города. На широких лавках, протянувшихся по обе стороны улиц, сверкал, сиял, переливался, притягивая невольно взор, диковинный товар со всех концов света — китайские шелка, драгоценности, изделия из золота и серебра, сукно, замша, дубленая кожа, меха, пушнина, всякая утварь, поделки; в возду.хе плыл густой, пряный дух сушеного урюка, сочной, крепко поперченной самсы, сладкого и жирного, паром исходившего плова, хрустко поджаренного на саксаульных углях кебаба.
Неожиданно кончились сады, окутанные дымчатой кисеей, все плотнее, выше становились дувалы и все многолюдней улицы. Едва головные части войска хлынули в город, точно пенистый резвый ручей — в мутную лужу, как за крепостной стеной на холме, опоясанном глубоким рвом с водой, Зычно затрубили карнаи. И тут же откликнулись в ответ разом все карнаисты под войсковыми знаменами и бунчуками и посыпалась оглушительная дробь походных барабанов — даулпазов. От раскатисто-ликующего гула, взметнувшегося над городом со всех минаретов и круглых куполов, от утробного рева тысячи надрывающихся карнаев и мощного цокота несметных копыт задрожала, застонала земля.
Жители столицы, потрясенные невиданным зрелищем, пугливо озираясь на сурово ощетинившиеся копья, смотрели во все глаза с дувалов, из щелей и окон на торжественное шествие победителей.
Все внимание Повелителя было поглощено новым минаретом, вызывающе гордо устремившимся к бескрайней шири неба...
2
Пир в честь победы и окончания похода длился два месяца. Шумная, многолюдная равнина после торжеств сразу же опустела. Столичный город вернулся к обыденной привычной жизни. Народ казался бодрым, оживленным после длительного отдыха, веселья и гульбы.
И только одного Повелителя усталость не покидала. На другой день после окончания пира он перебрался в тихий загородный дворец на вершине холма, окруженного тенистым, недоступным солнцу и зною садом. По величию и богатому убранству дворец не уступал другим, однако в нем Повелитель никого не принимал. И сад на холме был запущенный, дикий, как и все непроходимые леса вокруг урочища. В нем обитали косули-елики, водились павлины, фазаны, и не были они прирученными, как в других садах. В этом дворце Повелитель не устраивал пиров и не принимал послов. Он предпочитал уединенную прогулку по саду, куда пробирался по мостику, перекинутому через ров с водой вокруг дворца. Гулял он один, без свиты, без спутника. В сад вообще никто не допускался, кроме членов ханской семьи. Но и они не осмеливались приходить сюда без личного его позволения. По воле Повелителя, бывало, привозили к нему маленьких внуков, с которыми он весь день проводил в саду, а вечером, посадив их в повозку, отправлял назад к Старшей Ханше.
На этот раз он и за внуками не посылал. Старшая Ханша через гонца передала просьбу поговорить по одному неотложному делу, но хан и его не принял, передав, что ему сейчас не до разговоров. Долгий, нелегкий поход и двухмесячное разгульное пиршество вконец утомили его. Никого не хотелось сейчас видеть.
Он забирался в укромный прохладный уголок сада и подолгу сидел на валунах у звонкого, говорливого родника. Только вот здесь, на крохотном клочке земли, рядом с вечным родником, он не чувствовал себя могущественным властелином. Здесь он мог не повелевать, и были ему непослушны, неподвластны и неустанно журчавший прозрачный родник, и бесчисленные птахи, безмятежно щебетавшие в густой зеленой листве, и лупоглазые стрекозы, трепетавшие тонюсенькими крылышками над самой водой. Здесь никто его не боялся. Пожалуй, одни только чуткие косули, невзначай наткнувшись на пего, ошалело мчались прочь в густые заросли. Но пугались они его не потому, что был он властелином, а лишь потому, что принадлежал к многочисленному недоброму племени двуногих.
Когда он направлялся к любимому роднику, вооруженные телохранители и дворцовые слуги, избегая с ним встречи, мгновенно убирались восвояси.
Часами в глубокой задумчивости сиживал Повелитель возле одинокого родника. Здесь вызревало окончательное решение о далеких и опасных походах. Здесь, па сонной поляночке, в райском уголке, под переливчатый говорок ручейка, решались судьбы тронов и коронованных владык.
Мысли роились в голове Повелителя, текли непрерывной вереницей, как эта родниковая вода, сочившаяся из глубины земли. Но вода текла ровно, размеренно по одному и тому же извечному руслу. А мысли Повелителя, едва зародившись в глубине души, неизменно путались, мешались, растекались беспорядочными ручейками во все стороны.
Вот и сегодня он пришел к роднику, чтобы обстоятельно обдумать предстоящий вскорости нелегкий поход, ио думы нежданно-негаданно набрели на загадочный случай с яблоком. Красное наливное яблоко, с едва заметным, тоненьким надрезом сбоку он вернул вчера, не дотронувшись, а сегодня во время трапезы служанка вновь поднесла его на золотом подносе.
Он его сразу узнал среди других яблок, схватил и разломил: из середины, извиваясь, выполз червь. Он не имел привычки выказывать гнев перед слугами. Положил яблоко обратно, будто ничего не заметил.
Служанка убрала поднос. Повелитель сурово сдвинул брови, но сделал вид, что прощает оплошность прислуги, подавил нарастающую ярость.
Он устремил все подмечающий, сверлящий взгляд па служанку, но не усмотрел в ее движениях, походке ни тени робости или смущения, кроме того, что она чуть-чуть прикусила нижнюю тонкую губу.
Но разве не все служанки испокон веку прикусывают губы и заученно улыбаются, выказывая подобострастие- перед властелином? Выходит, эта, что унесла сейчас с ханского стола червивое яблоко, не почувствовала никакой вины перед ним? Или, занятая делом, ставя и убирая посуду с яствами, она и впрямь ничего не видела? Но... подмечать, ловить каждое движение па лице Повелителя и удовлетворять любую его прихоть разве не обязанность челяди? Однако ведь может быть и так, что поджатые губы служанок не просто дань вежливости или учтивости, а искреннее смущение перед мужчиной-повелителем? Теряются же перед ним, испытывая невольный трепет, не только слуги, по и визири, полководцы и даже родные дети. Что уж говорить о бедной, беззащитной женщине? Она не то что за выражением лица Повелителя, а за собственными поступками от страха не уследит. Где уж ей все вокруг подмечать?..
Порой Повелитель поневоле поражался непонятливости своих приближенных, тому, что их разумению оказывались недоступными самые простые вещи. Потом, размышляя об этом наедине с собой, приходил к выводу, что поражается напрасно. Ведь ему-то легко: у него нет необходимости кому-либо угождать или стараться понравиться, а его и чиненным, угодливо ловящим каждое его слово, постоянно смотрящим ему в рот, следящим за каждым движением бровей, немудрено, разумеется, споткнуться на ровном месте.
Во время беседы с приближенными он искусно заставлял их высказываться без утайки, а сам между тем лишь молча слушал. Даже не перебивал собеседника. П тот чувствовал себя робким учеником, плохо выучившим урок, перед строгим, педантичным до угрюмости наставником. Повелитель, точно окаменев, смотрел собеседнику в глаза, нс выказывая ни единым движением своего осуждения или одобрения. Не простое искусство — умение слушать. Иной верткий, пронырливый льстец, угадав настроение Повелителя, начинает ловчить, подстраиваться, подлаживаться, как заурядная шлюха, скрывая своп подлинные мысли и побуждения. А Повелителю совершенно ни к чему, чтобы его подчиненные что-то утаивали, скрывали. Ему выгоднее, чтобы перед ним все выворачивали наизнанку свои душонки, с покорностью выкладывали все свои тайны. Ибо в подвластном ему мире только один-единственный человек имеет право па какие-то тайпы — большие и малые, все равно. Это он сам, властелин! А всем остальным, готовым ради пего пролить кровь и пожертвовать жизнью, какой смысл иметь еще какие- либо секреты?! Да, да... он должен, обязан знать, что думает и делает каждый, кто находится под его властью. Нет покоя его душе, пока он не вызнает до донышка все, что в сердце и помыслах приближенных. Здравый человек не садится на коня, чьи повадки ему не знакомы. Точно так же неразумно окружать себя людьми, которые ио отвечают за свои слова и поступки, но знают своих возможностей и не ведают, где свернут себе шею. К тому же следует помнить, что твоя тайна, пока опа при тебе,— твое оружие, но с того дня, как ты однажды кому-то ее доверил, она уже оружие чужое. И Повелитель искони стремился прежде всего обезоружить своих приближенных, раз и навсегда лишив их сокровенной тайпы. Потому в беседе он позволяет им говорить свободно, без стеснения, без оглядки. Боже упаси, чтобы он обрывал чью-нибудь речь неуместным словом. Наоборот, прикидывался незнающим, задавал нарочито наивные вопросы. И тогда собеседник, не чувствуя подвоха, с долей приятного превосходства отмечал про себя, что всемогущий и всевидящий властелин не такой уж всемогущий и всевидящий, как о нем говорят, коли не догадывается о простых вещах, и начинал с детским простодушием и откровенностью выкладывать все подробности, о которых еще минуту назад был склонен умолчать.
Таким образом, заставив собеседника распахнуть перед ним душу до последнего закоулочка, вызвав его на чистосердечную исповедь, Повелитель потом без сострадания давал понять, что он отнюдь не такой простак, как тому, собеседнику, па мгновение почудилось, что он, как истинный провидец, наделенный к тому же верховной властью, все-все знал и видел давным-давно. Бедняга, пустившийся в откровенность, тут спохватывается и подавленно умолкает, вдруг сразу ощутив всю пропасть своего ничтожества. После этого он становится покорным, послушным, точно годовалый верблюжонок, которому пробили ноздрю, чтобы было сподручней вести его на поводу...
В конечном счете, разве не в этом заключается превосходство всех владык, всех сильных мира над остальным людом — в том, что, имея власть выведать тайну каждого, они сами никого в свою тайну не посвящают и никогда о пей не разглагольствуют? Ведь с самого сотворения мира когда и где бывало, чтобы кто-то осмеливался выспрашивать тайну самого правителя?
Властелин должен быть не только немногословным, ио и уши свои он не позволит осквернять какими-либо недостойными слухами. Если он опустился до чьих-либо нашептываний, то уж поистине впору снять с головы золотую корону и поставить ее плевательницей перед сплетником с поганым хайлом.
Тех, кто охотно и подленько наговаривал на других, он ненавидел люто, точно бешеных собак. Кое-кто из неисправимых холуев, тайком сообщавших ему, что о нем говорят за глаза, нашел успокоение па виселице. С тех пор никто не совался к нему с подозрительными слухами. Визири и родные сыновья без его просьбы или поручения никогда ни о ком не заикались. Чрезвычайной важности события сообщались ему — с ведома и согласия членов его семьи или высокопоставленных служителей дворца — только предсказателями из личной свиты. При этом недобрая весть доводилась до пего намеками. И если ему требовалось знать все подробности, скрывающиеся за иносказанием, он вызывал к себе гадателей и приказывал истолковать донесение. Те известную им недобрую весть тоже не сообщали открыто, а преподносили лишь разные ее толкования, которые он мог понимать, как ему угодно было. На основе намеков и их толкований Повелитель сам выносил решение и определял меру наказания виновнику. Находить истинную суть каждого иносказания, а также единственно правильный выход из создавшегося положения и точно определить степень вины — нелегкое занятие даже для властелина. Ибо, как нигде больше, здесь всякая поспешность и очевидная всем несправедливость, несомненно, наносят непоправимый урон даже безмерному ханскому престижу. И в этом вопросе он свято придерживался своего излюбленного правила: «При любой напасти опасайся тупика, на всякий случай всегда оставляй себе лазейку». Он стремился не связывать самому себе руки. Известно, что жалобы и сплетни чаще всего касаются отдельных личностей. Повелитель, способный без угрызения совести утопить в крови тысячи людей и уложить на поле брани тысячи воинов, однако крайне осторожен и щепетилен в вынесении приговора одному человеку. В этом сказывается одна из кощунственных несуразностей презренного бытия.
В самом деле, в бою чем больше загубишь невинных душ, чем больше перебьешь воинов-сыновей, взлелеянных горемычными матерями, — тем громче слава предводителя-хана, и — наоборот — малейшая несправедливость, допущенная им в мирной жизни хотя бы в отношении к последнему нищему, накладывает несмываемое пятно на его честь. Милость, милосердие, проявленные повелителем к какому-нибудь ничтожному смерду, способны вытравить из сознания толпы жуткую славу кровопийцы, повинного в гибели тысячи и тысячи невинных, и посеять молву о мудром, человечном и справедливом хане — таком справедливом, что может мечом правосудия, как говорится, повдоль рассечь волосок.
В этом он окончательно убедился много лет назад во время южного похода.
