Путь Абая. Книга четвертая — Мухтар Ауэзов
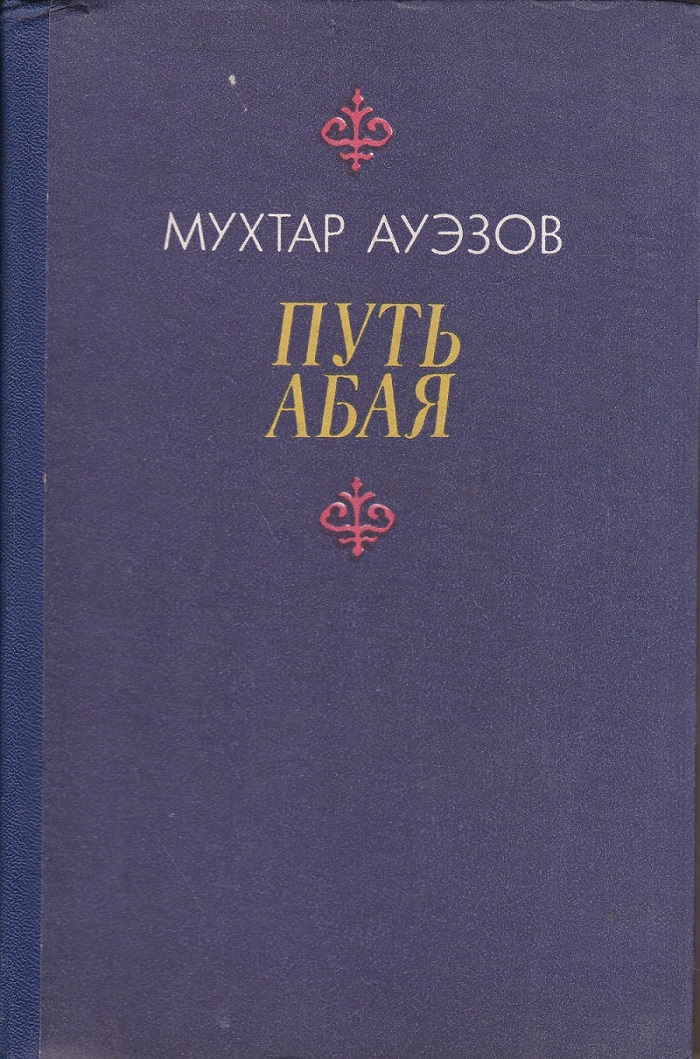
| Название: | Путь Абая. Книга четвертая |
| Автор: | Мухтар Ауэзов |
| Жанр: | Литература |
| Издательство: | Аударма |
| Год: | 2010 |
| ISBN: | 9965-18-292-2 |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 1
ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Редакционная коллегия: Каскабасов С.А. (председатель), Кул-Мухаммед М.А., Кирабаев С.С., Елеукенов Ш.Р., Исмагулов Ж.И., Нургалиев Р.Н., Абдрахманов С.А., Исмакова А.С., Бейсенгалиев З.Г., Абдезулы К., Майтанов Б.К., Болтанова Ж.К.
Ауэзовская модель мифопоэтического
Творческая индивидуальность Мухтара Омархановича Ауэзова (1897-1961) формировалась не только в русле эстетики критического реализма. Как и представители классического модернизма конца XIX - начала XX вв., писатель обращается к природной атрибутике и в ней находит мифопоэтические модели для отражения вечных законов личного и общественного поведения, неких универсалий природного и социального космоса. Многие произведения настоящего издания повествуют о хаосе человеческого бытия. Преобразить этот хаос пейзажными и мифопоэтическими «текстами» - такова отличительная черта казахского художника слова. Рамки жанра предисловия позволяют остановиться лишь на нескольких эмблематических фрагментах.
Одно из ранних произведений, рассказ о сиротской доле обитателей зимовки у горы Аркалык, начинается с изображения картины мира. Она трехчастна и объемлет земную твердь, где унылая столбовая дорога, одинокий гребень горы, единственный Кушикпайский перевал и вросшее в землю убогое жилище; верхнюю сферу где грозно расстилались закат с железной тяжестью туч, кровавое око солнца, дымные облака и ущербно опрокинулась луна. Наконец, охватывает подземный мир, могильные курганы которого олицетворяли священные хранилища духовных и душевных сил главных героев рассказа - бабушки, ее снохи и внучки Газизы. Символику сакральной проекции на ландшафт Аркалыка и идеальные представления потомков о необыкновенном человеке являет легенда о родоначальнике местных жителей Кушикпае. Старики хранили память о батыре-предке. Не приукрашивая словами сердце его, они только стерегли, чтобы оно билось. В мартирологе трагически одиноких бабушки, Газизы и ее слепой матери, у которых тиф унес защитников-мужчин, предание о Кушикпае становится особой главой. Проникнутое легендарной темой прарода, оно повествовало об идеальном прошлом, когда герой-предок был готов биться насмерть хоть с вором, хоть со всей ватагой его прислужников. Но «сейчас», по размышлениям бабушки Газизы, настали иные времена, и она с горечью наблюдает измельчание
души сородичей, которые угождают тому кого боятся и отзываются лишь тогда, когда их кличут, как псов. Рожденная горестным опытом сиротской доли максима бабушки категорична и основана на противоположениях: предок - герой, а современник, сообразивший разжиться на беде одиноких женщин, олицетворяет агрессивную грубость нечистого и жадного животного. Старая женщина, на Дом- Род которой теперь посягают, взывает к волостному: «... чтобы билось у тебя сердце, когда, едучи мимо, вспомнишь о нас. И не скудела бы твоя милость, когда встретишь таких, как мы. И не думал бы ты, как другие: что мне до них, они из чужого аула!».
Образ-мотив сердца, упоминаемый как эйдос нравственных качеств батыра, встречается в рассказе неоднократно. В исповедании М.О. Ауэзова - это символический источник переживаний доброго человека, который способен слушать мир сердцем, автора, у которого щемило сердце при виде сиротского убранства жилища, и бабушки, сердце которой как символ памяти и мышления было неутомимо. Сердце волостного, к милости которого взывала женщина, олицетворяло область хтонического, темного начала.
Исключительно отвратительные волостной Ахан и его приспешник Калтай открывают персонажный ряд типов, олицетворяющих звериную суть и получивших дальнейшую разработку в произведениях большого жанра и драматургии М.О. Ауэзова. В галерею названных типов вписываются и те нелюди, что обрекли пастуха Бахтыгула на мученическую жизнь, и те, от кого уходили в изгнанничество албаны.
На основе универсальной оппозиции «природа - человек» создан художественный мир рассказа о мальчике Курмаше и Сером Лютом. Внутри этой оппозиции расходится целая анфилада противостояний: аул - степь, холм - овраг, верх - низ, юрта - нора, множество - один, пастухи - звери, охотник - волк, сторожевые собаки - охотничья собака Аккаска.
Художественный мир другого рассказа о красавице Карагоз, живущей после гибели любимого отчужденно и замкнуто, как птица в клетке, моделируют символические образы и мотивы: числа (шесть, семь), пространственные локусы (утес, река, небо), время года (весна) и мотив движения/коша, когда героиня на седьмом году вдовства находится у порога «творения» новой жизни.
Синкретическое единство поэтики архаической традиции и индивидуального опыта М. О. Ауэзова создает парадигму мифопоэтического видения образов мира в казахской литературе.
Гульбану ШАРИПОВА, преподаватель ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
ПОВЕСТИ
ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ
1
Старший брат поднял на руки младшего, точно ребенка, и сказал своей жене, торопливо перестилавшей постель:
- А в нем ни кости, ни мяса. Сухой да легкий, как перекати-поле... Экого молодца извели!
Постель - сложенные втрое-вчетверо стеганные одеяла на земляном полу под серой глинобитной стеной зимовья. Больного бережно уложили на правый бок.
А тот совсем обессилел, пока его поднимали, дышал тяжело и едва шевелил бескровными губами. Брат и сноха склонились к его лицу, но скорее догадались, чем расслышали, что он сказал:
- Отощавший конь - как по ветру пух...
- Отощавший муж - как бесплотный дух, - договорила женщина, горестно вздыхая.
Старшего брата звали Бахтыгулом, младшего - Тектыгулом, женщину - Хатшой.
Бахтыгул, черноусый, плечистый и широкогрудый, сел возле больного, низко опустив голову. Еще прошлой осенью Тектыгул удивлял людей своей богатырской статью. Он был на голову выше, кряжистей и крепче старшего брата. И вот доконал его злой недуг. Истекла из парня сила, как кровь из широкой раны.
Прежде голая скала была ему мягка, теперь постель жестка. Придирчив стал, просит перестилать почаще; и поднять его на руки - ничего не стоит. А бывало, не оторвешь от земли!
Помнится, в юности, в страшную годину, пришлось Бахтыгулу, как ныне, носить брата на себе. Было тогда старшему шестнадцать, меньшому - десять. Повальный тиф, словно пожар, поджег степь, все аулы окрест. В один день слегли отец и мать, а затем в один день и померли, утром - мать, к ночи - отец. Братья побежали из родного аула куда глаза глядят, как велел, помирая, отец, и, когда у младшего подкашивались ноги, старший из последних сил тащил его на закорках, чтобы подальше уйти. Тогда Бахтыгул унес брата от погибели, от заразной хвори, которая гналась за ними. А ныне, пожалуй, не унести...
Тоска томила Тектыгула, но не молодецкая, смертная.
- На срубленном кусту не зеленеть листу, - твердил он, глядя застывшими, мутными, пугающими глазами то на брата, то на сноху. - Это все бедность проклятая, наше сиротство. Не люди меня убили, брат, - бедность! Как будешь жить без меня?
Судорога морщила его серые губы, и словно прорывалось сокровенное, затаенное в душе.
- О, если бы поквитаться... не за смерть, за обиду... - шептал он и всхлипывал яростно и беспомощно. Кашлял натужно, точно дряхлый старец, отвернув лицо к стене.
Сегодня Хатша не выдержала, вскрикнула со слезами:
- Подлые! Отсохни у них руки и ноги! Ломали, ломали парня... изломали вконец... И хоть бы дохлым козленком откупились. Кинули бы милостыню... болящему на пропитание...
Бахтыгул был скуп на слова.
- Ми-ло-стыню? - проговорил он с угрюмой усмешкой, и кончики его густых черных усов поползли вниз.
Хатша поняла мужа. Нет у их недругов ни жалости, ни благородства. Не только руки дарящей не протянут - глазом не моргнут! Обидчики знали: подкормишь хилого, больного - признаешь вину перед ним... А если не выживет Тектыгул? Придется отвечать по древнему степному закону - платить за убийство. Вот чего опасались они.
В жизни своей Бахтыгул не помнил дня, когда богачи были бы справедливы, а он прожил уже вторую жизнь с тех пор, как на его глазах остыли отец и мать.
В тот страшный год тиф не догнал беглецов, догнала судьба. После долгих скитаний они нашли приют у дальних родичей, дядьев по материнской линии, но не нашли счастья. Стали мальчики батраками в богатом ауле рода козыбак, кочевавшем в Бургенской волости. Прошлой осенью минуло двадцать лет, как братья верой и правдой служат баю Сальмену, младшему из козыбаков, крутому, нравному хозяину.
За годы службы Бахтыгул достиг большой чести - стал табунщиком, то бишь наибольшим среди пастухов, правда, не разбогател. Зато богател его хозяин Сальмен.
Умелые руки Бахтыгула выходили и выкормили в степи немало байских табунов, сотни и сотни голов хорошей крепкой породы.
Младшего, Тектыгула, бай держал в черном теле - доильщиком кобылиц. Шли годы, уходила безрадостная молодость, но ничего не менялось: днем Тектыгул доил кобылиц, а по ночам сторожил овечьи отары.
Бахтыгул был удачливей - все-таки бай его женил. Взял табунщик в жены девушку Хатшу, дочку пастуха из соседнего аула, и она тоже стала служить баю Сальмену, его жене и матери, как служил муж. Бахтыгулу женитьба стоила всего, что он заработал, примерно, за десять
лет, однако на то была байская воля. А вот Тектыгулу стукнуло тридцать лет - и он не женат.
Братьев-батраков знали по всей округе, они славились силой и отвагой, и был от них баю еще особый прок.
Род козыбаков - богатый род, а потому жадный, властолюбивый, ненасытный. Издавна козыбаки были известны тем, что при случае затевали барымту, угоняли скот. В этих делах Бахтыгул и Тектыгул были незаменимы.
Им вручали черные дубины, сажали на отменных коней и посылали в тайные налеты. Братья кланялись баю и шли, куда он велел.
Старший брат их хозяина Сальмена, бай Сат, то и дело ввязывался в междоусобные распри, домогаясь должности волостного управителя. Сат сколачивал в волости партии, разжигал меж ними вражду и в мутной воде ловил рыбку. Трещали под ударами дубинок кости у джигитов, бай Сат пожинал почести волостного, а у бая Сальмена разрастались табуны и стада.
Молодцы из других родов побаивались Бахтыгула и Тектыгула, завидовали их силе:
- Нешто они люди - дубины...
Случалось, что и посмеивались над ними:
- Нешто они слуги - рабы... Братья-рабы!
Слава удалая, да нерадостная. Худая слава. Не только чужие, но в родном ауле даже бабы и детишки поговаривали исподтишка:
- Пошли наши барымтой, как велит обычай... Пришли наши с ночной воровской добычей...
Однако был бы доволен бай! Под баем ходим, на все байская воля.
Из года в год, из зимы в лето жирели козыбаки, наглели. Недаром служили им Бахтыгул и Тектыгул. Тяжелы дубины, длинны арканы у братьев-пастухов и кротки души. Двадцать лет пролетело, а они все такие же безропотные, безотказные.
Бай Сальмен ничего им не платил. И никогда братьев и хозяина не связывал договор, обычный в степи: столько-то скота и одежды за такой-то срок... Не было этого баловства в заводе у Сальмена! Разве бай не отец- благодетель своему рабу? К. тому же они родичи, хотя и по материнской линии. Родным не платят - дарят.
Вот почему у Тектыгула в тридцать лет не было ничего такого, про что он мог бы сказать «мое». Чуть больше было у Бахтыгула и Хатши...
Тесная старая юрта, три-четыре лошади, десяток овец - и все! Все, что они, трое сильных и умелых, нажили за много лет усердия и старания, тяжкого труда и отчаянного риска.
Но и то слава богу, кабы были богачи справедливы и кабы в груди у Сальмена билось не кабанье сердце.
Прошлой осенью в ненастную ночь, ветреную, мокрую, стряслась беда. Крики, плач и ругань висели над аулом, когда Бахтыгул пригнал из степи косяк коней. Бай Сальмен метался по аулу, вопя, плюясь, как верблюд, и хлеща плетью всех, кто попадал под руку. Хатша в слезах лежала у потухшего очага, голося по Тектыгулу, точно по покойнику.
- Где он?
- Бог знает...
- Жив или нет?
- Бог знает...
Он был, конечно, в степи. Случилось так, что вихрь разметал отару овец и погнал их прочь от аула. Тектыгул не пошел за ними и, когда подскочил с плетью бай, впервые в жизни не стерпел, сказал ему прямо в глаза, заплывшие жиром:
- Глядите, какая ночь... А я голый, босой! Один чекмень, и тот сгнил от пота, дыра дыре подмигивает... Дайте хоть поношенную одежду душу прикрыть.
Сальмен оторопел от неожиданности.
- Овцы гибнут... большая отара!... А ты еще торгуешься?
- Я прошу... будьте милостивы...
- Собака! Шкуру свою бережешь!
Тектыгул невесело пошутил:
- Она у меня единственная, последняя...
- Так я с тебя три шкуры спущу!
По знаку бая пятеро его молодцов набросились на Тектыгула, повалили наземь, и сам бай в исступлении стал бить его сапогами в грудь, а потом погнал в степь, и Тектыгул покорился. Пошел со стыдом, в тупом отчаянии, сказав:
- Ваш будет грех...
Бай проводил его яростной бранью.
Людей бросало в дрожь при одном взгляде на Тектыгула. Чекмень на нем изодран байскими подкованными сапогами, лохмотья висели, точно космы на верблюде во время линьки. Но все молчали, а бай кричал, подгоняя батрака плетью...
Тектыгул мог бы пришибить Сальмена насмерть ударом кулака, но батраку это и в голову не пришло. Он подумал об этом много позднее, когда сам лежал при смерти.
Бахтыгул велел Хатше присмотреть за косяком и поскакал в степь, зовя брата. Объехал окрестные холмы и лощины, собрал овец, но до рассвета не мог найти Тектыгула, а когда нашел и поднял его на коня, прикрывая от ветра и дождя своим телом, парень был ни жив ни мертв.
Хатша не справилась с косяком, лошадей разметало бурей, точно овец, и как только братья вернулись в аул, их обоих постигла свирепая хозяйская кара. Младшего били уже бесчувственного, бредящего в горячке, и старший не мог его оборонить. Били чем попало, без жалости и пощады, словно конокрадов.
После той ночи братья ушли от Сальмена. Бежали из аула козыбаков, унося на себе жалкий скарб, в соседнюю Челкарскую волость и укрылись в заброшенном ветхом отцовском зимовье, которое покинули двадцать лет назад.
Но вместе с ними вошла под родительский кров незримая медленная смерть, как некогда тиф. Вошла и стала в изголовье Тектыгула.
Парень слег и больше не поднимался. Всю зиму его бил, выворачивал наизнанку мокрый кашель. Тектыгул харкал густой кровью, выплевывал свою силу шматок за шматком.
Никогда прежде он не сетовал на судьбу, а теперь скулил сквозь зубы, как побитый щенок. Но не потому, что не видел в жизни счастья, не имел жены, не родил детей, и не потому, что не хотел помирать, а потому, что не сквитался с обидчиком. С детских лет Тектыгул был добряком, простодушным и покладистым, а тут словно злой дух в него вселился.
В дни зимнего забоя скота Бахтыгул послушался Хатшу - поехал к Сату, брату Сальмена. Поехал с открытой душой, с робкой жалобой.
Сат выслушал его терпеливо, ответил обстоятельно, как на бийском суде:
- Голодаете, говоришь? Хорошо, что ты не таишься, передо мной. Но у Сальмена вы не голодали! Помираете, говоришь? Хорошо, что ты не лукавишь. Но убитый умирает сразу, а избитый не умирает! Ты тоже попал под горячую руку, а жив... Болеет, говоришь? Вот она, истинная правда. Но ты знаешь, что это за болезнь! Кто из нас не болеет этой болезнью? Кто ее не боится? Родная мать Сальмена и моя жила в полном достатке, плавала в масле, а померла от чахотки. Кого прикажешь в этом винить? Сальмена? Или меня? А может быть, Хатшу, твою жену, ибо она прислуживала покойной? Видит бог, ты принудил меня сказать то, что не следовало говорить. Но как же ты посмел заикнуться, кто тебя надоумил - взыскивать с человека то, что отбирает бог?
Не позволив Бахтыгулу возразить ни слова, Сат отослал его от себя. И Бахтыгул ушел, горько смеясь в душе над Хатшой и над собой.
Ранней весной пробил час Тектыгула. Вслед за силой истекла из него жизнь. Незаметно погас в его глазах мутный свет.
Долго не мог утешиться Бахтыгул, долго оплакивал брата. Горевал сорок дней, а через сорок дней собрал немногочисленных и небогатых своих родичей из рода сары, истратил последнее, что имел, и устроил, как полагается, поминки по Тектыгулу.
На поминках говорили, что покойный был львом. Говорили про его муки. И еще про то, что род сары осиротел. Остался род без батыра.
«А я как без рук и без ног...» - думал Бахтыгул, повесив голову, и в сердце его, как в юрте, было пусто и голо.
Осенью Бахтыгул затеял тайное опасное дело. Выбрал глухую дождливую ночь. Приторочил к седлу бурдюк с малтой - супом, густо заправленным простоквашей, и пустился в горы. Вместе с ним увязался его давний товарищ и советчик - голод.
Бахтыгул ехал и думал:
«Осень заветная, долгожданная... Дожди шумят, дожди застят, дожди слизывают след... Если будет удача, к утру угоню ее за три перевала! Неужели я даром брожу, даром слежу, даром ее сторожу?»
Горы величаво громоздились в ночном небе. Бахтыгул едва различал в темноте тропу, но скалистые хребты, лесные скаты видел ясно. Пастух зорок, как пес. А места знакомые, исхоженные-изъезженные, любимые.
Издали днем горы походили на каменные юрты великанов, пустынные, недоступные смертным. Вблизи и в ночи они принимали иной облик, пугающе живой. Мохнатые дремучие заросли елей на крутизнах смахивали на шкуру громадного, сонного, мирно дышащего чудища. Лощины, точно уши с острыми по-
звериному настороженными концами, а пропасти - открытые пасти, дышат холодом и тленом, из них торчат клыки скал.
Но Бахтыгулу здесь ни страшно, горы ему родные; они встречали его тишиной, покоем, они манили его: иди, спеши, мы укроем тебя.
Правда, тропа ненадежна, особенно в дождь, в осеннюю ночь. Бахтыгул, не колеблясь, доверился своему коню. Его Сивый, крепкий, бывалый, привык карабкаться на кручи, ходить над обрывами, он цепок и ловок, как горный козел. Местами тропа сужалась в нитку, на ней рядом не умещались два копыта, но Сивый шел спокойно, плавно, легко, не прижимаясь боком к выпуклой скале справа, не кося пугливого взгляда на пропасть слева, шел, словно канатоходец.
Сивый выручит! Он чует, куда собрался хозяин. И когда Бахтыгул слегка сжимал ногами его бока в знак тревоги и опаски, конь вскидывал голову и дергал повод, не соглашаясь. Спина его мягко опускалась под седлом, как бы успокаивая: сиди смирно, пока не довезу, а там уж твое дело...
Бахтыгул ехал и думал - за себя, и за коня, и за тех, кто ему встретится:
«Вряд ли и вы рады такой погодке. Под дождем мы все как бездомные собаки! Посмотрим, у кого нос мокрей и кто из нас подожмет хвост... Сальменовцы вы или из других козыбаковцев - одинаково! Весь род козыбак у меня в долгу неоплатном».
Минула бесконечная ночь, короткий пасмурный день показался длиннее. С позднего ленивого рассвета до ранних сумерек Бахтыгул прятался, отсыпался в сосновом бору Сарымсакты, что значит чесночный, густо душистый... Бор, темный, дикий, пах сладостногорько, но на голодный желудок не спалось. Живот у Бахтыгула подвело, как у волка. Малта в бурдюке иссякла. И разве это еда для мужчины? Напиток... он для горла, не для желудка, а чем слабей жажда - сильней мука голода.
Бахтыгул едва дождался темноты. Сомнения его утихли. Он слышал один голос своего тайного советчика, неотвязного друга.
«Сальменовцы или иные ихние... хоть сам Сат... была не была!»
Сейчас табуны должны быть еще на горных пастбищах - джайляу. Рано им спускаться в степные низы. Там, на поднебесных лугах, нынче ночью и быть встрече... Видит бог, на ком вина...
И все же в глубине души Бахтыгул колебался. «Пускай сперва Сальмен оправдается!» - думал он, но ему самому хотелось оправдаться прежде, чем он сделает то, что задумал.
- У меня дома горсть размолотого черного проса... - шептал он в уши коню, - скудная горсть на всю семью... Дети послали меня сюда, они безвинные...
К. полуночи конь побежал быстрее. Тропа расширилась, скоро джайляу. Бахтыгул всей грудью почувствовал впереди простор. Он ободрился, распрямил усталую, озябшую спину. И в него и в коня вливались свежие силы, желанная удаль.
Теперь всадник походил на большую крепкогрудую птицу, которая медленно приподнимает крылья. Эта птица - старожил и хозяин здешних мест, горных высей, снежных белков. Вот-вот она расправит крылья, взмоет в небо и повиснет над скалистыми глыбами, бездонными ущельями Алатау, зорко высматривая добычу. Прицелится и вдруг ударит со свистом, подобно стреле, схватит и изломает железными когтями.
Вспомнил Бахтыгул шальное пьянящее чувство, с каким он в молодости хаживал в ночные набеги по воле козыбаков. Тогда он ощущал себя такой птицей. Летел сломя голову, бил не задумываясь, сплеча. Рядом с ним шел брат Тектыгул, юноша с нравом ребенка и с силой батыра.
Нет, они не были такими уж простаками, баранами, ломящимися лбом в лоб! Умели и выследить, под-
стеречь, обойти и обвести, перемахнуть на полном скаку через сонного, не разбудив, проскользнуть невидимкой под носом у бодрствующего, утерев ему нос. Были ловки, хитры, сметливы. Силе одной скучно, а вкупе со смекалкой весело. К. тому же были упорны: если не везло, не шла удача, с полпути не сворачивали, дрались яростно, неутомимо, один против двоих- троих.
Сейчас бы Бахтыгулу прежний азарт, былую беркутову хватку!.. Нет их и в помине. Что-то надломилось, надорвалось в груди.
Однако раздумывать некогда. Еще издалека Бахтыгул особым пастушьим чутьем почувствовал незримое движение по мягким мокрым травам многоголового табуна. Кони паслись за каменным седлом перевала, а Бахтыгул уже слышал их сквозь шелест дождя и посвист ветра.
