Свеча Дон-Кихота — Павел Косенко
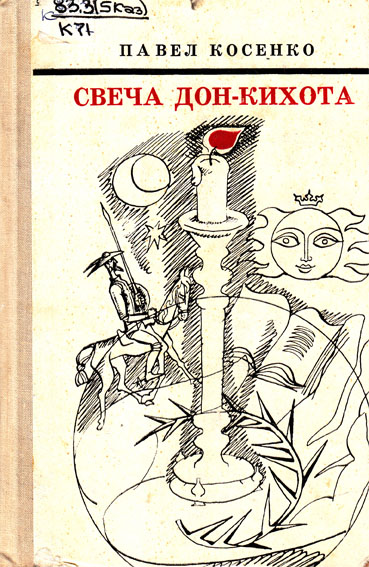
| Название: | Свеча Дон-Кихота |
| Автор: | Павел Косенко |
| Жанр: | Литература |
| Издательство: | |
| Год: | 1973 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 9
Стихи и поэмы Павла Васильева, посвященные теме расчета с прошлым,— это. как правило, произведения, полные боевого духа, гневной страсти, наступательного пафоса. Как правило. Но из этого правила есть и исключения. Пусть они редки, но молчать о них не стоит. В некоторых эпизодах своих поэм, говорящих о зле, о том ужасном, что принесено в жизнь бесчеловечностью капиталистического строя, Васильев вдруг на какое-то время теряет гневный накал своей речи. Зло, о котором он говорит, словно парализует поэта, он способен еще фиксировать его, но уже не борется с ним. В страстно написанной, исполненной живой боли картине казни аула Джатак внезапно режут слух фальшивой нотой холодные строки: «Женщины бросали под копыта коней кричащие камни детских тел».
Наше нравственное чувство горячо протестует против этого определения — «кричащие камни». Разве так следует говорить о самом ужасном — гибели детей? Да и вообще в самый поступок матерей, даже доведенных до предела отчаяния, поверить невозможно — конечно, и в последние секунды перед гибелью женщины прикрывали детей своими телами.
Подобные примеры можно привести и из «Синицына и К0». Там говорится, например, о нищем зейском ремесленнике: «И сотрясался от кашля, носом в ботинок тыча, чеботарь с харкотиной вместо зрачков. И проворная кошка лизала, мурлыча, кровавые пятна его харчков».
Здесь писатель перестает быть судьей жизни, здесь утрачен моральный критерий, что непременно должен присутствовать в самой образной ткани произведения. Тут зло победило поэта, загипнотизировало его.
В творчестве Васильева эти победы «сладковатого яда» прошлого были кратковременными, случайными. Он быстро приходил в себя, вновь становился на твердую почву социалистического гуманизма с его горячей любовью к трудовому человеку и столь же горячей ненавистью ко всему, что враждебно ему. Но в житейской биографии поэта этот не преодоленный до конца яд действовал сильнее и сыграл достаточно зловещую роль.
Васильев работает по-прежнему сумасшедше много. Он не может не творить, это его органическая потребность, это высочайшее наслаждение. Силы у него богатырские, и отчаянная работа не мешает его поездкам — летом тридцать четвертого он плывет от верховьев Иртыша до Салехарда и Нового порта, колесит по Средней Азии.
В московской писательской среде у поэта немало искренних друзей, радующихся от всего сердца его успехам. Чтобы убедиться, что Павел Васильев вовсе не был одинок среди столичных коллег (а такая версия возникала), достаточно привести воспоминания покойного Е. Н. Пермитина:
«Однажды вечером позвонила Лидия Николаевна Сей-фуллина.
— Приходите поскорее. Пришел Павел Васильев, собирается почитать новые стихи. Обещался приехать Михаил Шолохов. Будет В. Я. Зазубрин и еще кое-кто.
Помню, после прекрасной, взволновавшей всех слушателей поэмы «Лето», Павел Васильев, озорновато улыбнувшись огромными синими глазами, сказал: «Почитал бы я новые стихи «для курящих», да вот Лидии Николаевны смущаюсь. А написал я их, кажется, порядочно».
Мы все вопросительно уставились на хозяйку... Лидия Николаевна засмеялась и, обращаясь к поэту, стала просить; «Читай, Паша. В искусстве я не женщина, я на равных правах с мужчинами».
Павел Васильев прочел свои «Кунцевские дачи». Внимательней всех слушала и больше, заразительнее других смеялась Лидия Николаевна... Сидевший рядом с хозяйкой Михаил Александрович Шолохов склонился к плечу Валерьяна Павловича Правдухина, считавшего себя, как и Павел Васильев, казаком, и, тоже смеясь глазами, сказал:
— Здорово пишут казачки, будь они неладны...»
Васильев постоянно окружен молодыми поэтами. Начинающие ищут у него отзыва и совета, несмотря на то, что известно: автор «Соляного бунта» в суждениях о стихах всегда прям, не признает тут никакого этикета и может откровенно сказать, иному юному стихотворцу: «Брось, па-
рень, этим заниматься, все равно толку не будет». Но увлеченность трудом, к великому сожалению, уживается у Васильева со скандальными похождениями в московских «салонах» и ресторанах. Пусть этих похождений не так уж много — стоустая молва, сплетни, без которых не может жить окололитературная среда, удвоит, утроит, удесятерит их. И беда Васильева в том, что он не видит, не хочет видеть своего падения — ему кажется, что скандал лишь ширит его славу «второго Есенина».
«Слава» эта быстро перешагнула пределы Москвы. Донеслась она и до Омска, до родных Васильева. Николай Корнилович резко вспылил — и на этот раз с полным основанием. Виктор Николаевич вспоминает, как он стал свидетелем очень крупного разговора отца с сыном на эту тему во время одного из приездов Павла в Сибирь, разговора, закончившегося полной ссорой. Но и она не остановила Васильева, и, вернувшись в столицу, он не изменил образа жизни.
Долго так продолжаться не могло. И в июне 1934 года раздался гром — в «Правде» и «Известиях» одновременно печатается статья Алексея Максимовича Горького «О литературных забавах», где великий советский писатель сурово оценивает поведение молодого поэта в быту.
Собственно, сам Горький говорит о Васильеве всего несколько фраз, хотя и очень резких. Но он широко цитирует письмо, переданное ему «одним из литераторов», где дана довольно развернутая характеристика поэта. Сейчас, когда прошли десятилетия и страсти поулеглись, можно прямо сказать, что характеристику эту объективной назвать никак нельзя. Главный ее порок в том, что корреспондент Горького забывает: перед ним большой поэт, создатель прекрасных произведений советской литературы. Впрочем, «забывает» — не то слово. Из письма видно: его автор активно не приемлет поэзии Васильева, совершенно отрицает ее. По этому поводу спорить нынче нечего. Но недопустимость поведения поэта в письме отмечена правильно. Приходится, видимо, согласиться с его автором и в том, что влияние Павла Васильева на быт его молодых коллег по поэтическому цеху вряд ли было благотворным.
Васильев глубоко прочувствовал суровый упрек Горького. Он обратился к великому писателю с письмом, которое было опубликовано в «Литературной газете» 12 июля того же года:
«Глубокоуважаемый Алексей Максимович!
Ваша статья «О литературных забавах» подняла важный и неотложный вопрос о быте писателя.
Я хочу, Алексей Максимович, со всей искренностью и прямотой рассказать Вам, какое впечатление эта статья произвела на меня и о чем заставила задуматься.
Советская общественность не раз предостерегала меня от хулиганства и дебоширства, которые я «великодушно» прощал себе. Но только Ваша статья заставила меня очухаться и взглянуть на свой быт не сквозь розовые очки самовлюбленности, а так, как полагается, — вдумчиво и серьезно. ,
Стыдно и позорно было бы мне, если бы я не нашел в себе мужества сказать, что да, действительно, такое мое хулиганство на фоне героического строительства, охватившего страну, и при условии задач, которые стоят перед советской литературой, — является не «случаями в пивной», а политическим фактором. От этого хулиганства, как правильно Вы выразились, до фашизма расстояние короче воробьиного носа. И плохо, если здесь главным обвинителем будет советская общественность, а не я сам. Ибо ни партия, ни страна не потерпят, чтобы за их спиной дебоширили и компрометировали советскую литературу отдельные распоясавшиеся писатели.
Не время! Мы строим не «Стойло пегаса», а литературу, достойную нашей великой страны.
И Вы, Алексей Максимович, поступили глубоко правильно, ударив по мне и по тем, кто следовал моему печальному примеру.
Скандаля, я оказывал влияние на отдельных поэтов из рабочего молодняка, как например, на Смелякова. Я думаю, что Ваша статья отбила у них охоту к дальнейшим подражаниям и кроме пользы ничего не принесет.
Мне же нужно круто порвать с прошлым. Я прошу Вас, Алексей Максимович, считать, что этим письмом, я обязываюсь раз и навсегда прекратить скандалы и завоевать право называться советским поэтом.
Алексей Максимович! Мне, конечно, трудно рассчитывать на Ваше доверие. Но так как, я повторяю, я пишу это письмо с полной искренностью, я хотел бы прибавить ко всему сказанному еще несколько слов: имея значительные идеологические срывы в своих произведениях, я никогда не являлся и не буду являться врагом советской власти.
Это — независимо от мнений «поклонников» моего таланта и его врагов.
Это — я не раз докажу на деле.
Павел Васильев».
Это искреннее, честное письмо. Естественно, что Павел Васильев глубоко уважал Горького и что суровые строки первого писателя советской земли заставили его заново я тщательно продумать свое поведение. Он строго осуждает свои проступки и решает «круто порвать с прошлым». В то же время он не менее решительно отвергает обвинения тех своих «критиков», которые были готовы зачислить его во враги нового мира (в последних строках письма речь идет уже не о «Литературных забавах»).
Поведение Павла Васильева в быту глубоко огорчало многочисленных искренних почитателей его таланта. Большинство земляков поэта, далеких от московской жизни, только из статьи Горького узнало, на какую скользкую дорожку стал молодой литератор. И во время своей летней поездки по Иртышу Васильев держался предельно серьезно и в разговорах со знакомыми (об этом мне рассказывал семипалатинский писатель Дмитрий Черепанов) старался убедить их, что теперь со срывами покончено навсегда.
В том же номере «Литературной газеты» был помещен ответ Горького: «Я не стал бы отвечать Вам, Павел Васильев, если бы не думал, что Вы писали искренно и уверенно в силе Вашей воли. Если этой воли хватит Вам для того, что бы Вы серьезно отнеслись к недюжинному дарованию Вашему, которое, как подросток — требует внимательного воспитания, если это сбудется, тогда Вы, наверное, войдете в советскую литературу как большой и своеобразный поэт.
О поведении Вашем говорили так громко, писали мне так часто, что я должен был упомянуть о Вас, — в числе прочих, как Вы знаете. Мой долг старого литератора, всецело преданного великому делу пролетариата, — охранять литературы Советов от засорения фокусниками слова, хулиганами, халтурщиками и вообще паразитами. Это не очень легкая и очень неприятная работа. Особенно неприятна она тем, что как только дружески скажешь о ком-либо неласковое или резкое слово, — то тотчас же на этого человека со всех сторон начинают орать люди, которые ничем не лучше его, а часто хуже. Так было в случае с Панферовым: немедленно после моего мнения о небрежности его работы на Панферова зарычали, залаяли даже те люди, которые еще накануне хвалили его. Этих двурушнико, беспринципных паразитов пролетариата нужно ненавидеть, обличать, обнажать их гнусное лицемерие, изгонять из литературы, так же, как всякого, кто так или иначе компрометирует советскую литературу, внося в нее всякую дрянь и грязь».
Мягкость тона горьковского ответа, так не похожая на гневную интонацию «Литературных забав», не может не удивить. Великий писатель указывает, что критиковал он молодого поэта «дружески» и «в числе прочих», очень тепло говорит о его даровании. В то же время Алексей Максимович настроен отнюдь не благодушно: вторая часть ответа — о конъюнктурщиках, «орущих» на человека, подвергнутого Горьким критике, — написана с беспощадной резкостью.
«Ор» уже шел вовсю. «Литературная газета» сообщала, что только за неделю в Москве состоялось три больших собрания, посвященных обсуждению «Литературных забав». Причем хотя в горьковской статье говорилось не только о Васильеве, да и вообще не об одном писательском быте, внимание сосредоточилось на молодом поэте.
Ответ Горького положил этому конец. Павел Васильев получил возможность спокойно работать. Редакции газет и журналов вновь гостеприимно открывают перед ним двери. Уже 24 июля в «Известиях» публикуется его «Лето», 1 августа — «Песнь против войны», в августовской книжке «Нового мира»— «Синицын и К0».
В чем же все-таки причина заметной перемены отношения Горького к молодому поэту? Дело в том, что за прошедший месяц великий писатель получил возможность лучше узнать творчество молодого поэта и по-настоящему оценить его.
Я слышал рассказ И. М. Гронского о том, как однажды вечером, вскоре после опубликования «Литературных забав», кто-то из посетителей Горького заговорил о чрезмерной резкости тона статьи. Алексей Максимович недовольно прервал его. Тогда А. Н. Толстой открыл свежий номер журнала и начал читать стихи. Горький слушает все более внимательно, просит прочесть еще. Второе стихотворение, третье, четвертое — на глазах Алексея Максимовича слезы. Он отрывисто спрашивает:
— Кто автор?
— Павел Николаевич Васильев, — отвечает Толстой.
Горький встает и, ссутулившись больше обычного, выходит из комнаты. Больше к гостям он в этот вечер не возвращался.
Как бы хорошо было вот здесь закончить рассказ о Васильевских «похождениях»! Как бы идеально все это выглядело: мудрые наставления великого писателя спасли молодого писателя, вытянули его из трясины богемщины, куда он погружался, вернули на правильный путь...
К сожалению, получилось не так. Разумеется, Павел Васильев был искренен, когда писал Горькому. Но ведь вполне искренним— если верить Льву Толстому—был и Пьер Безухов, давая князю Андрею слово покончить с «этой жизнью». И дав слово, поехал к Долохову и кончил ночь купанием в Мойке квартального, привязанного к спине медведя... Как бы там ни было, но через полгода после «Литературных забав» Васильев оказался участником нового крупного скандала. На этот раз с ним поступили без снисхождения. Решением секретариата ССП он был исключен из Союза писателей. В печати появилось письмо группы литераторов, требовавших не только общественного, но и юридического осуждения Васильева. После этого письма он был арестован и осужден.
Трудно сейчас, спустя столько лет, раздать тут «всем сестрам по серьгам». Бесспорно, Павел Васильев был во многом виноват. Исключение из Союза, видимо, следует считать своевременной мерой, справедливым наказанием, которое могло остановить Васильева. Были, надо думать, свои основания и у литераторов, подписавших письмо с требованием его осуждения, — находился же среди них, например, Корнелий Зелинский, внимательно и доброжелательно следивший за творчеством поэта, а после его посмертной реабилитации написавший первый критико-биографический очерк о нем. Но если подумать, что из двух лет жизни, оставшихся поэту, один был отнят у творчества...
Этот год мы пропускаем.
Когда Васильев возвращается в Москву, знакомым кажется, что переменился он мало. По-прежнему он оживлен, даже несколько афиширует свою житейскую беззаботность. Гонорары опять немалые, но тратит он их налево и направо. Его стиль: ну, подумаешь, ничего особенного не случилось. Было — прошло. Жизнь длинная — все забудется.
По-прежнему он много читает, живо интересуется всеми событиями в стране и мире. По-прежнему сильна его страсть к путешествиям. Летом тридцать шестого он опять в Средней Азии, потом приезжает — в последний раз — к родителям в Омск. Николай Корнилович смотрит на него ласково — сын прощен, за свои грехи он заплатил сторицей. А Павел возбужден, утром бегает за газетами, часто включает радио: в Испании вспыхнул мятеж против республиканского правительства. Быстро становится ясным: испанских фашистов активно поддерживают фашистские правительства Германии и Италии. Молодые волки гитлеровского люфтваффе бомбят мирные испанские города. Нет сомнений: Испания — пролог к кровавой мировой драме, подготовляемой фашизмом.
— Скоро мы будем бить морду Гитлеру, — говорит отцу Павел, и лицо его становится жестким. — Лично я буду это делать с величайшим удовольствием.
...И работает Васильев по-прежнему страшно много. По-прежнему? Нет, еще больше. Опять, уходя спать, жена ставит ему на стол стакан крепкого чаю — ночь напролет бодрствует он с пером в руках. Словно наверстывает упущенное. Словно знает— остаются месяцы.
Но нередко оживление спадает. Тогда Васильев хмур, замкнут, раздражителен. Он-то знает — изменилось многое. Короткая слава прошла. Господи, чего только не наговорила о нем критика за время его «отсутствия»! Новые его стихи и поэмы принимают в редакциях без прежней охоты, многие из них в журналах и газетах лежат месяцам ми, многие остаются вообще ненапечатанными. И в поэме «Христолюбовские ситцы» он с горечью обращается к своему герою: «Не так же ль нас с тобой хвалили, не так же ль нам с тобой сулили? Мы разонравились теперь!»
Ох, как чадит теперь его недавняя слава! И сколько обид (и не только обид) несет этот чад!..
...Года два назад старейшая киносценаристка К. Виноградская в интервью корреспонденту «Советского экрана» прозрачно намекнула, что героя своего нашумевшего в 1936 году фильма «Партийный билет» она писала, думая о Павле Васильеве. Стоит напомнить, что герой этот (прекрасно сыгранный Абрикосовым) — скрывающий свое происхождение сын кулака, становящийся вредителем и фашистским шпионом.
Не без кокетства маститая кинодраматургесса комментирует свое признание: «...Конечно, образ поэта и образ героя «Партийного билета» не совпадают. Но совпадает посыл обоих характеров: рывок в Москву «за судьбой», карьеризм по-растиньяковски... Это был острейший материал... бил в самую точку».
Многие в тридцать шестом били Павла Васильева «в самую точку».
Васильев стремился вновь завоевать внимание читателей. Он напрягает все свои творческие силы, пишет о своей общественной позиции с такой прямотой, с которой никогда не высказывался раньше. Особенно отчетливо это видно в стихотворном послании к Демьяну Бедному, поэту-большевику, чей поэтический «подвиг ежедневный» Васильев давно уважает: «Не жидкая скупая позолота, не баловства кафтанчик продувной, — строителя огромная работа развернута сказаньем предо мной. ...Как никому, завидую тебе, обветрившему песней миллионы, несущему в победах и борьбе поэзии багровые знамена».
Павел Васильев хочет стать поэтом-строителем, быть в рядах созидателей нового мира, поднимавших в тайге и древней степи гиганты-заводы, прокладывавших каналы в пустыне, осваивавших ледяные просторы Арктики. Поэт видит в героических буднях пятилетки продолжение героической эпопеи гражданской войны. И в своих новых произведениях — эпического плана — он обращается к истории советской страны, останавливаясь на наиболее важных, этапных ее моментах. Именно здесь он и достиг самых крупных своих удач последнего периода творчества. Когда он непосредственно обращался к современности, в частности, к изображению колхозной жизни, сказывалось его слабое знакомство с конкретным бытом тогдашней новой деревни. Так, поэма «Женихи» получилась неудачной, поверхностной, сказочные мотивы в ней кажутся искусственными, юмор — грубым, натужным.
Но совсем по-другому звучат поэмы Павла Васильева о недавнем прошлом — о гражданской войне, об эпохе коллективизации — «Принц Фома», «Кулаки». Последняя поэма Васильева «Христолюбовские ситцы» тематически стоит несколько обособленно, но идейно-художественный уровень ее лучших страниц так же высок, как и у названных двух поэм.
Маленькая поэма «Принц Фома» блистательно развенчивает «романтику» мещанского анархизма. Анархистский «вождь» махновского типа, «мужицкий князь» Фома, выглядящий сначала мрачной, но по-своему внушительной, даже драматической фигурой, на поверку оказывается зауряднейшим обывателем, мелким собственником, вынесенным исторической конъюнктурой на гребень волны, но и на взлете своем остающимся удивительной мелкотой. Фома захватывает города, выпускает свои деньги, но в подкладке его бекеши предусмотрительно зашиты восемьсот рублей на случай быстрого бегства. Знаменательна тут сама мизерность суммы — шире размах Фомы не идет. И поэтому смехотворны попытки интервентов опереться в борьбе против Советской власти на «принца» Фому.
«Так шел Фома, громя и грабя... А между тем в французском штабе о нем наслышались, и вот приказом спешным, специальным по линии, в вагоне спальном Жанен к нему посольство шлет».
Злой пародией выглядит в поэме обращение к войску Фомы жаненовского посла, щеголяющего перед малограмотными бандитами, которых ничто, кроме грабежа, не интересует, «демократической» фразеологией, оправленной традиционным галльским красноречием: «С народом вашим славным в мире решили мы создать в Сибири против анархии оплот, и в знак старинной нашей дружбы семь тысяч ящиков оружья вам Франция в подарок шлет. Три дня назад Самара взята. Марше! В сраженье, демократы, зовет история сама. Я пью бокал за верность флагу, за вашу храбрость и отвагу, же ву салю, мосье Фома!»
Буффонность фигуры Фомы показывает сама интонация повествования, заставляющая сразу же вспомнить об иронических поэмах Пушкина. И то, что об исторически значительных вроде бы событиях— как же, поход «мужицкого князя» — повествуется слогом, каким говорилось о ничтожнейшем графе Нулине, сразу же устанавливает микроскопический масштаб этих событий и их деятелей.
Близость интонации «Принца Фомы» к пушкинской заметил и первый критик последних поэм Васильева А. Тарасенков. Но вывод из своего наблюдения он сделал поистине удивительный: «Совершенно возмутительное впечатление производит пародирование П. Васильевым пушкинской легкой и четкой иронической повествовательности, на которое мы внезапно натыкаемся, читая описание «величия и падения» белого бандита времен гражданской войны. Нет, Пушкин нам слишком дорог, чтобы можно было равнодушно пройти мимо такого циничного и развязного разбазаривания его бессмертных приемов».
Слова насчет «разбазаривания бессмертных пушкинских приемов» сейчас сами кажутся пародией. Но, увы, писались они на полном серьезе. А статья Тарасенкова была единственным печатным откликом на замечательные последние поэмы Павла Васильева. Называлась статья «Мнимый талант».
«Кулаки» критику тоже крайне не понравились. Оставим в стороне его милый упрек в том, что, «внешне проклиная кулаков, П. Васильев ими несомненно любуется» — это из области весьма распространенного тогда «чтения в сердцах». Но, говоря о поэме, Тарасенков находит также, что «сюжет ее невероятно надуман и искусственен». На этом стоит остановиться.
Сюжет «Кулаков», как обычно у Васильева, очень прост и однолинеен. В разгар коллективизаци в станице Черлак (она лежит на берегу Иртыша между Павлодаром и Омском) деревенский богатей Евстигней Ярков — может быть, сын атамана Яркова из «Соляного бунта», — боясь раскулачивания, делает попытку вступить в колхоз, отдав артели все свое добро: «Может, кого на кривой объедем», «нету возможностей супротив — значит возможность наша — выждать». Хитрость не удается, беднота слишком хорошо знает породу Яркова: «Не надо нам кулацкого в колхоз лисья». Загнанный кулак уходит, хлопнув дверью: по его подговору подкулачники братья Митины убивают сельских активистов — председателя сельсовета Александра Седых и учительницу Марию Ивановну. Что же здесь «невероятно надуманного»,- «искусственного»? Это уж секрет Тарасенкова.
Заслуга «Кулаков» прежде всего — в чрезвычайно рельефном изображении власти собственности над душой богатого мужика, вложившего в эту собственность все свои силы: «Приросло покрепче иного к пуповине его добро, и ударить жердью корову — Евстигнею сломить ребро».
Даже бог Яркова, бог кулацкого Черлака, где торчат «юбки каменные церквей», где перекатывается колокольный звон — «волны медные православья», — это кулацкий бог, «хозяин, владеющий, нераздельно».
К какому озверению приводит кулака защита этой неправедно нажитой собственности, показывает страшная сцена «торга» сына Евстигнея Игнашки с подкулачниками: Митиными— «торга» за головы активистов: «Ну ладно, будем считать поденно, как говорят, али сдельно. Учительшу эту — как ее звать?— вместе с Алексашкой в расчет принимать, али ее принимать отдельно? Больно худа...»
Простота сюжета «Кулаков» оттеняет сложность содержания поэмы, точно передающего сложность воссоздаваемого автором исторического периода, многообразие позиций крестьян в те годы, нередкую противоречивость этих позиций.
Уделяя основное внимание семейству Ярковых, «изнутри» показывая крушение кулачества, поэт, хотя и лаконично, но выразительно и с большим сочувствием рисует образы строителей новой, колхозной, деревни, людей бескорыстных, самоотверженных — Александра Седых, учительницы, вчерашних красных бойцов гражданской войны Редникова, Юдина, Левши.
Вместе со «Страной Муравией» Александра Твардовского «Кулаки» Павла Васильева остаются в советской поэзии самым ярким и значительным отражением коллективизации.
«Христолюбовские ситцы» — новый взлет Васильевского таланта, новый яростный бой с темными силами прошлого, с его гнильем, «что ползет дрожа» и оставляет след в людских душах, коверкая, калеча их. В первых же строках поэмы возникает ставший ныне хрестоматийным образ чудовищных цветов: «Четверорогие, как вымя, торчком, с глазами кровяными, по-псиному разинув рты, в горячечном, в горчичном дыме стояли поздние цветы».
Этот образ лейтмотивом пройдет затем через всю поэму, олицетворяя удушливую, темную «красоту» прошлого, пустившего корни в душе человека. О них нельзя забывать, об этих корнях, они смертельно опасны, их соки ядовиты, корни эти должны быть вырваны везде — вот о чем кричит поэма Васильева.
Художник Христолюбов искренне хочет служить новой жизни, людям нового общества. Но узкий и мрачный взгляд на мир, доставшийся Христолюбову в наследство от предков-иконописцев, незаметно для самого художника подчиняет его себе, и на расписанных им ситцах, торжествуя, встают зловещие видения прошлого.
«На них в густом горчичном дыме, по-псиному разинув рты, торчком, с глазами кровяными стояли поздние цветы. Они вились на древках — ситцы, но ясно было видно всем — не шевелясь, висели птицы, как бы удавленные кем. Мир прежних снов коровьим взглядом глядел с полотнищ... И, рябой, пропитанный тяжелым ядом, багровый, черный, голубой, вопил, недвижим!..»
Во второй половине поэмы Васильев, помня, должно быть, слова из статьи «Мнимый талант» о том, что он еще и не приступил к идейной перестройке, торопится засвидетельствовать свою ортодоксальность, свой оптимизм — заставляет Христолюбова ударными темпами прозреть и перестроиться после бесед с другом детства Смоляниновым и поездки в колхоз (который изображен так же сусально, как и в «Женихах»).
Финал поэмы неубедителен, но ее первая часть — большая творческая победа Васильева.
«Христолюбовские ситцы» были опубликованы только двадцать лет спустя — в 1956 году.
Все реже Васильева видят оживленным. Круг знакомых редеет. Поэт составляет свою первую книгу стихов — она должна называться «Путь на Семиге». Работает без обычного веселого ожесточения, даже с прохладцей — нет никакой уверенности, что ее издадут — ведь «Христолюбовские ситцы» редакциями не приняты, без движения лежат в редакционных портфелях новые лирические стихи. Васильев непривычно часто встает из-за стола, бесцельно бродит по комнате, мурлыча пошловатые слова песенки, сочиненной старым приятелем: «Во уж к двадцати шести путь мой близится годам, а мне не с кем отвести душу, милая мадам».
Наступает новый год.
Январская ночь. За окном метель. Снег пляшет в свете уличных фонарей, шапкой лежит на крышах домов, на открытых кирпичных стенах строящихся зданий. Все давно заснули. Спит хозяин квартиры, спит его семья. Спит Елена, Павел Николаевич сидит у стола с пером в руках. Надо работать.
Он изменился. Ушла с лица юношеская угловатость, глубже и в то же время мягче стал взгляд. Зрелый, много испытавший и много продумавший человек сидит за столом в эту январскую ночь.
Сколько тысяч строк написано! Но главное — впереди. Еще не найдены те слова, которыми в полный голос можно сказать о Родине, о ее замечательных людях. Он сумеет найти эти слова. Он чувствует в себе силы для этого.
Поэт закрывает глаза и видит всю свою страну, идущую на штурм неслыханных высот — бессонные заводы, самолеты над Ледовитым океаном, часовых на границе в высоких шлемах. Как мало он еще рассказал о них! Надо работать. Работать!
И он придвигает поближе кипу чистых листов.
1966—1971
