Автобиографический рассказ — Габит Мусрепов
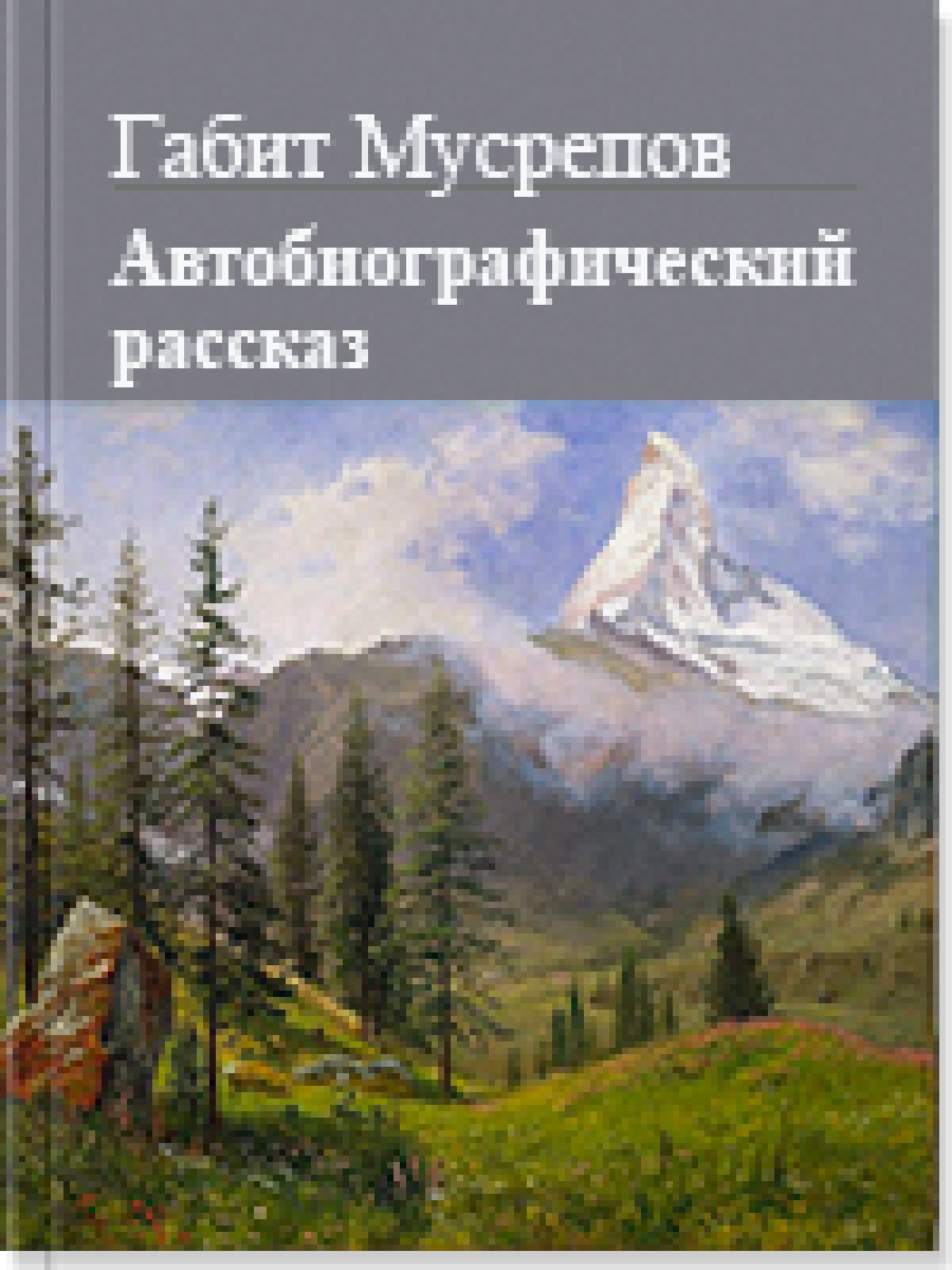
| Название: | Автобиографический рассказ |
| Автор: | Габит Мусрепов |
| Жанр: | Биографии |
| Издательство: | |
| Год: | |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
Страница - 2
Вот из таких картинок и состояло мое выпускное сочинение - в ученической тетради оно заняло десять страниц.
А через день или два весь наш класс толпился в коридоре, у закрытой двери учительской. Вызывался по одному. Нас, великовозрастных, было девять, как я уже говорил. Восемь переступили порог и возвратились с бумагами в руках: свидетельствами об окончании школы.
Я настороженно прислушивался. В учительской шел какой-то спор. Звонкий обычно голос Сильвии Михайловны звучал приглушенно - сердито и обиженно. Она на чем-то настаивала, а с ней, видимо, не соглашались. Один только раз мне удалось разобрать ее запальчивые слова:
- А я вам всем говорю!..
Мои товарищи держали свидетельства в руках, словно боялись их помять в карманах или потерять. Они сочувственно посматривали на меня, а потом ушли, когда выяснилось, что дело тут долгое.
Я провел в одиночестве часа полтора. Наконец дверь распахнулась, и Сильвия Михайловна, вся раскрасневшаяся, возбужденная, пригласила меня в учительскую. Я вошел ни жив ни мертв. Директор хмуро листал мою тетрадь с сочинением. Он с укором взглянул на меня: «Ты видишь?»- было в его взгляде.
Да, я видел... Фиолетовые строки, сплошь исправленные красными чернилами Сильвии Михайловны, словно там шел кровопролитный бой, ни одного живого слова не осталось. Мои несогласованные склонения и спряжения, причастия и деепричастия напоминали стоящие вкось и вкривь крестьянские телеги на ярмарке.
- Сто пятьдесят!- воскликнул директор.- На десяти страницах сто пятьдесят ошибок!
Я совсем сник. Как теперь быть? Остаться еще на год в школе? Или бросить все, уйти? Но тут директор неожиданно показал мне последнюю страницу.
Невероятно, но теми же красными чернилами там была написана большая цифра - 5. И вызывающе подчеркнута двумя красными чертами. Я закрыл глаза и снова открыл их.
Директор больше не хмурился. Он улыбался.
- Нет, это тебе не чудится...- Его голос звучал доброжелательно.- Скажи великое спасибо Сильвии Михайловне. Это она... Она одна против всех нас. Убедила. Говорит, что ты станешь писателем.
Сильвия Михайловна сидела за столом. Директору она улыбнулась победно, а мне - ободряюще, дружески. Так я впервые услышал о том, что меня ждет впереди. Ни о каком писательстве я тогда, конечно, не помышлял. Я рвался домой - наводить порядки в своем ауле, в своей волости. По слухам, баи ловко приспособились и к новым условиям.
Парень, который вернулся в родной аул летом двадцать первого года, был не похож на того, который когда-то уезжал отсюда. Возмужал? Да... Много повидал? Да, ты много повидал... Так я разговаривал сам с собой, сидя на берегу моего озера и глядя на свое отражение в спокойной прибрежной воде.
Я действительно изменился. На эту мысль меня наталкивало и то, что «советский учитель» Есым Досболов разговаривал со мной как равный с равным.
Если бы кто-нибудь издали наблюдал за нами, то подумал бы: эти двое вот-вот подерутся. Вскакивают с места, размахивают руками, кричат друг на друга.
На самом деле мы проявляли полное единодушие и просто убеждали один другого, что дальше терпеть нельзя. Волостной Совет, аульные Советы по-прежнему в руках баев. Они вроде в стороне, должностей там не занимают: Действуют через подставных; целиком от них зависимых и послушных их воле. Лжебельсенды - называли таких людей в газетах. Ложный актив. По существу байские прихвостни.
Однажды Есым, я и с нами еще трое активистов, которые думали так же, как мы, с утра поехали в аул, где находилась новая власть - волревком.
Председателем его был сын одного из баев, и весь состав ревкома состоял из представителей различных сильных родов.
На каком-то новом языке, угрожающем по своему скрытому характеру, мы потребовали созыва волостного съезда и обсуждения дел в волости.
Председатель волревкома кивнул и ушел, пообещав вскоре вернуться.
- А что, если они не захотят уступить?- задумчиво обратился к самому себе Есым.
- Как - не захотят!- Это бурлили мои девятнадцать лет.- Людям все объясним, они заставят их подчиниться! И не забывай, что я родился в год барса.!-Я воинственно взглянул на свою партизанскую берданку, осмотрелся по сторонам, нет ли поблизости кого-нибудь, кто захотел бы оказать нам сопротивление. Председатель вернулся.
- Собирать людей - много займет времени;- сказал он.- Кто на джайляу, кто еще на зимовке... У каждого своих дел много. Лучше.мы сами... Хотите отстранить нас от работы - пожалуйста! Отстраняйте. Беритесь сами - и управляйте делами. А мы уходим по доброй воле.
Видимо, они не захотели на людях обсуждать, спорить до хрипоты, опровергать справедливые обвинения. Шума не захотели.
Так на протяжении получаса в нашей волости были смещены без разбора председатель волревкома, секретарь, военком, заведующий отделом народного образования, заведующий земельным отделом. Мы принялись распределять между собой обязанности.
После похода с партизанами я стал питать особое пристрастие к оружию. Шашка на поясе, винтовка за плечами, а еще лучше - наган в кобуре, и больше мне ничего не надо!
Учитывая боевой опыт, меня единогласно решили назначить военкомом.
Очень странно, но в губернском центре нас не только не осудили за беззаконие, за самоуправство, а утвердили в новых должностях. Утвердили и наше первое решение - о переносе волостной столицы в другой аул. Есым убедительно обосновал его: у бывших хозяев здесь слишком много приспешников, а в другом ауле, в бедняцком, нам легче будет сговориться с людьми.
Но старый аул со скрипом поддавался новшествам. Вспоминаю свои разговоры с одним пожилым человеком из соседнего аула, его звали Омар.
- А ты чей же будешь, парень? Чей родом?- спрашивал он, не узнавая меня и после двадцатой встречи.
Внимательно выслушав ответ, он продолжал расспросы:
- А-а... Как же! Вот, оказывается, ты кто. Я тебя узнал... Все еще на старом месте?
-Да, Омеке, на том же самом.
- А кто теперь ваша милиция?- Он имел в виду главное лицо в волости.
- Все тот же молодой жигит.
- Ну слава аллаху... А каператып - кто?- Это он интересовался председателем потребкооперации, который считался вторым по влиятельности чело веком в волости.
- Вы его знаете, Омеке. Высокий такой...
- Значит, все по-прежнему, все на своих местах. Ну слава аллаху, слава аллаху.
И мы расставались до следующего раза, когда все эти вопросы повторялись в той же последовательности; Других вопросов я от Омара не слышал. Он знал одно: милиция - это власть. Каператып - лавка. От власти лучше подальше, к лавке - поближе... Хорошо, что на этих местах остались прежние люди, которых он уже знал и к которым привык.
Я искренне огорчился, когда через девять месяцев в волостях: упразднили должность военкома й я лишился своего оружия. Кто знает, не случись этого, я бы сегодня ходил в генералах, а не остался на всю жизнь рядовым солдатом.
А тогда я не мог примириться с мыслью, что должен буду расстаться с оружием, и потому пошел работать в милицию, заместителем начальника, а в аулах меня стали звать Габит- орынбасар.
Но время шло, и я все чаще вспоминал разговоры с Бекетом Утетлеуовым, его советы и наставления. Вспоминал пророчество Сильвии Михайловны. Но вместо поэм и рассказов я пока писал протоколы: лошадь мухортой масти, украденная у Мухаммеджана из аула Алдай, задержана в Пресновке, но ее новый хозяин Тулеу отрицает, что он ее украл, а говорит, что купил...
Я принимался за расследование, но уже понимал^ что эта работа - не навсегда, не надолго, что меня ждут новые дороги.
Домой на побывку приехал Сабит Муканов; Мы с ним встретились. Это было в разгар лета, в двадцать третьем году.
Оказывается, Сабит к тому времени давно пере* кочевал в Оренбург, на рабфак. Что такое рабфак?.. Рабочий факультет. Туда принимают тех, для кого в прежние годы дорога к высшему образованию была закрыта.
Честно говоря, я завидовал Сабиту. Ведь он с восемнадцатого года жил в больших городах, его кругозор был гораздо шире, чем у меня. Он легко и свободно рассуждал о положении дел в стране, о будущем Казахстана, о международных отношениях.
Юрынбасар - заместитель.
И знал об этом не понаслышке, а из первых рук - из Оренбурга[5]. Жил он у самого председателя Совнаркома - поэта-революционера Сакена Сейфуллина, который поддерживал подающую надежды творческую молодежь. И это понятно: ведь председатель Совнаркома республики Сакен Сейфуллин - один из основоположников современной казахской литературы, большой поэт, чьи стихи расходились по нашему степному краю, пожалуй, быстрее, чем подписанные им постановления.
- Едем!- говорил Сабит,- Что тебе здесь сидеть? А в Оренбурге у нас - знаешь...
И начинал рассказывать о своих знакомствах, встречах, о своих стихах.
Его слова падали в благодатную почву. Я мысленно представлял себя там, в большом городе, среди студентов. Я удивлял их своими рассказами об увиденном, своим знанием жизни...
- Ты говоришь - едем? И я говорю - едем!- так однажды заявил я Сабиту.
Остались позади юрты родного аула. В который раз... Я оборачивался в седле. Юрты исчезли из глаз. Мой конь, сообразив, что дорога предстоит не близкая, что это не просто поездка в соседний аул, перестал упрямиться, заворачивать обратно и пошел веселее.
Наконец добрались до Петропавловска, а там пришлось распрощаться с верным конем, который по крайней мере трижды уносил меня от гибели. Как сейчас помню: в Петропавловске ухожу с постоялого двора, а он смотрит мне вслед, словно понимая, что наша разлука навсегда.
Конь у меня был рыжий, с белой звездочкой на лбу, а задняя нога в белом чулке.
В Оренбурге Сабит с вокзала повел меня на квартиру Сейфуллина. Поэта-председателя окружало столько молодых поэтов, певцов, композиторов, что появление еще двоих не могло его удивить. Еще двое? Ну еще двое...
Правда, самого Сакена мы почти не видели. Когда он возвращался из поездок в Оренбург, то с утра до поздней ночи бывал в Совнаркоме. Кроме того, он занимал и пост редактора в газете «Енбекши казах», единственной, выходившей на казахском языке. (Сейчас это - республиканская газета «Социалистик Казахстан».)
Он все время уходил, но с нами оставались его стихи. В стихах и великолепный скакун, который соперничает с ветром, и задумчивая домбра, которой известны самые сокровенные движения человеческой души, и огненный паровоз, который стремительно и неудержимо проносится сквозь древнюю степь, пожирая пространство,- все эти образы становились революционными символами.
Стихи мы читали в тесной каморке, в квартире Сейфуллина.
Единственное окно выходило на веранду. Здесь было темновато, но это нас даже устраивало. Можно не очень следить за чистотой. Не обязательно подметать пол, не говоря уже о том, чтобы его мыть. Я был по натуре беспечен, и Сабита тоже не приходилось считать образцом порядка и организованности.
По углам валялись махорочные окурки. Мы их не выметали сознательно. Когда по ночам у нас кончался «темеке», то до утра мы не беспокоились о куреве, подбирая «бычки». Тогда-то я и понял, что безалаберность в иных случаях приносит неоспоримую пользу.
На ночь мы вдвоем устраивались на односпальной железной кровати. Сетка была давно порвана, и мы накрыли кровать фанерными листами от ящиков из-под чая.
Часто среди ночи раздавался грохот, сопровождаемый приглушенными чертыханиями,- мы своими боками проверяли прочность пола. Хочешь не хочешь, приходилось подниматься и наскоро латать кровать. Сабит тут же засыпал снова, не обращая внимания на подозрительные шорохи и потрески-вания.
Конечно, чего бы проще - заменить изломанную фанеру новой. Но Сабит полагал, что я должен этим заняться, а я думал, что он. Мы прожили в комнатке почти полгода, и все это время сопровождалось однообразными ночными происшествиями.
Сабит как одержимый писал стихи, и ни на что другое у него не оставалось ни желания, ни времени, ни сил. Он радовался каждой удачно найденной рифме и заставлял меня радоваться вместе с ним. А я посматривал на него из-за учебника и думал с опаской: к добру ли Сильвия Михайловна, славная женщина, предсказывала мне писательскую будущность? Неужели и меня ждет это: ради какого-то одного олова мучиться так, словно тащишь огромный мешок и вот-вот свалишься под его тяжестью...
Но если бы не литературные упражнения Сабита, мне туго пришлось бы в ту оренбургскую зиму, особенно в первое время. Сабит печатал свои стихи в газете, в журналах и получал за это гонорар. Он и меня убеждал -писать. Но я пока не мог решиться, и он стал приносить из редакции для перевода различные постановления, директивы, отчеты, которых и в те годы было много.
Официальные документы порой переводились так приблизительно, таким оказененным языком, что люди на местах - а им эти материалы адресовались в первую очередь - вряд ли понимали, о чем вообще идет речь.
Должен признаться, что и я внес посильный вклад в это дело. Но так или иначе, переводчику платили. Гонораров Сабита и моих заработков за непреднамеренное искажение официальных материалов вполне бы хватило на безбедную жизнь. Но мы совершенно не умели расходовать деньги и потому подчас влачили жалкое полуголодное существование.
На рабфак Сабит поступил годом раньше меня и сейчас учился на втором курсе, а я на подготовительном. Но в середине зимы мы, с ним встретились на первом. Меня досрочно перевели за успехи. А у Сабита оставалось несколько «хвостов» (тогда-то я узнал впервые слово, хорошо известное студентам всех поколений), и его вернули назад.
Он не очень огорчился. «Большевики не падают духом и не отступают перед трудностями»,- сказал он мне и продолжал по- прежнему писать стихи. А весной, когда экзамены уже хватали нас за глотку, неожиданно собрался и уехал.
Оставшись один, я уже не с той прилежностью сидел над учебниками и тетрадями. Я все чаще отвлекался от формул и 42 дат. Я мог понять, как это случается: уносишься в другой мир, в гущу каких-то событий, известных только тебе, и чуткие пугливые образы толпой обступают тебя. В такие минуты, оказывается, можно забыть про все на свете: про «хвосты», про то, что да сегодня не завтракал, а вчера не ужинал, про свидание, назначенное не воображаемой, а самой настоящей девушке...
Перелистывая томик Пушкина, я неожиданно нашел подтверждение своим новым ощущениям:
Мгновения бывают у поэта,
Когда он высший обретет покой,
И дар, огнем торжественным согретый, Воспрянет в суете мирской.
Тогда в стихи легко ложатся строки
И проливаются струей живой,
И дума вдохновенная глубоко
Овладевает всей его душой.
Сомнение, робость, неверие в собственные силы -вот что мешало вдохновенной думе глубоко овладеть моей душой.
Но зато на рабфаке я стал прилежным читателем. Преподаватель литературы Карл Карлович Безин, из обрусевших немцев, вопреки сложившемуся мнению, что немцы - народ пунктуальный, мог на полуслове прервать лекцию и читать, читать подряд Байрона, Беранже, Пушкина, Лермонтова, Блока, Гёте, Шиллера, Гейне... Я не знаю, все ли однокурсники разделяли его увлеченные порывы. Про себя скажу: я разделял.
Карл Карлович привил мне любовь не только к стихам. Гоголь, Горький и Джек Лондон - я не расставался с их книгами. И хитрый, обходительный Чичиков, буян Ноздрев, Челкаш, неподвижный мальчик из рассказа «Страсти-мордасти», Смок Беллью со своим верным другом Малышом - они стали для меня такими же взаправдашними людьми, как и мой земляк Омар, постоянно задававший одни и те же вопросы, как Бекет Утетлеуов, как Сильвия Михайловна, как Батима, дочь дяди Ботпая.
Я видел: жизнь, которая окружала меня с детства, которую я знал до мельчайших подробностей и со всеми оттенками этих подробностей, может стать материалом
литературы, если бы нашелся писатель, знающий ее столь же хорошо, как мы - степняки. И я с самонадеянностью молодости решал - мне, мне надлежит попробовать свои силы и сказать свое слово!
А решив так, я поспешно откладывал в сторону ручку с пером. Откладывал на неопределенное будущее. Слишком горько было бы убедиться в своем бессилии перед чистым листом бумаги.
Однако пора было что-то предпринимать, а не только шарахаться из стороны в сторону, будто конь, испугавшийся собственной тени. Я твердил: «Не буду я писать, какой из меня писатель». Но это больше так, чтобы обмануть себя. На предпоследнем курсе рабфака я все же решил заглянуть в редакцию «Енбекши казах» не только затем, чтобы попросить очередной перевод.
В тот день я особенно тщательно начистил хромовые сапоги, которые сопровождали скрипом каждый мой шаг, надел галифе - пристрастие к этим брюкам у меня сохранилось со времен моего военком-ства, выгладил толстовку, толстовку тогда носили все, кто хотел следовать моде.
Не знаю, может быть, мой внешний вид произвел впечатление, в редакции решили - активист... И устроили проверку грамотности. Вот когда пригодились мне алифсин-а, альбасин-и, алифтур-о... Газета издавалась на арабском алфавите, другого в то время не было.
Технический секретарь, вручая копию приказа о моем зачислении, дружески посоветовал:
- Корректор корректором... Но ты среди своих лучше называй себя литературный сотрудник. Звучит более солидно, более внушительно.
Секретарь не очень далеко опередил меня по возрасту, и я весьма охотно последовал его совету. И среди знакомых считался литературным сотрудником, не написав еще ни одной путной строки.
И все же называться так к чему-то обязывало. В редакции я впервые столкнулся с тем, что писать -это профессиональная необходимость. Здесь у меня перед глазами были более опытные, более взрослые люди, которые уже успели чего-то достичь. Первым среди них я называю Беимбета Майлина.
С его именем - теперь уже безоговорочно и навсегда-связаны первые опыты реалистической казахской прозы. Ведь если наша поэзия имела за плечами богатые традиции, то прозу приходилось начинать почти на пустом месте. Первая повесть Майлина «Памятник Шуги» была издана за два года до революции. Повесть пользовалась успехом, ее читали, спорили о ней.
У нас в редакции Майлин был ответственным секретарем. В те годы новый редактор, который сменил на этом посту Сейфуллина, постоянно представительствовал на заседаниях и совещаниях, то уезжал в длительные командировки. Практически газету делал Беимбет.
Отзывчивый, добрый, расположенный к людям, он особенно внимательно относился к начинающим. Но чего не терпел и что могло вызвать у него бурный приступ негодования - это небрежность, лень, безответственность.
Однажды поздно ночью (помню это хорошо, а вот что прошло с тех пор больше сорока лет - не в состоянии поверить), после того как номер был подписан, Майлин собрал у себя весь коллектив редакции.
Ответственный секретарь делал придирчивый разбор номеров за месяц. Он был очень недоволен тем, как мы работали: писали плохо, не подняли многих жизненно важных вопросов. Досталось от него и заведующим отделами, и литсотрудникам.
Он обстоятельно разобрал и материалы отдела критики и библиографии: статьи, рецензии... Почти все они за отправную точку брали бесспорное, но однообразное утверждение: нечего и думать о росте литературы, пока мы не покончим с отставанием критики. После этого соображения начиналось нечто вроде соревнования - как бы похлеще обругать писателя. Если он, допустим, был человек начитанный и образованный, то его, не утруждая себя доказательствами, обвиняли в феодально-байском происхождении. Если же чувствовалось, что автор учился не много, его без лишних слов называли невеждой.
Я сидел относительно спокойно. Мое дело - грамматика, а особых ошибок в том месяце у нас не проскочило.
Майлин сказал:
- И еще одно... Вам об этом, наверное, надоело слушать. Но мне еще больше надоело говорить! Качество переводов... Вот, я сейчас вам прочитаю...
Занятый какими-то своими мыслями, я не сразу вслушался в текст. А как только вслушался, мне сразу захотелось стать маленьким и незаметным. Беимбет читал одно из двух переведенных мною, а не кем-то иным, постановлений.
- Поняли что-нибудь?- спросил он, положив обратно на стол газетный лист.
Ответа не последовало, потому что понять действительно было трудно, в том числе и самому переводчику.
- Как это смогут понять в аулах? Или мы выпускаем газету для того, чтобы она шла на раскурку?
Летучка кончилась почти в три часа ночи; Майин роздал литсотрудникам целый ворох рукописей.
- Это на обработку. Сроку вам два дня. Сдать в готовом для печати виде.
Все начали расходиться, а я топтался в дверях кабинета. Я решил, что Майлин никогда больше ничего не поручит мне - человеку малограмотному, недобро совестному, занимающему в редакции явно не свое место. Наверное, выгонит. В лучшем случае переведет в рассыльные - таскать оригиналы в типографию, а из типографии - гранки и сверстанные полосы. Нечего сказать, хороший подарок я преподнес сам себе ко дню рождения...
- Подожди,- остановил он меня.
Я приготовился выслушать длинное нравоучение и опять ошибся. Майлин только посмотрел на меня - очень выразительно,- вздохнул и протянул рукопись статьи на казахском языке.
- Выправишь. И принесешь мне. Срок тот же, что и для всех. Иди...
Дело происходило накануне восьмого марта, и статья посвящалась женскому вопросу. Я два дня не показывался на лекциях, сидел в общежитии, готовил статью к печати. Писал, зачеркивал, переписывал, делал вставки.
В назначенный срок я переступил порог майлинского кабинета.
Беимбет оторвался от лежавшей на столе сверстанной полосы, и его большие серые
глаза следили за тем, как я кладу перед ним рукопись.
- Принес?
- Принес...
- Садись.
Он читал внимательно, иногда возвращаясь к предыдущим абзацам. В одном месте сделал пометку красным карандашом.
- А это ты откуда взял?
- Из «Правды».
Вопрос относился к одной из моих вставок. Речь шла о том, что в Великобритании, стране высокой и старой цивилизации, женщины только в тысяча девятьсот восемнадцатом году добились права голоса на выборах, а наши казашки - на год раньше, в семнадцатом. Начитанный студент, я попытался объяснить это известным ленинским положением об угнетенных ранее народах, которые вступают на путь социалистического развития, минуя стадию капитализма.
Как умел Майлин обрадоваться чужой удаче, даже если удача - просто логичное, вытекающее из хода рассуждений сопоставление в обыкновенной статье.
Молодец! А свое что-нибудь пробовал писать?
- Нет.
Не мог же я сказать «да», имея в виду то сочинение, которое не перешагнуло через порог Пресногорьковской школы.
- Может быть, попробуешь?
Через несколько дней я показал ему небольшую зарисовку, она называлась: «Когда Эдеге хорош, а когда плох». Я постарался коротко описать знакомые мне взаимоотношения между батраком - Эдеге и его хозяином. Гонишь табун на пастбище хорош, поехал за топливом - хорош. Но тот же Эдеге становится плохим, стоит ему присесть отдохнуть или завести разговор, что не худо бы купить ему новые сапоги.
В очередном номере газеты мое произведение заняло двадцать одну строку. Впервые - с подписью.
- Видел?- спросил меня при встрече Майлин.
- Я там исправил всего четыре слова. Пиши дальше.
«Пиши дальше».
Эти слова меня преследовали, они не давали покоя. Они положили конец моим сомнениям. Я не спал четыре ночи. Я писал рассказ - «В бушующих волнах». Мне очень нравилось название.
Я старательно переписал рассказ, трижды приносил рукопись в редакцию и трижды уносил обратно: так и не решился показать Майлину, не набрался храбрости заставить его окунуться в мои разбушевавшиеся волны. Кончилось тем, что рассказ был помещен в нашей рабфаковской стенгазете - на всех листах подвалом, длиной в два метра двадцать сантиметров.
Одни меня ругали, другие хвалили, третьи вообще молчали. Через несколько дней о рассказе стали забывать, хоть стенгазета все еще висела возле комитета комсомола.
Днем в перерыве между лекциями я задержался в аудитории, и вдруг сюда ворвался мой сокурсник:
- Что ты сидишь! Беги скорей вниз! Майлин читает твой рассказ!
Расталкивая встречных, я съехал по перилам. Но Майлина в вестибюле уже не застал. Из разговора с товарищами выяснилось: Майлин в тот день побывал и в соседнем институте. Писатели старшего поколения, как я теперь понимаю, заботились о смене -искали ее в учебных заведениях, среди молодежи.
Вечером мы вчетвером - в своей комнате в общежитии - готовились к завтрашнему семинару. Раздался стук в дверь. «Войдите»,- сказал кто-то из нас.
Дверь отворилась, и вошел Майлин.
Мы вскочили, и гостю было предложено одновременно четыре табуретки.
- Разве я такой толстый? Мне вполне хватит и одной, - засмеялся он.- Ну и надымили же вы своей махрой...
Он угостил нас толстыми папиросами, которые в то время считались большой редкостью и роскошью. Выяснил, по какой теме у нас проводится семинар и не боимся ли мы засыпаться. Мы ответили, что боимся, как не бояться, но надеемся успеть все прочесть.
Майлин повернулся ко мне:
- Как дела, жигит?
Я ответил, что дела у меня идут хорошо, а дома я сегодня потому, что не моя очередь дежурить по номеру, пусть он не думает...
- А я не думаю... Я не это пришел проверить. Я днем прочел твой рассказ в стенгазете. Разговор у нас с тобой будет подробный, особый будет разговор, а пока только скажу: неплохо, совсем неплохо. Что же не показал мне?
Сердце у меня в груди билось неровными толчками. Майлин говорит - неплохо...
Потребовались годы и годы, чтобы я понял - в моем беспомощном рассказе его, Майлина, привлек прежде всего сам факт: молодой парень, и вдруг не стихи, которые у нас писал каждый второй, а рассказ... Но как окрылен я был одобрительным «неплохо». Значит, значит, это начало?
В том, что это начало, я еще больше уверился, когда мой первый рассказ стал обрастать подробностями, событиями, в него входили, как домой, новые и новые люди. Рассказ постепенно превратился в повесть. Я не мог придумать другого подходящего названия, так и осталось «Тулаган толкында» - «В бушующих волнах».
Вечерами я подолгу сидел за столом, освещенным с краю неяркой керосиновой лампой, и белый лист -справа налево, как принято в арабском письме,-покрывался узором слов. Я оставался один. Но это не было одиночеством. И как только вмещала их всех моя маленькая комната - друзей-партизан по отряду Дмитрия Ковалёва и многих из тех, кого я в разное время встречал в аулах: баев, бедняков, красноармейцев, белых карателей и алашордынцев, слепых в своей ненависти к новым порядкам.
Была в повести любовь: Биржан-рыбак не мог смириться с тем, что его любимую, его Шайзу продают в жены старому, но зато богатому баю Оспану! Она войдет в его дом как токал - младшая жена. А что за жизнь у них! Ночью нет покоя от мужа, днем - от старших жен, которые из ревности готовы разорвать ее на части. В иные времена - не избежать ей этой участи. Но Биржан и Шайза бежали из аула в город, где теперь находились красные, и там нашли свое счастье.
Пока я описывал то, что происходило на моих глазах, в чем я сам принимал участие, все шло легко и, как мне тогда казалось, вполне хорошо. Но вот настал в рукописи момент, когда потребовалось распутать завязанные узлы, и у меня, как я ни бился, ничего не получалось. Не найдя лучшего способа, я вынужден был уподобиться одному решительному герою древности и лихо разрубил узлы!
Но то, что красочно и убедительно в мифологии, оборачивается огорчительной неудачей, если имеешь дело с конкретным современным сюжетом. Это в дастане герой совершал подвиг за подвигом по той простой причине, что он - герой и так ему положено по его геройскому званию.
Повесть в конце получилась скомканной, недостоверной, торопливой. Я бы не поленился переписать ее еще и еще раз, но не знал - как, не видел, что там еще переделать.
Я и теперь могу лишь позавидовать Льву Толстому, который несчетно принимался за своего «Хаджи Мурата». И дело же здесь не в трудолюбии, усидчивости, терпении, взыскательности. Меня поражает его удивительная, необъяснимая орлиная зоркость: он в каждой фразе, в каждом повороте событий, в каждом движении мысли понимал, что именно его не устраивает, он в точности знал, как добиться нужного оттенка, как еще улучшить текст, казалось бы, и без того совершенный.
Так или иначе, повесть «В бушующих волнах» - мое первое произведение, которое увидело свет и попало на суд к читателям. Правда, как показали дальнейшие события моей жизни, и это не послужило толчком для постоянной, а не от случая к случаю, литературной работы.
По прошествии многих лет мне трудно сказать - плохо, что так случилось, или хорошо. Я не нарабатывал мастерства, методично сидя за письменным столом (а только за письменным столом, в бесконечных черновиках, отброшенных и заново написанных вариантах, фраза за фразой, оно и рождается). Зато - я жил, я накапливал запас жизненных наблюдений, размышлял о том, что мне пришлось увидеть... А без этого нет и не может быть никакой литературы.
...Я сейчас не пишу повесть моей жизни, а перелистываю ее отдельные страницы.
Я был сыном своей степи, которая вспоила меня и вскормила, и я понимал, как нужны ей люди, обладающие научными познаниями в сельском хозяйстве. Может быть, потому, что в моей памяти был слишком жив страшный джут кабаньего года, я выбрал Омский 58 сельскохозяйственный институт, он назывался тогда Сибак (Сибирская академия). Но после первого курса меня мобилизовали на год - для работы в аулах. Потом срок мобилизации был продлен на два года, и я навсегда оторвался от налаженной институтской учебы.
Работа в сельском хозяйстве, как и военномилицейская деятельность, не стали содержанием всей моей жизни. Меня по- прежнему привлекала нетронутая белизна листа бумаги, она заставляла заново переживать события, участником которых я был, заставляла думать и вспоминать о том, что я видел, что знаю, о чем должен рассказать. Ведь никто другой никогда не сделает этого за меня.
Оказывается, за сорок лет я написал не так уж много. Два романа, около десяти повестей и пьес, четыре десятка рассказов. «Лучше меньше, да лучше», Я старался придерживаться этого правила, но не собираюсь навязывать его всем. Я достаточно прожил на свете и понимаю: то, что хорошо для меня, не обязательно хорошо для всех. (К сожалению, только писать меньше бывает куда проще, чем лучше)
Повесть «В бушующих волнах» - тысяча девятьсот двадцать восьмой год. К ней примыкают и некоторые рассказы, написанные в разное время,- о больших социальных переменах в степи, о том, как степной народ сам готовил перемены в своей судьбе. Сюда же я бы отнес и драму «Амангельды» - о вожаке народного восстания в самый канун революции.
Незадолго до войны меня привлекла судьба нашего выдающегося поэта и композитора. Его звали Ахан-сери. Он был муллой, занимал в обществе видное положение - и бросил все, ушел в искусство, которое и в конце XIX века считалось занятием не совсем приличным, ненадежным, неустойчивым, а для муллы - и вовсе грешным. Мулла в прошлом - у него были свой счеты с богом, и Ахан стал, пожалуй, первым в казахской поэзии откровенным бунтарем, выступавшим то насмешливо, то гневно против незыблемых устоев религии. Отдельные эпизоды его бурной биографии прямо просились в пьесу, и мне казалось, что я должен написать ее. Под названием «Ахан-сери» - «Актокты» она шла во многих драматических театрах;
Мне всегда представлялась нерасторжимой цепь событий в судьбах поколений. Но обращение к прошлому, без которого и настоящее не могло бы наступить, иные недальновидные или слишком дальновидные критики, в угоду скороспелой моде, постарались объявить уходом от действительности, как будто писатель может куда-то скрыться от своего времени!
Я считал для себя необходимым подробно рассказать о том, как еще при царе исконные кочевники находили в своей степи новые дороги - и становились рабочими на меднорудных и угольных предприятиях в местности, обильно поросшей караганом, откуда и пошло ее название - Караганда. Их непростые судьбы, их новое понимание своего места под солнцем - все это легло в основу романа «Пробужденный край».
Должен сознаться, что я никогда не мог безраздельно сосредоточиться на какой-то одной теме, вопреки бытующей ныне узкой специализации. Потому-то я и возвращался в своих книгах - то в аул Жанбырши, к потомкам знатного казахского рода, то в степь, охваченную огнем гражданской войны, то 61 обращался к памяти поэта, первого у казахов поэта, ставшего певцом революции. От забавной истории, случившейся в поезде, переходил к древней легенде, сохранившейся в роду найманов, а потом начинал рассказ по своим японским впечатлениям после посещения Хиросимы и Нагасаки...
Может показаться, что я недопустимо разбрасывался, и не только в выборе жизненного материала. В самом деле, и прозу писал, передовицы и очерки в газете, и пьесы, сценарии документальных и игровых фильмов, Занимался переводами, выступал в качестве литературного и театрального критика. Но причина тут не в легкомыслии и не в самонадеянности. Национальным писателям моего поколения (и не только казахским, но и киргизским, узбекским, туркменским и таджикским - тоже) приходилось быть едиными даже не в трех, а во многих лицах.
Звонили из газеты: «Ты писателем стал, а нам нужен очерк и еще - рецензия на новую книгу». Встречался режиссер театра и упрекал: «Ты же писатель, а нам требуется пьеса, своя». Приходили композиторы: «А что, если вы подумаете над либретто, либретто для оперы?»
Либретто для оперы?.. Я в любую минуту мог представить заросшие берега озера Кожабай, услышать голос дяди Ботпая и его дочери Батимы. Они первыми приобщили меня к искусству, и я на всю жизнь сохранил неизгладимое впечатление от народных дастанов «Кыз-Жибек» и «Козы-Корпеш и Баян-сулу». Я постарался на их основе создать сценические представления.
Музыку для «Кыз-Жибек» написал Евгений Бруси-ловский. Опера жива и по сей день. Не так давно в Казахском оперном театре я присутствовал на тысячном спектакле, в нем участвовали многие, из первых исполнителей. (Оперной сценой странствия Жибек не кончились. На киностудии «Казахфильм» сделана картина,.в основу которой положен этот дастан)..
Мое желание с разных сторон представить исторический путь народа не могло не обращать меня к животрепещущей современности. И не только в рассказах. Роман «Солдат из Казахстана» - о моем сверстнике, о его довоенной жизни, о его фронтовых делах - стал для меня наиболее объемным воплощением этой большой и сложной темы.
Иногда меня спрашивают: А почему вы стали писателем? Ответ у меня давно наготове:
- Потому, что так велела Сильвия Михайловна, моя учительница в Пресногорьковке. Я не мог ее не послушаться.
А если говорить серьезно, то это действительно трудно, если вообще возможно,- объяснить, почему тебя начали вдруг занимать разные истории из жизни людей. И в какую минуту тебе захотелось рассказать о сдвигах в судьбе твоего народа, который дал тебе жизнь, дал язык для выражения твоих мыслей, твоих чувств.
Почему я начал писать?.. Я не могу ответить,- так же, как если бы у меня спросили: почему именно я, а не кто-то другой, родился в ночь Науруза, когда год коровы уступил место году барса.
[1] Науруз - у многих восточных народов начало нового года, который наступает в день весеннего равноденствия, 22 марта по новому стилю; год коровы, год барса - календарь с двенадцатилетним циклом, каждый год носит название какого-нибудь животного.
[2]Нагаши - родня по материнской линии.
[3] «Жиган - терген» - здесь в смысле: зарисовки из наблюдений.
[4] Суюнши - подарок за доставленную добрую весть.
[5]Правительство республики в те годы находилось в Оренбурге.
