Путь Абая. Книга вторая — Мухтар Ауэзов
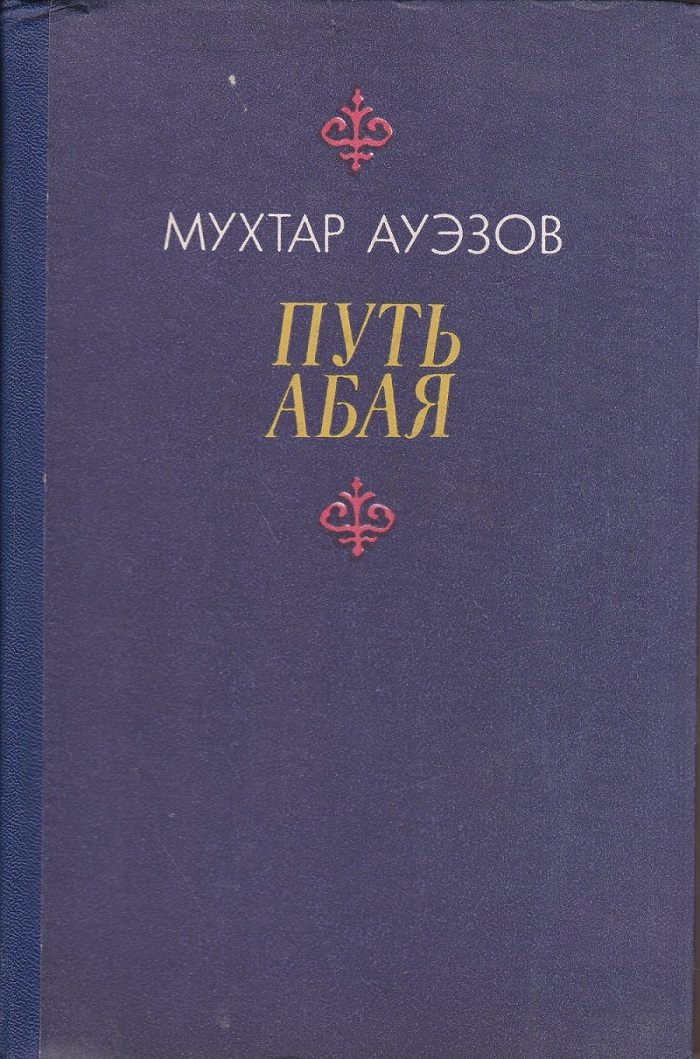
| Название: | Путь Абая. Книга вторая |
| Автор: | Мухтар Ауэзов |
| Жанр: | Литература |
| Издательство: | Жибек жолы |
| Год: | 2012 |
| ISBN: | 978-601-294-109-8 |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 2
Подойдя ближе, Даркембай пожелал Кунанбаю доброго пути и сразу же заговорил о своем деле:
– Кунеке, вы отправляетесь в священный хадж, вы избрали путь смиренных перед Богом. Выслушайте мольбу другого смиренного, вот этого мальчика. Он имеет к вам великую просьбу, о чем Бога ради просил меня передать вам, Кунеке!
Кунанбай нахмурился, вперил свой одинокий глаз в оборванца.
– Я отрешился от мирских дел, зачем обращаться ко мне с просьбами? Если имеется жалоба, обратитесь теперь к кому- нибудь другому, не ко мне!
- Но, Кунеке, мальчик не может обратиться к другому! Вопрос касается вас.
– Кто этот мальчик, и какие у него могут быть вопросы ко мне?
– Есть, есть вопросы! И ответить на них можете только вы!
Кунанбай смутился, особенно неловко было ему перед горожанами – муфтиями, хазретами, купцами, баями, шакирдами. Толпа с недоумением и любопытством в глазах наблюдала за ними. К Даркембаю шагнул Майбасар, тотчас узнавший его. Он хотел оттеснить старика в сторону.
– Е-е, да никак ты, Даркембай! – воскликнул Майбасар. – Чего это задерживаешь человека, едущего в далекий путь? Сейчас же отойди в сторону! – Последние слова Майбасар проговорил тихо, сквозь стиснутые зубы.
Даркембай не обратил внимания на угрозу Майбасара и продолжил:
– Этот мальчик – племянник Кодара, из рода Борсак. Ты же знаешь, Кодар погиб, а его единственный брат Когедай много лет жил в батраках на земле Сыбан. Он был немощным, больным, умер шесть лет назад. И вот этот мальчик, Кияспай,
его единственный сын. Выходит, он теперь прямой наследник покойного Кодара.
Перед Кунанбаем стоял изможденный болезнями ребенок. Костлявый, ослабленный, с синими прожилками на бледном лице, с едва заметным пробивающимся пушком над верхними губами. Один глаз его был повязан грязной тряпочкой. Еле сдерживая слезы, с дрожащим подбородком - больной мальчик робко поднял свой целый глаз на Кунанбая – и пришел в ужас, увидев перед собой такого же одноглазого, как и он сам. В свою очередь и Кунанбай со страхом и отвращением смотрел на жалкого мальчика.
– Ну и чего же хочет от меня этот мальчик? – произнес он осевшим, глухим голосом.
– Как чего, Кунеке? Ты только посмотри на него – неужели непонятно? – воскликнул Даркембай, смело глядя Кунанбаю в лицо. – Ты лучше спроси – чего ему от тебя не нужно?
– В таком случае, ладно, поговорим. Отойдем в сторону.
И Кунанбай отвел старика Даркембая и больного мальчика в дальний угол двора и присел с ними, собираясь поговорить с ними без свидетелей.
Одеяние молодых и старых иргизбаев, приехавших проводить Кунанбая, отличалось праздничной яркостью нарядов степных щеголей и богатых баев. По-иному выглядели горожане – купцы, священнослужители в чалмах, городские баи в дорогих куньих шапках и бархатных чапанах с золотым шитьем. Но сколь бы различными ни были наряды собравшихся на дворе людей, – все говорило о том, что их жизни сопутствуют неизменный достаток и самодовольное богатство.
Появившиеся двое оборванных бедняков сразу создали вокруг себя пустоту, их словно с проклятьями вытолкнули из позолоченной толпы. Даркембай и мальчик Кияспай своими бескровными лицами – среди красных и лоснящихся, своей нищенской одеждой – среди бархата и золотого шитья, всем своим измученным, загнанным видом казались пришельцами
из другого, зловещего мира. Рабы беспросветной нужды и лишений… Когда Кунанбай повел их в дальний конец двора, за ним последовали Майбасар и Такежан. Абай тоже направился туда.
Когда он приблизился, говорил Даркембай:
– Кодар был неповинен, его убили, никто не выплатил кун за убитого. Ни единого слова не было сказано об этом. Потому что люди боялись порядков того лихого времени.
«Лихое время» прямо касалось Кунанбая. Сильно задетый этим, он сразу вспылил и гневно заговорил, сверкая своим одиноким глазом:
– Что ты мелешь, Даркембай? Это что – Борсак и Бокенши послали тебя, чтобы ты вымогал кун за смерть Кодара? Ну-ка, не скрывай, назови имена тех, кто тебя послал! – мгновенно переменился в лице Кунанбай и рявкнул, как прежде, словно потревоженный лев. Так, что и в помине не осталось ничего от слащавости суфия и смиренника, каким видели его с самого утра.
Он в одно мгновение вновь обрел тот грозный, устрашающий вид, с каким устремлялся навстречу врагам во время боевых стычек. Вновь стал подобен клыкастому хищнику, готовому броситься вперед и разодрать в клочья свою жертву.
Но Даркембая это не испугало.
– Борсак далек от этих мыслей, род ослаб, не он посылал меня. О куне говорю от себя. Я не буду называть цену ему. Будет довольно, если ты вернешь урочище Карашокы. Эта земля - наследство покойного Кодара. Она должна принадлежать этому мальчику. Но на ней стоит аул твоей старшей жены Кунке. Она живет, утирая жир со рта, множит свои табуны, ты уходишь на священную землю, неужели не снимешь с души бремя долга перед этим несчастным сиротой? – Так говорил Даркембай.
Кунанбай не дал ему говорить дальше.
– Замолчи, Даркембай! – рявкнул он.
– Я уже все сказал!
– Разве не ты – мой самый непримиримый враг? Разве не ты – моя злая напасть, которая ходит по пятам за мною всю мою жизнь?
– Кунеке! Мне поневоле пришлось быть твоей злой напастью! Ты заставлял. По мне, лучше всего держаться в стороне от всех напастей и всякого зла!
– Эй, разве не ты когда-то наставлял на меня ружье?
– Наставил, но не выстрелил! Поэтому и ходит по земле тот, кто набросил аркан на шею невинного человека и удавил его! – сказал Даркембай, тяжело дыша, уставив свои полные ненависти глаза на Кунанбая.
Как ни был разъярен грозный Кунанбай, но последние слова Даркембая сразили его, он вздрогнул, лицо его мгновенно побледнело, стало серым, каменным.
- Если в тот раз не стрелял, то сегодня выстрелил и убил наповал. Твой выстрел – прямо в мою могилу… – глухо проговорил Кунанбай. Потом вскинул голову и беспомощно посмотрел на Майбасара, словно говоря: «Как можно терпеть такое?»
Майбасар надвинулся, чудовищно раздувшись от злости, вклинился между Кунанбаем и Даркембаем. Чтобы не услышала толпа, вполголоса грязно обматерил Даркембая и толкнул кулаком в грудь.
– Закрой пасть! – выдавил он полушепотом. – Посмей еще раз вякнуть, не пожалею, схвачу тебя за бороду и прирежу, как козленка!
Кунанбай поднялся на ноги. Майбасар и Такежан остались сидеть на земле, с двух сторон подмяв под себя полы чапана Даркембая, тем самым не давая ему встать.
Мальчик вдруг громко заплакал и вскричал:
– Долг не вернули мне! Весь долг мой остался за ним! – И он залился горючими слезами.
Хотя и не мог пойти вслед за удалявшимся Кунанбаем жатак Даркембай, но, удерживаемый на земле двумя толстозадыми баями, он выкрикнул ему вслед:
– Вчера ты вершил суд и расправу как ага-султан. Сегодня ты уходишь в хадж, чтобы потом судить нас в чалме святого хаджи. Я знаю, ты едешь в Мекку не за тем, чтобы найти путь к Богу! Ты едешь, чтобы найти новый кунанбаевский путь на земле! Что ж, оставляй нас, покуда ты будешь отсутствовать, на растерзание своим волчатам!
Майбасар и Такежан с двух сторон давили, ломали его, злобно шипя:
– Ты перестанешь, старый пес? Ну-ка, заткнись! – Они готовы были тут же на месте расправиться с ним.
К этому, может быть, и приступили бы разъяренные брат и сын Кунанбая, с двух сторон схватившие старика за ворот чапана. Но тут Абай, подскочив со стороны, с силой вцепился в руки своих родичей.
– Вы, злодеи! Вы будете прокляты Богом! Отпустите его!
Даркембай близко увидел лицо Абая: оно было белее бумаги, с налитыми кровью глазами. Взгляд его был страшен, казалось, он готов был убить обоих родственников.
– Вы, тупицы! Бесстыжие! Не вмешивайтесь! Его слова призывают моего отца к ответу перед Всевышним! Вы можете понять такое? Тупые скоты, в скотстве вашем навечно погребены ваши души! Разве отец не затем отправляется в Мекку, чтобы вымолить прощение за подобные свои грехи? – кричал Абай, не давая даже рот раскрыть Такежану и Майбасару. Они выпустили Даркембая.
Абай обратился к старику, сдержанно глядя на него.
– Даркембай! Наверное, ты был вынужден обратиться к отцу в такой день. Я тебя не осуждаю, хотя обращение твое сегодня, на этом месте не совсем уместно. Но я теперь остаюсь должником вместо отца. На мне и его долг перед Кодаром. До меня дошли твои слова, Даркембай. А теперь иди, возвращайся к себе с миром.
Затем он помог старику подняться с земли. Вынул из кармана сторублевую ассигнацию, сунул в руку мальчика Кияспая. Проводил обоих до ворот.
Между тем Кунанбай, потрясенный неожиданным появлением Даркембая и племянника повешенного Кодара, остановился посреди двора и долго стоял на месте, что-то невнятно бормоча про себя. Вид у него был молитвенный, покаянный. К нему подошли Улжан и Изгутты, напомнили, что пора трогаться в путь. Только после этого Кунанбай, коротко и торопливо попрощавшись с людьми, толпившимися перед ним во дворе, сел в повозку. Вместе с ним сели Изгутты и Улжан, которая со всей своей челядью сопроводила Кунанбая до Семипалатинска. Теперь она ехала с ним до первой ямской заставы.
Когда красиво убранная повозка, запряженная тройкой рыжих лошадей, с громом и звоном колокольчика вылетела со двора за ворота и понеслась по дороге, за ней поспешили множество провожающих – верхом на лошадях, в колясках и на высоких арбах. Сразу же за тарантасом Кунанбая следом выехали со двора две коляски, в одной из них сидели Абай и Макиш, во второй – бай Тыныбек со своей байбише. Когда вся эта грохочущая, многолюдная, шумная вереница провожающих на бричках, на лошадях верхом, на арбах растянулась по улице, заняв ее всю по ширине, и в густых клубах пыли двинулась вперед, со всех дворов высыпали на улицу местные обыватели. В домах к окнам прильнули любопытствующие, провожая глазами процессию. Здесь не было человека, который не знал бы, кто это едет и куда он едет.
Тарантас Кунанбая катил заметно быстрее по сравнению с другими повозками и вскоре оказался уже за городом и побежал по тракту в западном направлении.
Все верховые, перейдя на дорожную рысь, скакали за тарантасом, то вытягиваясь в длинную вереницу, то сбиваясь гурьбой.
Кунанбай ехал, ни разу не оглянувшись. Он знал, что родственники и друзья непременно проводят его, хотя бы до первого ямского поста.
После того как удалось отделаться от Даркембая, потрясенный Кунанбай никак не мог прийти в себя, ни с кем не заговаривал и находился в самом мрачном расположении духа. Несколько раз пробормотал себе под нос: «Замутил тихую заводь! Надо же! Как замутил мою тихую заводь!» И в глазах его появлялось видение того, как в тихую, гладкую воду обрушивается брошенный камень, как тревожные круги бегут по ее зеркальной поверхности. А ведь он еще с утра раннего обдумал, как поведет себя при прощании с людьми, уходя на хадж. Надо будет, решил он, вести себя как суфий, и разговаривать с людьми соответственым образом, благословлять их на хорошие дела и желать им, остающимся дома, богопослушания и благочестия. Но получилось так, что Даркембай ворвался, словно ураган, и разнес все эти смиренные мечтания в пух и прах. Но больнее всего было ощущение того, что этот грубый жатак словно смог как-то вытеснить Кунанбая из привычного круга его бытования и отбросить на обочину жизни…
Долго находился он в состоянии тихого, злобного кипения души, но затем все же сумел себя переломить, и захотелось ему душевно попрощаться с верной Улжан. Велел Мырзахану на кучерском облучке не сбавлять набранного быстрого хода лошадей и обернулся к Улжан. Изгутты в ту же минуту отвернулся к кучеру и завел с ним долгий, подробный разговор о предстоящей дороге. Изгутты был чуткий человек, хорошо знающий свое место возле мырзы Кунанбая и предугадывающий все его желания по одному лишь движению руки, выражению лица.
Была пора ранней весны. Изгутты заговорил, обращаясь к Мырзахану, что зеленая трава в степи в этом году всходит недружно, чему причиной задержавшиеся весной морозы
Кунанбай же, обернувшись к Улжан, ласково глядя ей в лицо, говорил следующее:
– Байбише, ты была для меня не только хозяйкой очага, но и верной спутницей через всю мою жизнь. Где бы я ни находился, за каким перевалом ни оказывался, ты всегда оставалась моей
верной женой. С тобою я всегда чувствовал себя счастливым мужем. Хоть мы никогда не вступали на путь раздоров, но я должен признаться, что иногда я подчинялся прихоти сердца, а не доводам разума, порой шел на поводу своего упрямого характера… Да, бывало так, что я оступался. Был я баловнем судьбы, и это меня опьяняло. И вот я уезжаю. Кому известно, под каким пригорком мы найдем свой вечный покой? Если у тебя и есть за что судить меня, то у меня к тебе нет ни единого упрека, ни малой толики какой-нибудь обиды. Пусть Кудай воздаст тебе и твоим детям великим счастьем за твое преданное сердце, за чистую твою душу. Ты всегда говорила то, что хотели бы сказать и мои уста. Ты претворила в свои мечты и все мои мечты. – Так говорил Кунанбай, прощаясь с женой Улжан.
От сильного волнения, охватившего ее сердце, Улжан долго не могла ответить мужу. Красивое, ровное, без морщин розовое лицо ее вдруг побледнело. Она услышала от мужа то, чего она уже не чаяла услышать никогда, никогда… Немного успокоившись, овладев своими чувствами, Улжан ответила такими словами:
– Мырза, да будет у тебя достойный сын, который сможет оправдать твои ожидания и оживить твои мечты. Вот и все мои пожелания тебе, - и это пожелания себе же самой. Провожать тебя в далекий путь и отправлять вместе с тобой всякие обиды и упреки – было бы делом недостойным. Вот, муж мой, ты возвысил меня до облаков. Я должна возрадоваться. Но я вовсе не такая, какою ты меня обрисовал. Если как следует присмотреться ко мне, покопаться в моей душе – ойбай, чего только можно не увидеть во мне! Мырза, не суди строго за то, что я собираюсь сейчас сказать.
Впервые разговорившись с супругом столь свободно и откровенно, Улжан почувствовала радость истинного откровения души. Лицо ее снова порозовело, приняло прежнее выражение спокойного внимания и ровной приветливости. Крупное, красивое тело ее приобрело величественную осанку.
- Мырза! В молодости, оказывается, человеку тесны и постель, и дом, и весь окружающий его мир. Ну а когда он начинает стареть, подходит к закату своей жизни, то мир представляется ему все шире, просторней, а сам он – все меньше и меньше! Он видит вокруг себя одну огромную пустоту, и ему скорее хочется уступить свое место другим. Он начинает все свое умалять, сокращает свои неправедные дела, старается стать более добродетельным. Но оказывается, что он просто начал потихоньку остывать… Уже давно эти мысли стали одолевать меня, мырза. – Так сказала Улжан и надолго замолкла.
Кунанбай тоже молчал. Он выслушал Улжан с огромным вниманием, затаив дыхание. Он смотрел на нее с великим удивлением, почтением, любовью. Он снова увидел, что она мыслит его думами, живет его чувствами.
Разгладив пальцем брови, прищурив красивые глаза, Ул- жан засияла радостью свободной мысли и стала говорить дальше:
– Муж для жены опора, он как матка для жеребенка, который то убегает от нее, то несется к ней со всех ног и тычется под брюхо. Жена перенимает от мужа и хорошее, и плохое. Если во мне есть что-то хорошее, то оно от тебя. Все недостатки мои и все достоинства – от тебя, благодаря тебе. Вот ты уезжаешь, мы прощаемся с тобой, испытывая благодарные чувства друг к другу – и я довольна! – говорила Улжан.
И ни словом не обмолвилась она о тех обидах и страданиях, которые испытала за долгую совместную жизнь с Кунанбаем.
Он перевел разговор на повседневные дела. Здесь и Из- гутты принял участие.
Речь зашла о халфе Ондирбае. Это был человек, к которому Кунанбай относился с уважением многие годы, а сейчас, став спутниками в путешествии на священную землю, они еще более сблизились. У Ондирбая было большое желание породниться с Кунанбаем. Юная дочь Ондирбая была свободна, отец мечтал выдать ее за одного из сыновей Кунанбая. Было бы хорошо,
если бы Улжан приняла ее в невестки. К тому же у Оспана, женатого уже почти три года, не было детей, и это очень удручало младшего сына Улжан, который вымахал в настоящего великана. Появлялась возможность сосватать у Ондирбая дочь как вторую невестку для Улжан. Она выразила полное согласие на это. Разговор в тарантасе полностью перешел на эту приятную всем тему.
Во второй повозке, следовавшей за тарантасом, также запряженной тройкой рыжих лошадей, ехали Абай и сестра его Макиш. Брат с сестрой долго ехали молча. Каждый был погружен в свои не очень веселые думы. Когда уже прилично отъехали от города, Макиш, подавленная и мучимая своими тревожными предчувствиями об уезжающем отце, перестала сдерживаться и дала волю слезам. Абай попытался ее успокоить, раза два-три ласково увещевал сестру: «Ну, хватит, Макиш! Перестань!» Не добившись успеха, Абай отвернулся от нее и погрузился в свои раздумья.
Даркембай не шел у него из головы. Его отчаянный и дерзкий поступок, его обвинение и вызов мырзе поломали весь торжественный ход проводов и явились для Кунанбая грубым бесчестием, словно жатак Даркембай одним пинком выбил из рук мырзы чашу с самой изысканной едой, с почестями преподнесенную ему. Страшное жертвоприношение ни в чем не повинных Кодара и его невестки Камки вновь грозно встало перед глазами Абая. И теперь, словно зловещее его продолжение, откуда-то явился этот жалкий больной мальчик с грязной тряпочкой на глазу. Он был не просто укором для Кунанбая – он был грозным его обвинением и беспощадным судом. И сама жизнь вынесла неумолимый приговор, и никакие молитвы, никакой святой хадж не смогут отменить его. Был прав старик Даркембай, беспорядочно выкрикивавший, что не путь к Богу отправляется искать мырза, а свой новый, кунан-баевский, земной путь, неправедный и, может быть, еще более жестокий. Это паломничество, похоже, вовсе не путь раскаяния,
очищения и спасения души страшного грешника. Между ним и теми, которых он губил и пожирал, не может исчезнуть вражда. Угрюмо, горько усмехнувшись, Абай решил больше не думать обо всем, что касается поездки отца, – как бы одним махом он напрочь отсек от себя эти мысли. И увидел, словно открылись у него глаза: новая весна пришла в степь, брызнула на склоны холмов нежной зеленью!
Повозка быстро ехала по обочине широкого тракта, покрытой новой, еще совсем невысокой, щетинистой зеленью.
Давно не выезжавший из города, Абай радовался первой встрече с весной. В голубоватой дали, по левую сторону от дороги, тонула в легкой дымке одинокая Семей-гора. Оказывается, она уже вся, от подножия и до вершины, избавилась от снежного покрова. Среди ровной, как стол, степи Семей-гора высилась, как некий исполинский истукан. По силуэту напоминала она и гигантскую крутую волну, которая вдруг замерла на всем бегу посреди степи. Когда-то она была морем, эта бескрайняя ровная степь, – и вдруг пробежала по ней гневная волна, и постепенно затвердела на бегу, и, наконец, замерла на месте – одинокой каменной глыбой. Семейтау – Семей-гора! Отчего тебе судьба – быть столь одинокой? Что за горькая доля? Какой гнев степи выплеснул тебя в этот мир?
Созерцая Семей-гору и думая о ее величайшем одиночестве, Абай непроизвольно снял с себя тымак и подставил разгоряченную голову встречному прохладному ветерку.
Когда вдыхал он всей грудью чудесный свежий воздух степи, то его тело, как и душу его, наполняло чувство пробуждения. Он ясно видел вокруг себя мир во всей его подлинности и понимал все самые тончайшие движения собственной души. Вновь вспомнились ему прощальные назидания отца, и его слова были теми самыми, какие ждал услышать от него Абай всю свою жизнь. Отец в эти минуты предстал совершенно в ином свете, чем раньше, искренним, покаянным, глубоко опечаленным, и отныне ему можно было простить многие его
прегрешения. Абай нашел, что он оказался в тот миг не в положении сына, прощающегося с отцом перед его дальней дорогой, а на месте человека, сидящего у одра смерти родителя и слушающего его предсмертные признания…
Абай увидел, что сестра Макиш снова плачет, таясь от него – отворачиваясь и смахивая слезы с глаз. Он сделал вид, что ничего не заметил, и просто начал петь, обернувшись в сторону далеких гор. Макиш восприняла это как что-то крайне неуместное при данных обстоятельствах и оглянулась на Абая обиженными глазами. Взгляд этих больших красивых глаз был и пристальным, и удивленным.
Песня, которую начал брат, была неизвестна ей, и показалась Макиш вовсе не песней, а сотканными в мелодию грустными живыми чувствами самого Абая.
Вначале она воспринимала одну только мелодию, но вот Абай повернулся к ней и, заглядывая ей в глаза, словно повелел ей: «Да ты послушай!» И она прислушалась. А он пел:
Отбросив все – богатство, достояние, Отправился священный край искать.
Перед Всевышним он, смиренно, с покаянием Согнув колени, хочет предстоять.
Не терпится сынам степей, казахам, Воочию паломника святого лицезреть, Которого влечет небесный свет Аллаха, А достояние земное он решил презреть. Муж благородный думает заранее, Что перед Богом он предстанет наконец. И чистота души – бессмертья упование, И смерть, Макиш, для жизни всей – венец[2].
Завершив песню, Абай широко открыл глаза и, приходя в себя после поэтического забытья, туманным взором уставился на Макиш. Сестра, с любовью глядя на него, уже не плакала!
- Абай, шырагым, а ведь ты у нас акын, оказывается! - воскликнула она, любуясь им.
Абай встрепенулся и, словно оробев, несмело спросил у сестры:
– Ты так считаешь, сестрица?
– Да ведь я слышу!.. Ты что, хотел скрыть это от меня? – улыбаясь, говорила Макиш. - Напрасно! Об этом уже все говорят, особенно твой лучший друг Ербол: мол, Абай настоящий акын, хотя и не выходит на айтыс. Так это правда, Абайжан, ты акын?
- Ну ладно, правда! Я и есть акын! Будь по-вашему! - шутливо соглашался Абай.
– И какие ты песни поешь?
- Эх, Макиш! Песни мои слышит одна степь, и ветер разносит их по ней!
– Что же так?
– Я пою об одинокой душе, о несбывшейся любви. Любовь моя сгорела, ее уже не вернуть. И осталась в моей душе одна лишь горькая, неизбывная тоска. Вот и поет душа свои горькие песни, и их уносит вдаль степной ветер.
– О чем ты говоришь? Что за тоска? Ну какая может быть тоска у тебя, мой Абайжан? – Макиш ласково, с улыбкою, но очень проницательно и испытующе смотрела на него.
Старшая сестра залюбовалась им. Круглое лицо Абая было без единой морщины. К его мужественному облику очень подходили тонкие черные висящие усы. И негустая темная бородка, изящно подстриженная, не портила его. В пору своей мужской зрелости Абай был красив, это был джигит, невольно притягивавший к себе взоры.
Макиш стала спрашивать, что это за «горькая, неизбывная тоска» терзает сердце брата, просила быть откровенной с нею.
Легкая бричка катила по весенней степной дороге, кучер погонял тройку рыжих лошадей, брат и сестра вдруг оказались наедине – и настала редкостная минута им поговорить друг с другом, раскрывая всю душу.
Абай сидел рядом с сестрой, одинаково покачиваясь вместе с нею на неровностях дороги, и, устремив свои глаза к далекому ровному горизонту, вспоминал о давней чудесной мечте, которой не дано было сбыться. Вспоминал о стихах, которые так легко и просто приходили к нему в те дни любви. Вспомнил ночной праздник девушек в ауле Суюндика, их веселые игрища возле качелей.
Тогда они с Тогжан, раскачиваясь вдвоем на качелях, вместе спели чужедальнюю песню «Топайкок» – «Статный конь». И сейчас Абай, вместо ответа на вопрос сестры, начал негромким, проникновенным голосом петь на мотив «Топайкок», стараясь вложить в песню всю свою отчаянную, неуемную тоску по Тогжан. И удивленная Макиш, затаив дыхание, прослушала и эту песню.
Сияют в небе солнце и луна –
Моя душа печальна и темна.
Мне в жизни не сыскать другой любимой, Хоть лучшего, чем я, себе найдет она…
И пусть любимая, забыв любви слова,
К моей тоске и верности мертва, Унизит, оскорбит меня без сожаленья, – Я все стреплю – моя любовь жива...
Абай замолк, опустил глаза. Лицо его заметно побледнело. Он давно уже не находил никакого исхода, никакой отдушины своей неизбывной тоске – только в песне, только в стихах.
Макиш ничего не знала о тайной любви Абая. Старшая сестра, не ведая, насколько это серьезно и трагично для него, стала у него домогаться с обычным женским любопытством:
– Не поняла я. А кто эта «любимая», кого ты имеешь в виду, братец?
Абай лишь грустно усмехнулся и ответил сестре:
– Ты не знаешь, кто такая любимая? Ну ладно, скажу тебе, Макиш, айналайын. Любимая – это человек, который загнал в твою душу, словно занозу, неизбывную боль по себе.
– А мне казалось, братец, что любимой называют супругу, спутницу по своему очагу.
– Ты что, Макиш, не про Дильду ли говоришь?
– А про кого же еще? Конечно, про нее.
– Ойбай! Создатель! При чем тут Дильда, дорогая Макиш? – с досадой, едва сдерживая себя, воскликнул Абай.
Старшая сестра смущенно уставилась на него, обернувшись к нему на сидении брички. С неловкой улыбкой отведя глаза, молвила сдержанно:
– Апырай, мои слова, похоже, задели тебя за живое. Прости. Но разве Дильда в чем-то провинилась перед тобой?
– Ни в чем Дильда не провинилась. И я не виноват в том, что спел песню о своей мечте. Ты говоришь о Дильде - да разве может быть мечтой супруга, которая родила уже четверых детей?
– Оу, разве она виновата, что родила тебе детей?
– Не виновата! Дети хорошие. И она хорошая мать. Это моя спутница по очагу, как ты говоришь, с которой меня свели мои родители. Вот и вся правда. Только и всего! Ну и если говорить всю правду, душа моя не пылает огнем любви к супруге. И никогда не пылала. Она остыла еще задолго до того, как могла бы запылать! И вот перед тобой душа, рано остывшая, ни к кому больше не устремленная. – Так закончил Абай, и больше ничего не хотел добавить. В коляске настало молчание, брат и сестра ехали дальше, не разговаривая.
Растянувшись по дороге, словно некий кочевой караван, длинная вереница повозок, верховых на лошадях, двухколесных арб, стала вдруг сплачиваться теснее. Видимо, впереди движение замедлилось.
Такежан ехал верхом рядом с муллой Габитханом, Жума- гулом и Ерболом, с ними рядом скакал его нукер по имени Дархан.
В часы прощания с отцом Такежан был молчалив и сдержан. Он, разумеется, не представлял всей меры трудностей долгого путешествия отца через множество разных стран, как представлял Абай, но и Такежана тревожила неизвестность. И, выезжая из города, он стал спрашивать у Габитхана, насколько опасна для старого отца эта поездка. Жизнерадостный, легкий в жизни Габитхан вовсе не намерен был запугивать Такежана, и он постарался все обрисовать в самом лучшем виде. Мол, начало пути будет пролегать по тем местам, где живут одни казахи, а далее путь пройдет через страны, в которых не отказывают в помощи паломникам в Мекку. После слов муллы Габитхана Такежан заметно повеселел.
К среднему своему возрасту Такежан растолстел, выглядел массивным, полным сил и здоровья джигитом. Он любил соленую шутку, был человеком насмешливым и охочим на всякого рода кураж, розыгрыш, иногда не очень доброго свойства. Смолоду он любил подшутить над муллой Габитханом, чья наивность, доверчивость и, главное, не совсем хорошее владение казахским языком явились для Такежана благодатной почвой для шуток. Одаренный и остроумный рассказчик, Такежан сделал из татарина Габитхана что-то вроде второго ходжи Насреддина, рассказывая о нем по аулам самые невероятные историйки и байки, в которых мулла попадал в глупейшие, смешные положения, и все из-за своего плохого владения казахским языком.
