Свеча Дон-Кихота — Павел Косенко
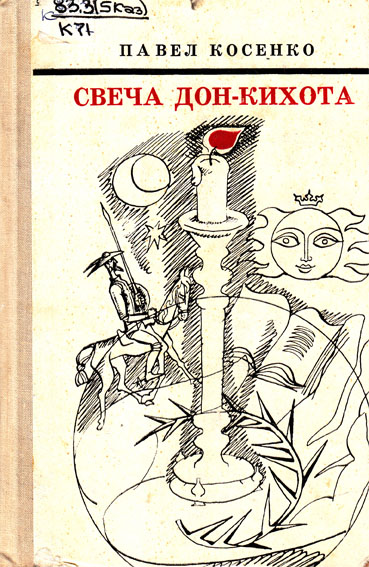
| Название: | Свеча Дон-Кихота |
| Автор: | Павел Косенко |
| Жанр: | Литература |
| Издательство: | |
| Год: | 1973 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 7
Может быть, Асеев несколько преувеличил личную роль Авербаха в разгуле рапповского литературного террора, но надо сказать, что этот любимчик и воспитанник Троцкого, выходец из семьи крупного буржуа и «неистовый ревнитель» пролетарской чистоты, с такой полнотой воплотил в себе все отрицательные черты рапповской верхушки, что может считаться фигурой почти символической.
Одним из неписанных правил, установленых рапповской этикой для молодого писателя, была величайшая осторожность в знакомствах. Поэтому, когда Павел Васильев, над этой этикой от души смеявшийся и искавший интересных людей повсюду, познакомился с Николаем Клюевым и стал у него бывать, переполошились даже доброжелатели молодого поэта — слишком уж зловещей фигурой казался им Клюев. Один из доброжелателей, поэт Орешин, решил, что пора принимать меры, побежал — ну, не к рап-пам, конечно: те б за такое знакомство Васильева в поро-шок стерли, — а к Г ронскому.
Иван Михайлович Гронский, старый большевик, крупный партийный работник, редактировал «Известия» и постепенно, к большому неудовольствию авербаховцев, приобретал все больший авторитет в литературных кругах. Вскоре после постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года он стал председателем Оргкомитета Союза Советских писателей (почетным председателем Оргкомитета был Горький). Гронский выслушал Орешина, вспомнил, что встречал где-то стихи Павла Васильева (неплохие стихи), вспомнил, что говорили ему, — есть такой полуграмотный деревенский паренек из числа подражающих Есенину, согласился, что знакомство с Клюевым — штука опасная, и попросил передать Васильеву: на днях он ждет его в «Известиях».
Тут надо сказать два слова о Клюеве — вряд ли всем сегодняшним читателям хорошо известно его имя; упоминается оно обычно лишь в связи с началом творческой биографии Есенина. Есенин и сам называл его в стихах своим «братом», но, разумеется, масштабы их дарования были очень различны. Все же Клюев, бесспорно, был крупным поэтом. Однако поэзия его не могла выйти из замкнутого круга старого деревенского мира, который он всячески идеализировал и прославлял. В своих крепко сделанных стихах Клюев славил смирение, покорность и религиозность «мужичка», проклинал бесовские соблазны города, проклинал малейшие перемены в деревенском быту. Разумеется, коллективизацию он встретил с нескрываемой враждебностью. В начале 30-х годов его поэзия выглядела отчаянным анахронизмом. В советской литературе ему места не было; его давно не печатали.
...И вот в кабинет редактора «Известий» входит высокий молодой человек с открытым и веселым лицом. Держится он совершенно непринужденно и в то же время скромно, видно, что знает цену и себе и собеседнику. «Что-то не похож он на «полуграмотного деревенского паренька», — отмечает про себя Гронский, осторожно начиная разговор. «Наплетут черт те что», — думает он, убеждаясь, что его гость отлично разбирается в политической обстановке в стране, судит о ней глубоко и «по-настоящему». А каковы его знания в литературе? И Васильев называет десятки имен — от классиков до мелких сегодняшних стихотворцев, оценивает их здраво и принципиально, цитирует на память. Иван Михайлович даже сомневается — стоит ли засорять память стихами, которые завтра наверняка будут забыты.
— Я считаю, что поэт должен знать творчество всех — буквально всех своих собратьев по перу, — отвечает его молодой собеседник. — А на память пока не жалуюсь.
Уж не в первый раз в двери заглядывает секретарша, но Гронский только отмахивается от нее. Он слушает стихи своего гостя, делает огромные усилия, чтоб уж очень не расхвалить их, и, окончательно покоренный, расспрашивает молодого поэта о его творческих планах. Васильев называет темы стихов и поэм, которые он намерен написать в самое ближайшее время. «Ну, тут парень хватил, — думает Иван Михайлович, — это программа лет на пять, не меньше». (Много лет спустя в своих воспоминаниях И. М. Гронский скажет: «Я не знал тогда о колоссальной работоспособности Павла Васильева»).
И только в конце беседы Иван Михайлович спохватывается и заводит речь о Клюеве.
— Клюев — человек очень больших знаний, — отвечает Васильев, — у него многому можно научиться. И я учусь у него, учусь поэтическому мастерству.
— Выходит, что в «келье» у Клюева идет борьба черта с младенцем, и младенец пока оказывается умнее и хитрее черта. Так надо понимать ваши слова? — спрашивает Гронский, посмеиваясь.
Васильев улыбается в ответ.
— Да, примерно так. Мне-то ничто не грозит. Но, к сожалению, некоторые младенцы все же весьма прочно застряли в сетях, раскинутых чертом, и их оттуда не так-то легко будет вытащить...
Относительно себя молодой поэт был совершенно прав. Никакого идейного влияния Клюев на него не оказал. Вся поэзия Клюева — воспевание «дремучего быта». Поэзия Павла Васильева — решительный, хотя часто и мучительный, расчет с этим бытом.
С тех пор Гронский и Васильев встречались часто. Иван Михайлович постоянно зазывал Павла то в редакцию, то к себе домой.
У Гронского жила его свояченица Елена Вялова, молодая девушка, только что окончившая школу в Ленинграде, а теперь работавшая в одном из московских издательств. Через несколько месяцев она стала женой Васильева. Елена Александровна вспоминает, как поэт впервые появился у них на квартире. Днем Г ронский предупредил, что вечером у них будет молодой поэт Павел Васильев и прочтет свою новую, очень интересную вещь — поэму «Песня о гибели казацкого войска».
Сестры с интересом присматривались к гостю, нашли его интересным, интеллигентным человеком, остроумным собеседником, но все же в их впечатлениях не было ничего из ряда вон выходящего — до тех пор, пока Васильеву не пришло время читать стихи. Он поднялся, встал за стулом, цепко сжав его спинку сильными руками, слегка прищурившись и немного откинувшись назад, — и исчез. Казалось, остался только голос, словно специально созданный для выражения поэзии, голос, то поднимающийся на огромную высоту, то снижающийся до шепота, но всегда очень четко выговаривающий слова. Читать Васильев умел и любил. Впрочем, любил не то слово. Елена Александровна говорит, что читать стихи для него было таким же естественным состоянием, как есть, думать, разговаривать...
Жилья у молодых, конечно, не было. Поселились у Г ронского — в библиотеке. Библиотечная обстановка, мало приспособленная для семейного уюта, Васильева, читавшего страшно много, только радовала. Радовали и встречи с интереснейшими людьми, часто посещавшими Гронского. Приходили большие писатели — Леонид Леонов, Федор Гладков, Александр Малышкин, Владимир Лидин. Бывали крупнейшие деятели партии и государства — Михаил Иванович Калинин, Валериан Владимирович Куйбышев, тоже казах-станец и сибиряк, вдобавок «немного поэт», как он писал в официальной автобиографии. Куйбышев сразу заинтересовался своим молодым земляком. С горящими глазами, которые на эти минуты покидало обычное недоверчивое выражение, слушал Павел рассказы старых большевиков — о подполье, о гражданской войне, о Ленине, о великой стройке. После того как гости разъезжались, Васильев, оставшись с женой в своей спальне-библиотеке, долго не мог успокоиться, мерил комнату шагами и без конца повторял:
— Какие люди, какие люди! Ведь это настоящие поэты, поэты действия! Вот у кого нужно учиться!
Куйбышев часто просил Павла почитать стихи. Особенно нравилось ему «Повествование о реке Кульдже», и Васильев читал его каждый вечер, когда приезжал председатель Госплана СССР: «Был прогнан в пустыню шакал и волк. И здесь сквозь песчаный шелк шел пятой армии пятый полк и двадцать четвертый полк. Удары штыка и кирки удар не равны ль? По пояс гол, ими руководит комиссар, который тогда их вел. ...Мы никогда не состаримся, никогда. Мы молоды до седин. О, как весела, молода вода, толпящаяся у плотин!»
Все это было близко члену Реввоенсовета Туркестанского фронта, теперь ставшему командармом пятилеток. Он негромко говорил: «Хорошо! Лучше не напишешь! Вот она, подлинно эпическая сила. Очень хорошо!».
Дарование Васильева покоряло людей, творчески, казалось бы, далеких от него. В апреле 1933 года Борис Пастернак писал поэту и прозаику С. Спасскому: «Слышал однажды на вечере Павла Васильева. Большое дарование с несомненно большим будущим».
...И уехав из Кунцева, Васильев не порывал с «сибирской колонией», внимательно следил за работой старых приятелей, бывал на их вечеринках, участвовал в розыгрышах, на которые не скупились молодые литераторы.
Но старых «сибогневцев» объединяли не только дружеские шутки. В 1932 году они выпустили интересный сборник «Песни киргиз-казахов» — переводы произведений современного казахского народного творчества.
Первым толчком к составлению сборника послужило то, что Леонид Мартынов привез из своих казахстанских поездок несколько записанных им песен акынов. Затем в работу включились другие «сибогневцы», и тут ведущая роль быстро перешла к Павлу Васильеву. В книге опубликовано два перевода С. Маркова, три — Н. Феоктистова, шесть — П. Васильева.
Подписанные Васильевым вещи этого сборника не являются переводами в точном смысле этого слова. Это — вольные переложения. Не совсем понятно, почему в большинстве своих переложений переводчик отказался от рифмы — ведь казахская поэзия никогда не знала безрифменного стиха. Зато ритмику казахского стиха он пытался передать упорно и небезуспешно. Интуитивно поэт понял то, что значительно позже было научно установлено: основным ритмическим элементом казахской силлабики является постоянный словораздел, четкое разграничение в каждой строке нескольких групп слов, каждая в три-четыре слога.
Основная тема переложенных П. Васильевым произведений казахского фольклора — приход в степь нового быта, в частности невиданной ранее техники, призванной служить и помогать людям: «Спрашивала меня девочка: «Правда ли, что возле Омск-города на колесах звери бегают?» Отвечал я с усмешкой девочке, потому что все понимаю: «Нет, это не звери, это автомобили. Они проносятся, словно птицы, с людьми на загривке, даже мы с тобой можем покататься...»
В казахской поэзии тех лет, устной и письменной (в частности, в стихах Сакена Сейфуллина), можно найти много сходных примеров, когда авторы знакомили степняков с новыми машинами, прибегая для наглядности к сравнению их с реальными и сказочными животными.
О больших социальных переменах в жизни Казахстана рассказывает целый ряд Васильевских переложений. Вот, например, одна из «павлодарских самокладок»: «Проезжаю я мимо магазина Дерова, знаменитейшего купца Дерова. Видишь, как все переменилось. Теперь в магазине Дерова интересную на стене историю показывают., световую историю показывают о «Броненосце «Потемкине».
Большая часть вещей Васильева в «Песнях киргиз-казахов», видимо, действительно имеет казахские оригиналы. Но есть там, несомненно, и стихи, целиком принадлежащие русскому поэту и лишь стилизованные — очень удачно, без фальши — под произведения степных певцов. К ним относится «Агроном Пшеницын», где Павел Васильев вспомнил отца своего школьного друга, одного из энтузиастов социалистического преобразования республики: «Агроном Пшеницын Федор, вот это мы понимаем!.. Вот ему мы можем поверить, есть чему у него учиться. Посадили людей за решетку, конокрадов в степи известных — их Пшеницын взял на поруки и научил их работать. ...А потом он приехал в степи и аулам нашим показывал, их учил, как вскапывать землю и засевать эту землю, урожай получая осенью. Агроном Пшеницын Федор — вот это мы понимаем...»
«Песни киргиз-казахов» остаются заметной вехой в истории знакомства русского советского читателя с казахской литературой. О высоком уровне Васильевских переводов говорит, между прочим, и тот факт, что один из них вошел в антологию «Стихи о Ленине», выпущенную издательством «Художественная литература» к 50-летию Октября.
...Но все же круг знакомств в «сибирской колонии» не был теперь для Васильева основным. Он часто бывал у больших писателей, артистов, ученых — людей интересных и глубоких. Но за ними потянулись хозяева и хозяйки многочисленных «салонов», коллекционировавшие знаменитостей разных рангов — от полярников до бывших эгофутуристов. Павел Васильев становился модной фигурой, и его усиленно приглашали в эти «салоны», на вечера, метко прозванные Ильфом и Петровым «московскими ассамблеями». На «ассамблеях» заграничные патефоны крутили контрабандные пластинки Вертинского и Лещенко, танцевался полузапретный фокстрот, хозяйки, часто напоминавшие людоедку Эллочку на различных стадиях ее интеллектуального развития, подносили поэту торты с кремовыми вензелями «П.В.».
Конечно, Павел знал цену этой салонной славе, но все-таки не отказывался от ее соблазнов — ведь он был еще очень молод. Бывало, что ассамблея заканчивалась скандалом, затеянными Васильевым, но новых Эллочек это не останавливало — Васильевские скандалы даже придавали ассамблеям пикантность...
Как-то Васильев повез жену к Клюеву. Одежду у гостей принял мальчик с удивительно красивыми глазами.
— Знакомьтесь: моя жена Лавиния, — представил его Клюев.
Старик юродствовал. Теперь он служил оценщиком старинных икон в антикварном магазине.
Хорошо было после всего этого отправиться бродить по Москве, не обращая внимания на дождь, смотреть, как вскипают пузыри в лужах на только что проложенном асфальте, как поднимается корпус новой гостиницы в Охотном ряду, как кипит работа возле станции будущего метро. Дождевые струи смывали с души всю чадную накипь, осевшую на «ассамблеях». Хорошо было, вернувшись после такой прогулки в свою библиотеку, переодеться в сухое, спросить у Елены стакан крепкого чаю и сесть над чистыми листами с твердой уверенностью, что за ночь они покроются самыми нужными, единственными во всем мире словами нового стихотворения.
Работал Васильев неправдоподобно много, и уж этому никакие салоны помешать не могли. Что бы ни случилось — большое горе или большая радость — чистые листы каждый день ждали его, и он обязательно приходил к ним. Это было как жажда, которую не утолить.
Однако интересы Васильева не ограничивались одной поэзией. Бывало, что на листах вместо рифмованных строчек появлялись цепочки латинских букв и математических знаков. Николай Корнилович не зря считался отличным педагогом, умеющим прививать любовь к своему предмету, — высшая математика на всю жизнь осталась для Павла коньком, хобби.
Книг Васильев проглатывал уйму. Помимо художественной литературы читал труды по истории, философии, эстетике, и его безукоризненная память навсегда удерживала прочитанное.
Как-то в компании, где были академик П. П. Лазарев, Иван Михайлович Москвин, балетмейстер Большого театра Тихомиров, речь коснулась собора святого Петра в Риме — кто-то из присутствовавших недавно побывал в Италии. Начали вспоминать историю создания собора, но быстро запутались в именах и датах. Тогда в разговор вступил Васильев, очень сжато и ясно рассказал о том, что над проектом собора в 1504 году работал живописец Браманте, что в его строительстве принимали участие Бернини, создавший наружные колонны, и Микеланджело, которому принадлежит алтарная часть собора. Поэт спокойно, не напрягая память, вспоминал десятки имен, давал лаконичные, но яркие характеристики архитекторов, живописцев, скульпторов итальянского Ренессанса. Когда он кончил, Москвин недоверчиво пожевал губами:
— Ну, Павел Николаевич, стихи у тебя хорошие, а тут ты хватил. Нельзя столько помнить. Сочинил, поди, половину?
— Это нетрудно проверить, — заметил кто-то.
Москвин подошел к книжному шкафу, нашел нужную
книгу, минуть пять сосредоточенно листал ее, а затем вернулся к столу и молча поцеловал Павла. Кругом зааплодировали, а Васильев сидел неподвижно, тщетно борясь с победной улыбкой, упрямо поднимавшей уголки его губ.
...А дым тянулся за огнем, стлался, чадил. В конце марта 1932 года Васильев был арестован. Около двух месяцев он находился под следствием, потом был освобожден.
Во время следствия молодой поэт познакомился с несколькими видными чекистами, сумевшими разобраться в сложных обстоятельствах и понять, что Васильев — совсем не враг. Но «салонные» знакомые от Павла на какое-то время отхлынули — перепугались. Хуже, что струсили и в редакциях, перестали принимать стихи. Васильев стиснул зубы, работал в одиночестве — писал «Соляной бунт».
Через несколько месяцев все успокоилось, двери редакций снова широко раскрылись, поклонников и поклонниц вновь можно было черпать ложкой, как уху.
В Павле Васильеве видели надежду нашей литературы виднейшие строители социалистической культуры. Как-то весной 1933 года у Анатолия Васильевича Луначарского собрались А. Н. Толстой, Гронский и другие литераторы. Луначарский был уже тяжело болен, до смерти ему оставались считанные месяцы, но по-прежнему фейерверочно яркой была его речь, по-прежнему с живейшим интересом следил он за всеми событиями культурной жизни страны и всего мира. Луначарскому пришлось уйти с поста наркома просвещения, на котором он работал с первых дней Октября, но его авторитет, авторитет крупнейшего ученого-марк-систа в области общественных наук, ученика и друга Ленина, оставался незыблемым. Говорили о его недавней реплике на диспуте в Коммунистической академии. Анатолий Васильевич выступал в прениях:
— Ленин говорил по данному вопросу, что...
— Позвольте,— прервала оратора сухопарая аспирантка в очках, — Ленин этого не говорил. Я не знаю такой цитаты.
Анатолий Васильевич улыбнулся.
— Вам, милая девушка, Ленин, возможно, и не говорил, а вот мне Владимир Ильич это сказал...
Разговор коснулся уже многих тем, когда Алексей Толстой назвал имя Павла Васильева.
— Судя по тем стихотворениям, которые я читал, — сказал он, — это поэт совершенно исключительного дарования.
Анатолий Васильевич загорелся. Он говорил о том, что согласен с Алексеем Николаевичем, что за теми немногими стихами Васильева, которые он знает, стоит большой поэт. Но все-таки трудно судить о возможностях молодого писателя, когда с ним лично не знаком, когда не представляешь его как личность. Вот если бы познакомиться с ним, побеседовать, узнать, чем он дышит...
Гронский пошел к телефону, и через полчаса Павел уже сидел за столом рядом с Луначарским. Молодой поэт был в приподнятом состоянии духа, он преклонялся перед бойцами старой ленинской гвардии, общение с ними всегда вдохновляло его. И он весь раскрылся перед Луначарским, говорил так, чтобы успеть высказать все заветное, читал так, словно больше никогда не придется читать. А Анатолий Васильевич просил все новых и новых стихов, и Павел читал и читал звенящим от страсти голосом, а Луначарский не сводил с него взгляда.
Выло уже за полночь, когда Анатолий Васильевич поднялся и произнес настоящую речь — одну из последних речей великого оратора революции. Он поздравлял молодого поэта и поздравлял всех собравшихся с тем, что в советскую литературу пришел такой замечательный талант. Он говорил о том, что литература социализма — это товарищеское соревнование ярких творческих индивидуальностей. Они объединены общей идейной позицией, их творчество отдано самой высокой за всю историю человечества цели — построению коммунистического общества, но голоса их звучат по-разному, и это прекрасно. Наши враги утверждают, что коммунизм — это всеобщая уравниловка, стрижка личностей под одну гребенку, казарменное единообразие. Эго гнусная клевета. Только коммунизм ведет к ярчайшему расцвету индивидуальности каждого человека везде, в том числе и в искусстве. И чем больше будет в нашем искусстве таких художников, как Васильев, певцов своей, неповторимой песни, тем успешнее станет служить она социалистическому обществу.
Эту речь замечательного ленинца, ученого-большевика, трибуна советской культуры Павел Васильев запомнил навсегда, и воспоминание о ней поддерживало поэта в дна трудных испытаний.
