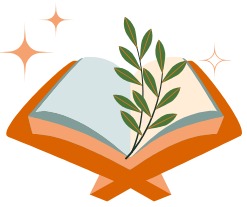Древо обновления — Рымгали Нургалиев
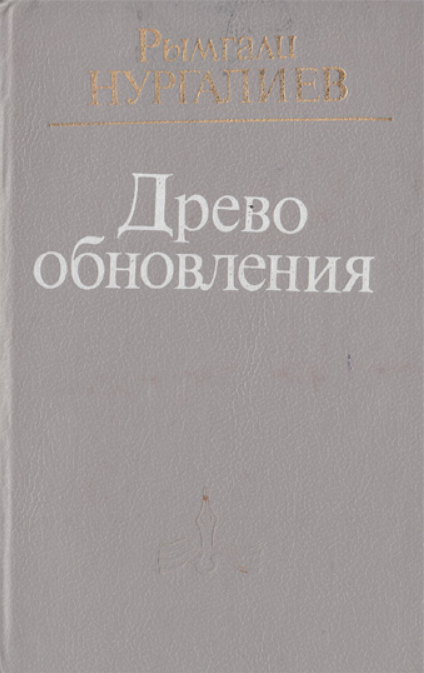
| Название: | Древо обновления |
| Автор: | Рымгали Нургалиев |
| Жанр: | Образование |
| Издательство: | |
| Год: | 1989 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 3
Гений Абая, вечная молодость его поэзии навсегда нашли приют в душе народа, который его родил. В своем исследовании, где он рассматривает творчество Абая, его влияние на литературу последующих поколений, Нуркатов словно открывает сокровищницу сердца, в котором зарождаются чудесные таинства поэзии. Абай, которого вы не раз читали и выучивали наизусть, словно поворачивается к вам иным ликом. Критик далек от пустых похвал и рукоплесканий. Художественные узоры поэзии Абая анализируются на высоком эстетическом уровне и сравниваются с выдающимися образцами мировой поэзии.
Жизнь и деятельность Чокана Валиханова с особой любовью показаны в статье «Сын века». Рассказывая об известных фактах и деталях, критик нащупывает такую струну, которая связывает Чокана с сегодняшним поколением.
В статьях «Эпоха и художник», «о детской прозе» речь идет о фундаментальном жанре нашей литературы. Автор говорит о большой ответственности сегодняшней прозы, разбирает несколько произведений и точно устанавливает их недостатки. Есть в этих обзорах и известная категоричность, выводы здесь не всегда оснащены доказательствами.
Связи нашей литературы с литературами других народов, ее исторические истоки — захватывающая тема, разработка которой только начинается. Статьи А. Нуркатова «Шевченко и казахская литература», «Поэзия Гафура Гуляма», «Жизнь, ставшая легендой» являются свидетельством этого хорошего начала.
Творческая биография писателя («Развитый талант»), методика научного исследования («Труд ученого»), пути драматургии («По пути творческого роста»), судьба импровизации («Творчество Исы Байзакова»), революция и поэзия («Образ Ленина в казахской советской поэзии»)—важнейшие проблемы захватывали ум и внимание критика.
Талант Айкына Нуркатова рос от статьи к статье, от исследования к исследованию. Расстояние между его первым выступлением и последними работами напоминает долгую и нелегкую дорогу.
На стиль А. Нуркатова оказали благотворное влияние языковая культура Абая, стилистические приемы Ауэзова. В процессе работы над их творчеством А. Нуркатов обретал прозорливость критика и мастерство литератора.
Смерть не учитывает положение, возраст и талант. Но Айкын Нуркатов относится к числу тех людей, кто смог победить смерть своим трудом и творчеством.
Развитие современного казахского литературоведения идет в четырех направлениях.
Во-первых, оценка искусства слова с исторической точки зрения.
Во-вторых, исследование сугубо литературоведческих проблем.
В-третьих, рассмотрение творчества видных художников, оказавших влияние на развитие литературы.
В-четвертых, публикация древних источников и произведений классиков, текстологические поиски.
Вышли в свет шесть книг, в которых долгая история казахской литературы исследуется с исторической точки зрения. В создании этой многотомной истории литературы, начало которому положил Мухтар Ауэзов, участвовала группа ученых и критиков. Разумеется, у нас и до этого выходили книги о литературе определенных периодов и монографии о творчестве отдельных писателей. Но в этом издании наша литература представлена с древнейших времен до наших дней, многие, казалось бы, разнородные явления приведены в стройную систему.
Последние две книги названного труда, вышедшего под редакцией профессора М. Каратаева, отданы истории казахской советской литературы. В них обзорные главы об отдельных периодах (индустриализации, коллективизации, Великой Отечественной войны и др.) чередуются с литературными портретами видных художников.
Степняки знают, что после теплого обильного дождя в степях буйно поднимается разнотравье. Казахская литературная молодежь, которая на заре нынешнего века встала на путь социальных преобразований, напоминает такое яркое цветенье. Октябрьская революция дала возможность талантливым людям рано и быстро обретать силу. Хотя сложные процессы в жизни двадцатых годов породили различные направления и течения, в книге доказывается, что главное место принадлежало социалистическому искусству.
Имевшая в своих истоках разностороннюю фольклорную традицию, казахская письменная литература сумела быстро встать на ноги и освоить ранее незнакомые ей жанры. Причиной активного развития искусства во все времена были не подражание чужим образцам, не эпигонство, а социальный заказ, стремление художника ответить на требования времени. Рассматривая начальный период казахской советской литературы — очень сложный период!— давая ему оценку, нельзя забывать об этой истине.
«История казахской литературы» (1971 г.) открывает много новых имен. Одни из них, такие, как рано умершие Баймаганбет Изтулин и Шолпан Иманбаева были и раньше известны и заняли достойное место в нашей словесности. Творчество других литераторов двадцатых годов (Мажит Даулетбаев, Габбас Тогжанов, Жумат Шанин, Елжас Бекенов, Жиенгали Тлепбергенов) впервые представлено в систематизированном изложении.
Используя произведения, опубликованные на страницах газет и журналов, архивные материалы, авторы сумели верно воссоздать литературную атмосферу того времени. Рассказать об организации казахстанских писателей, о проблемах, связанных с появлением КазАПП.
Перед нашим литературоведением сейчас стоит одна задача: переоценить заново ряд поэтических и прозаических произведений, сослуживших добрую службу в обогащении нашего литературного языка, в достижении художественных высот, пересмотреть устаревшие взгляды на них, подойти к ним серьезно и спокойно, с позиций марксистско-ленинской эстетики. Деление казахской литературы на периоды (периодизация) в этом труде взято в закономерной связи с важными и узловыми явлениями в жизни нашего общества.
Диалектический характер развития можно увидеть уже в литературе 30-х годов. Буря великой революции в корне изменила отношения между людьми, изменились и нравы и устремления. Эти перемены, в первую очередь, отозвались в психологии художников — наиболее чувствительных, самых тонких людей. Если творчество С. Сей-фуллина, выросшего в рабочей среде и возмужавшего в пекле социальной борьбы, с самого начала обратилось к свершениям революций, то люди, вышедшие из аулов, опутанные предрассудками феодализма, ошибались в начале своего творческого пути, не раз спотыкались. Причиной заблуждений были не столько личные предубеждения, сколько социальная, политическая малограмотность.
В последних двух томах шеститомной истории казахской литературы разбирается состояние поэзии, прозы, драматургии, литературоведения, критики, творчество молодых, которые в те годы вошли в литературу со своим ярко выраженным почерком.
К тридцатым годам окончательно отпочковались от поэзии и сложились жанры нашей литературы. Правда, в текстах прозаических произведений С. Кобеева и С. То-райгырова часто встречаются рифмованные словосочетания и ритмическая проза. Они еще не успели самоопределиться в прозе. Таких писателей, как М. Ауэзов и Б. Майлин, способных полностью соблюдать жанровые условности и Создавать произведения, достойные передовой литературы, в то время можно было перечесть по пальцам. В 30-х годах активно заявил о себе С. Мука-нов. Появились оригинально написанные книги С. Еру-баева, М. Даулетбаева. Были созданы ставшие популярными произведения Г. Мусрепова и Г. Мустафина. Прирожденные поэты С. Сейфуллин и И. Джансугуров начали обращаться и к прозе.
В 20-е годы пьесу с хорошо продуманными характерами п конфликтом можно было встретить только в творчестве М. Ауэзова. В следующем десятилетии драматурги превратилась в активно действующий жанр. Родились произведения, в которых шла речь о главных проблемах действительности, показывающие разнообразие и сложность человеческих характеров.
Представители фольклора — жырау и акыны, вдохновленные веянием новой эпохи, восторженно воспевали культурные и хозяйственные успехи. Среди них особое место занимает Джамбул, великан казахской поэзии.
Война во все времена несла с собой разрушения, крушение тысяч жизней, гибель миллионов людей.
Сцены сражения в эпосе чаще всего показывают, как батыр крушит своих врагов, здесь преобладает восхваление неимоверной силы и неустрашимой смелости. Батыр не знает волнения, опасения, его рука не задрожит, он крепко стоит на земле. Можно сказать, что лишь в нескольких прозаических произведениях, посвященных событиям восстания 1916 года, батальные сцены показаны реалистически. В поэмах народных акынов фронтонам жизнь не нашла своего адекватного изображения.
В период Великой Отечественной войны груз на плечах казахской литературы намного потяжелел. Дело не только и том, что мал был опыт в изображении войны — в ту пору наша литература потеряла многих своих мастериц и самобытных художников. Чтобы возместить столь тяжелую утрату и залечить раны, не было времени, а требования военных лет были жесткими и непреклонными, Об этом без утайки сказано в истории литературы. В Специальной главе речь идет о подвиге, совершенном нашими писателями пером и оружием, когда опасность па имела над нашей страной. Здесь анализируются художественные и образные средства стихов и поэм, которые рассказывают правду о боевых буднях солдат армии п партизанских отрядов. К сожалению, исследователи слишком увлеклись военной терминологией этих произведений и упустили эстетический анализ. В ряде случаев авторы вообще ограничились перечислением.
Большое развитие в военные годы получил фольклор.
Но этот момент в данном издании несправедливо обойден. Откровенно говоря, казахский фольклор военных лет, до сих пор бытующий в народе, требует специального и вдумчивого исследования.
И первой книге даны монографические портреты С. Сейфуллина, Б. Майлина, И. Джансугурова, М. Ауэзова, С. Муканова. Эти писатели заложили фундамент нашей литературы и стали примером подвижничества для последующих литературных поколений. Критические выступления о них вначале появились на страницах газет и журналов в виде рецензий и статей, позже переросли в большие очерки и фундаментальные монографии. В период господства вульгарного социологизма характерны и образы, объективные замыслы оставались вне внимания критики. В большинстве случаев критики занимались поисками прямых аналогий и скрытых намерений. И это для многих писателей обернулось трагедией. Творчество Сакена, Ильяса, Беимбета долгое время оставалось под запретом. Лишь в последние три десятилетия мы признали их наследие и приступили к его исследованию.
Особенно большое значение имеют труды Е. Исмаилова, С. Кирабаева, Т. Какишева о творчестве С. Сейфуллина. Они собрали многочисленные, ранее неизвестные исторические и литературные материалы, архивные документы, широко обобщили их.
В монографической главе о С. Сейфуллине, помещенной в «Истории казахской литературы», показан большой общественный деятель, выдающийся поэт, прозаик, драматург.
При имени Беимбета Майлина сразу вспоминаются многоплановые романы и сатирические стихи, повести и пьесы, рассказы и фельетоны. Это был великий труженик, который ничего не придумывал, а все темы и сюжеты брал из живой повседневности. Создатели «Истории...» правильно решили, что не стоит снова ворошить «ошибки», усмотренные мелочными и поверхностными критиками в творчестве этого неповторимого художника. Они старались уточнить и пополнить биографию писателя новыми фактами, добраться до идейной сути его произведений, выяснить особенности его многогранного стиля. И тем не менее разбирая творчество Б. Майлина, авторам не удалось преодолеть такие литературоведческие стереотипы, как избыток монотонности и недостаток эстетического анализа.
В главе об Ильясе Джансугурове наиболее удачны страницы, где проводится сравнительный анализ. И почему-то нет разговора о форме стихотворений поэта, его замечательном новаторстве.
Специализация, критика, приверженность одной, близкой ему теме —один из плодотворных путей в литературоведении Такое постоянство позволяет исследователю всесторонне рассмотреть свой объект, отметить не только броские и явные особенности в творчестве художника, но и увидеть незаметные для других, оставшиеся за строкой мотивы и причины.
М. Каратаев проделал большую работу в разъяснении и пропагандировании творчества М. Ауэзова. Суждения критика о сочинениях великого писателя с годами становятся все глубже и аргументированнее. Сложный путь большого художника показан в «Истории...» в диалектическом единстве. Было бы не лишним прочесть у М. Каратаева доказательный анализ трагической повести М. Ауэзова о событиях шестнадцатого года. Общие слова не дают ясного представления об этом произведении.
Автор романов, поэм, стихов, пьес, исследовательских трудов Сабит Муканов неутомимо и долго служил нашей литературе. В книге разбираются наиболее известные произведения писателя-академика, определяется их значение в разные периоды казахской литературы.
Во второй книге имеются обзорные главы о послевоенной казахской литературе и ее современном периоде.
После того, как фашизм был разгромлен и наступили мирные дни, обновилась наша общественная жизнь. Развитие послевоенной литературы, связано, с одной стороны, с новым подъемом творчества известных писателей, с другой стороны, с творчеством талантливой молодежи, вернувшейся с войны. Расширилось поле зрения нашей литературы, в ней получила права жестокая истина, которую преподнесла нам жизнь.
Исследователи не прошли и мимо схематизма, напыщенности, приукрашивания действительности, которые во многом были свойственны литературе послевоенных лет. Хорошо, что в этом разделе не упоминаются стихи из высокопарных, общих, ничего не дающих уму слов, безжизненные пьесы, рожденные так называемой «теорией бесконфликтности», не имеющие начала и конца длинные нудные истории, построенные на схватках между хорошим и лучшим.
Ученые сосредотачиваются на произведениях-долгожителях и детально разбирают их, выделяют такие вещи, которые пробуждают мысль и согревают сердце. И все-таки в этом обзоре больше, чем следует, занимают места длинные списки произведений, изложение содержания, в результате — недостаток теоретических обобщений.
Самый справедливый и нелицеприятный суд — это суд времени. Ему принадлежит оценка и общественных явлений, и литературных заслуг отдельных личностей. Совсем недавно бытовало категоричное, как слово Корана, мнение, что история казахской литературы начинается с XVIII века. Сегодня эта концепция рухнула. Реабилитированы такие крупнейшие фигуры как Шакарим Кудайбердиев (1858—1931), Ахмет Байтурсынов (1873— 1938), Магжан Жумабаев (1894—1938), Жусупбек Айма-уытов (1889—1930).
Дать верную оценку книгам своих современников для критика — отнюдь не простое дело. Нужно было обладать мощью Белинского, чтобы распознать в Лермонтове гения. Даром предвидения обладал М. Ауэзов, предсказавший большое будущее Чингизу Айтматову.
Зоркость, ученость, вкус, благородство заключаются в способности отличить закономерное, органическое литературное явление от случайного, дар борзописца от талантливости, в умении взлелеять и помочь вырасти новому явлению, в резком отвержении конъюнктурщины, подделки под искусство.
Самая объемная глава посвящена литературе 1956— 1966-х годов. Число романов, вышедших за это время, перевалило за сто. Все ли их можно отнести к произведениям искусства? Нет. Среди них немало скороспелых, непродуманных. Сейчас не счесть самоуверенных сочинителей, которые после опубликования пары статей о том, как совхоз выполняет свой годовой план, садятся за сотворение повести, кто, едва раскрыв букварь художественной грамоты, пачками выпускают романы. Что из них можно перевести на другие языки, не рискуя национальным достоинством? Ничего! А ведь эти произведения выходили буквально вслед за книгами Ауэзова, Муканова, Мустафина, Мусрепова, которые в те годы привлекли внимание всесоюзного читателя.
В главе, где идет речь о состоянии современной казахской литературы, лишь слегка укоряются малозначительные повести, потому что актуальна их тематика. А такое произведение, как «Грозные дни» Тахави Ахтанова, созданное на основе фронтовых впечатлений автора, участника войны, реалистически воссоздавшего будни войны, упоминается лишь вскользь. Это — несправедлино. В его достоинствах и недостатках следовало бы разобраться подробнее.
Главные тенденции в творчестве наиболее известных представителей современной казахской поэзии раскрывается весьма убедительно. Привлекают внимание страницы, посвященные актуальным проблемам современной драматургии и критики.
Монографические портреты отличаются стилевым многообразием: в творчестве Г. Мусрепова выделяются секреты мастерства, в произведениях Г. Мустафина — многоплановость и публицистичность, в стихах Т. Жарокова — живописная вязь метафор. Столь же тщательно разбираются произведения А. Тажибаева, Г. Орманова, Л. Токмагамбетова.
Доставляет огорчение, что в этом большом научном труде часто встречаются скороспелые заключения, необоснованные выводы, неграмотные формулировки и штампы. Примеров тому можно привести более, чем достаточно: «видное произведение», «ведущий литературного каравана», «вошедший в золотой фонд» и т. п.
В целом в этих двух книгах подробно представлены полувековой путь нашей родной литературы, творческая судьба больших и малых художников слова. Если же говорить о главном достоинстве коллективной работы — это объективность оценок как долговременных, так и преходящих литературных ценностей.
IV
За небольшим исключением, мы пока не научились грамотно выпускать собрания сочинений. Текстология книг даже таких поэтов, как Абай и С. Торайгыров, не отвечает высоким научным требованиям. Не всегда установлена принадлежность стихов именно этому автору, не сверяются рукописи, иногда составители ради каких-то своих целей коверкают произведения. Возьмем к примеру строки из знаменитого стихотворения Абая «Если умер близкий — скорбен человек». В тексте стиха в первом случае стоит слово «одно», во втором случае — «все». По-казахски «одно» пишется как «бири», а «все» — как «бари». В оригинале изменили лишь одну букву. Но эта буква придала совершенно другой смысл стихам. Если считать подлинной последнюю редакцию, получается, что Абай отрицает и Шортанбая, и Бухара-жырау, и Дулата, творивших до него. Теперь обратим внимание на третью и четвертую строфу стихотворения.
Записи Мурсеита на сегодняшний день считаются единственным документом точно фиксирующим текст произведений Абая. Но разве не мог он допустить ошибку при переписке? К тому же в арабской графике легко перепутать А с И, вернее говоря, не И, а мягко звучащее по-казахски А. Обратим внимание на главное — смысл. Если читать «все», то получается, что в каждом стихотворении былых поэтов недостатков не счесть. Значит надо оставить слово «бири», которое подчеркивает, что у перечисленных Абаем поэтов встречаются, как мы сейчас говорим, отдельные недостатки. Мнение, схожее с этим, высказал и А. Нуркатов.
На этом примере нетрудно убедиться, насколько хромает текстология в современном казахском литературоведении.
Шеститомники Сакена, Ильяса, Беимбета издавались аврально и потому —без соблюдения элементарных критериев. Какое произведение когда написано, как его встретили, какова его дальнейшая судьба, есть ли у него планы и варианты, переведено ли на другие языки — такого рода вопросы массового читателя остались без ответа. Настало время заново посмотреть научно-критическим взглядом на произведения наших классиков, подготовить к ним необходимый научный аппарат.
Не удовлетворяет и текстология сборников народных поэтов Асета и Арина, стихотворения которых были встречены народом с большой радостью.
Слово о многотомнике Мухтара Ауэзова.
Если сказать в целом, то судьба Ауэзова — счастливая судьба. Счастье создания казахской национальной драматургии, счастье воздвижения казахской национальной эпопеи и, самое главное, счастье познакомить мирового читателя с духовным миром казахского народа. Своей прозой двадцатых годов, первыми драматическими произведениями, Ауэзов оставил в литературе незарастающий след. История словно бы подготовила все условия, чтобы этот человек создал свое главное произведение. Когда многие не смогли уцелеть в адских испытаниях сталинского террора, был репрессирован и Ауэзов (1930—1932 гг.), но сумел обойти коварные капканы судьбы и остался жив. И все же ушел мастер из этого мира, еще полный энергии и больших планов. Но для человека искусства прожить 64 года — это немало.
Бывают случаи, когда писатель не публикует иные из своих произведений при жизни. Может быть, причиной тому жизненный материал, нежелательные факты, несогласие с временем или другие субъективные препятствия. А у Ауэзова нет большого произведения, которое не было бы опубликовано в свое время. Только драма «Отец народа», поставленная в 1921 году в Семипалатинске перед рабочими затона, да повесть «Жадный серый», написанная в 20-х годах, были потеряны. Другие же прозаические вещи через некоторое время после написания выходили к читателям.
В многотомных изданиях читатель первым долгом ищет незнакомые ему произведения.
Творения писателя расположены в жанровом и хронологическом порядке. В первом томе собраны рассказы и повести, опубликованные в 20-х годах в журналах «Тан», «Шолпан», «Сана», «Жана мектеп» и «Жана адебиет». Реалистически изображая степную стихию, глубоко раскрывая психологию разных социальных типов, эти добротно отшлифованные самобытные вещи обнаружили силу, неповторимый личный почерк, богатство красок таланта М. Ауэзова. Образность языка этих небольших по объему прозаических произведений не уступает мощным картинам знаменитой эпопеи. Нельзя не сказать, что Ауэзов позднее не всегда поднимался до тех художественных высот, которых достиг в коротком жанре в 20-е годы. Разумеется, с такими шедеврами, как «Красавица в трауре», «Лютый», не идут ни в какое сравнение более поздние вещи, вроде «Песок и вершина», «Следы».
Некоторые художники всю жизнь «вскармливают» свое творчество своей же биографией и, запутавшись, никак не могут выбраться из тесного круга лично пережитого. Ауэзов не принадлежит к числу таких деятелей. Но все увиденное, узнанное, услышанное, прочитанное, исследованное переплавляется целиком в фантазии писателя и в преображенном виде воплощается в повесть или рассказ в соответствии с авторским замыслом.
Ауэзову не нужно было специально изучать повседневную жизнь, в свои 20—25 лет он принимал активное участие в общественной и политической жизни. А когда полностью отдался учебе и науке, перешел на писательскую работу и как бы оторвался от своей любимой степи, главной его заботой стали специальные исследования народной жизни. Много очерков М. Ауэзова появилось в 20—30-е годы в разное время и по разным поводам. Жизнь любого произведения, не затронувшего общественную мысль, не отвечающего высоким художественным требованиям, длится недолго. Проблемный же очерк по своей природе должен давать ответы на вопросы, беспокоящие народные массы. Очерки Ауэзова по своей стилистике, сюжету и композиции близки к рассказу, точнее говоря, они кажутся эскизами будущих больших произведений. Такое накопление заготовок хорошо иллюстрирует история создания романа «Племя младое». Целевые командировки, ближайшее знакомство с людьми, встречи, поездки по зимовкам и джайляу, детальное исследование происхождения названий земель, окрестностей Ка-ратау, даже наименования вещей и домашней утвари, репортажи и очерки после какого-то собрания или короткого путешествия — все это прокладывало путь к будущему произведению.
Не будем попусту славословить, вникнем в сущность произведения. Это — требование серьезной эстетики. Нередко критики так окружат иного автора броскими, ослепляющими красками и пенистыми словами, что забывают начисто о его произведении.
Мухтар Ауэзов не раз делился в печати и на встречах е читателями замыслом создать цикл произведений о послереволюционном Казахстане. «Племя младое» было первой книгой этого цикла. Смерть помешала писателю осуществить свои намерения. Главное время было потрачено на создание знаменитой эпопеи.
Абай!
В истории казахского искусства, культуры и литературы нет другого человека, который почитался бы выше его, к которому относились бы как к святыне, который мог бы настолько глубоко войти в народную душу.
Чтобы верно оценить жизненный путь и значение исторической личности, место ее в истории общества, необходимо твердо держаться марксистско-ленинской методологии. Историю казахского народа долгое время толковали, исходя из буржуазных концепций, т. е. искаженно, поверхностно, не вникая в ее смысл. Корни этого заблуждения уходят в расовые, шовинистические предрассудки, согласно которым многие народы Азии и Африки не способны к историческому творчеству и обречены довольствоваться лишь крохами со стола цивилизации.
Подавляющее большинство нынешних казахских ученых взяли себе за правило исследовать глубокие корни и древние традиции нашей литературы на исключительно научной основе, познавать и оценивать с марксистско-ленинской точки зрения. Опираясь на ленинскую теорию о двух течениях в культуре любого народа, такие поиски дали возможность найти место каждому историческому явлению.
Великого писателя в любую эпоху создает духовная потребность нации. Тут придется сделать обзор доабаевской казахской литературы, чтобы напомнить, какие переходы и перевалы приходилось ей преодолевать. Ориенталисты прошлого в первую очередь отмечали необозримое богатство казахского эпоса, его нравственную красоту, глубокую идейность и жанровое разнообразие. Эта несметная сокровищница с раннего детства служила великому Абаю золотой колыбелью.
Но Абай не был эпигоном, бездумно поклоняющимся древним образцам, он является великим новатором, который творчески использовал фольклор, согласовал его со своей реалистической поэтикой. Абай прозорливо заметил множество разнообразных форм в казахском стихе, четко понял их, сообщал им своеобразную интонацию, обогащал новым содержанием. Крылатые слова, остроумные обороты, сочные словосочетания снова ожили под пером Абая и обновились, обретая бессмертие. Таким образом Абай, с одной стороны, использовал фольклор, который с незапамятных времен отбирался и шлифовался из поколения в поколение, с другой стороны, поэт перевел его в новое качество и создал классические вещи, которым не дано померкнуть и потерять смысл, пока жив народ.
Как в высушенной зноем и продутой сквозными ветрами почве пустыни никогда не сможет подняться тополь, так и в стране, у которой нет культурной традиции и духовной почвы, не может родиться велики писатель. Даже беглого взгляда в прошлое письменной литературы казахов достаточно, чтобы прийти к определенным выводам. Если бы поэмы, высеченные на огромных камнях вдоль рек Орхона и Енисея, Таласа и Чу в V-VIII вв., художественную силу которых признали филологи всего мира, присвоил себе один народ, то это было бы исторической несправедливостью. Потому что они, как и другие памятники, созданные в V-XV веках в среднеазиатском регионе, являются общим достоянием казахов, узбеков, киргизов, татар, башкиров, азербайджанцев, туркмен, которые составляют группу тюркоязычных народов.
В юности Абай учился в медресе, где овладел общим для тюркоязычных народов литературным языком — чагатайским, что дало ему возможность близко познакомиться с такими всемирно известными произведениями, как «Дивани лугат-турк», «Кодекс Куманикус», «Кутадгу билик», «Огуз-наме», «Мухаббат-наме», «Хисса-сулан-бия». Некоторые мотивы и мысли названных произведений получили отражение в произведениях Абая. Его «Слова назиданий» напоминают по форме «Кутадгу билик».
Наряду с общим для тюркоязычных народов наследием Абай любил произведения арабско-персидских поэтов, внимательно изучал их, в своей творческой практике использовал соответствующие казахской поэзии формы. Если он упоминает Физули, Шамси, Сайхали, Навои, Сагди, Фирдоуси, Хафиза и просит у них духовной поддержки, то не потому, что гордится своими знаниями, а от духовной близости с ними.
Социальные факторы являются решающей силой в творческой судьбе поэта. Ошибочно было бы утверждать, что Абай в процессе эволюции окончательно порвал с Востоком. Казахский гений в полной мере пользовался всеми духовными плодами периода, названного академиком Н. Конрадом Восточным Ренессансом. Взгляд Абая на русскую культуру, его шаги в сторону русского общественного мнения не означают его бегства от Востока. Просто овладевший восточной мудростью великий человек вышел навстречу передовым демократическим течениям, чтобы глубже вникнуть в мировую цивилизацию.
Такую счастливую судьбу пережили и великие казахские просветители-демократы Ибрай Алтынсарин и Чокан Валиханов. Приобщившись к русской литературе, Абай поднялся на такую духовную высоту, достичь которой в восточных странах не смог никто в прошлом веке.
Захваченный художественной мощью и правдой произведений Пушкина, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Толстого, Абай не мог не стать реалистом. В его стихи пришли народность, социальная конкретность и психологическая точность. Абай заложил основы языка новой казахской письменной литературы и поднял искусство слова на пока недосягаемую высоту.
В истории казахского народа Абай не только реформатор новый литературы и мастер слова, но и глубокий мыслитель, большой общественный деятель.
Именно поэтому он пришел к выводу, что будущее казахского народа связано с русским народом, с передовой Россией. Обозревая завтрашнюю судьбу своего народа как бы с вершин будущего, Абай к своей славе великого поэта прибавил славу передового деятеля и социальною мыслителя.
Мухтар Ауэзов в четырехтомной эпопее создал реалистической образ такого разностороннего исторического деятеля.