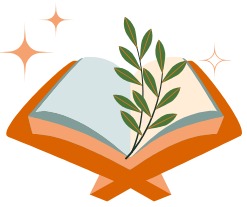Древо обновления — Рымгали Нургалиев
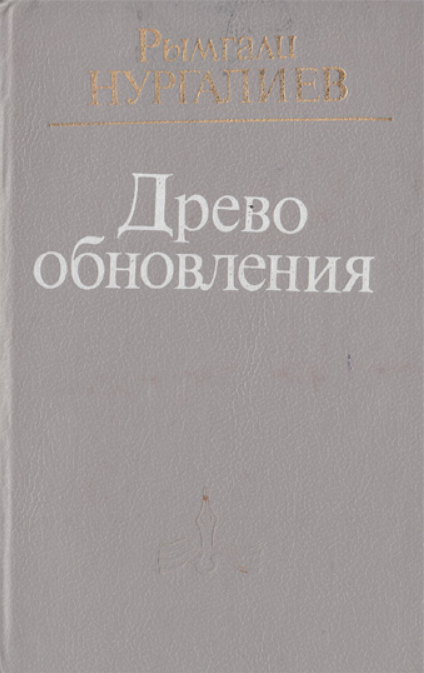
| Название: | Древо обновления |
| Автор: | Рымгали Нургалиев |
| Жанр: | Образование |
| Издательство: | |
| Год: | 1989 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 4
Эпопея "Путь Абая"—самая высокая вершина, на которую поднялась казахская проза, начало новых тенденций, новых истоков в национальном художественном развитии. Поколения, которые будут сменять друг друга, ими полны, из века век, еще множество раз будут снова и снова открывать для себя красоту, изящество, идеи, несравненную мелодию этой великой эпопеи. Потому что высокое творение подобно самой матери-природе, с каждым говорит ив языке этого каждого, делится с ним затаенными мыслями.
Прозорливость Ауэзова в выборе явлений, его эстетический вкус, композиционное мастерство невозможно постичь методами примитивных аналогий, ползучего эмпиризма. Выделением одного слова, одной ситуации, одного героя тоже невозможно определить неповторимость художественного почерка эпопеи. Таким путем ничего не добьешься. Только марксистско-ленинская эстетика с ее диалектическим методом способна постичь общие и конкретные закономерности, пронизывающие роман Ауэзова, указать пути движения национальной литературы на мировую арену.
В истории тюркоязычных литератур М. Ауэзов является драматургом, напоминающим азербайджанца Наджафбека Уазирова, узбека Хамзу Хаким-заде Ниязи, татарина Галиаскара Камала, турка Назыма Хикмета. Реформа жанра казахской драматургии, усвоившей европейскую форму, пока полностью не исследована. Проблема театра и драматургии в эстетике Ауэзова, народные истоки в драматургии Ауэзова, Ауэзов и драматургическая классика, драматизм в прозе Ауэзова — лишь решив эти проблемы, мы смогли бы сказать, что наконец объяснили с научной точки зрения одно из трех жанровых направлений в творчестве великого писателя.
Ограничить драматургию Ауэзова лишь пьесами, ставящимися на сцене, значит обеднить ее. Полный охват богатого материала и его осмысление безусловно послужат толчком для сегодняшних театров, изнемогающих в поисках пьес с социальной тематикой, и дадут им возможность выйти на большой простор.
Мухтар Ауэзов не только драматург, который дал классические творения национального искусства, но и теоретик, высказавший плодотворные мысли о театре и драме. Его огромный труд можно разделить на такие разделы: «М. Ауэзов о театре», «М. Ауэзов об актерском искусстве и о спектакле», «М. Ауэзов о драматургии».
В своей первой статье на эту тему «Общее театральное искусство и казахский театр» (1926 г.) он ведет речь об особенностях театрального искусства, истории его появления и развития. Всесторонне рассматривается народная сокровищница, которая могла бы питать собою и лослужить источником для только что появившегося на свет казахского театра. В таких трудах, как «Государственный театр Казахстана» (1928 г.), «Театр, музыкальные кадры» (1933), «Дальнейшие задачи государственного театра» (1933 г.), «Отрывки» (1934 г.), «Казахская народная музыка и народный театр» (1936), затрагиваются злободневные проблемы, касающиеся установления казахского театра, его роста и развития. По мнению Ауэзова, существующие в народном искусстве содержательные формы и традиции должны быть приспособлены к целям нового времени, а изучение реалистической культуры — главное условие роста и развития.
Ауэзов понимал актера как главную силу театра и никогда не оставлял его вне своего внимания. В таких статьях, как «Художественное искусство Казахстана» (1935), «Наши актеры» (1935), «Елубай Умирзаков»
(1936), «Народный артист» (1946), он создаёт творческие портреты непревзойденных мастеров казахского искусству Амре Кашаубаева, Исы Байзакова, Калибека Куанышбаева, Елубая Умирзакова, Серке Кожамкулова. Оригинальны суждения писателя о природе актерского искусства, его родстве со стихией поэзии.
Свои наблюдения о жанровых особенностях драматургии и характере ее развития М. Ауэзов высказал и в рецензиях на отдельные спектакли: «Какой получилась «Кыз-Жибек» (1934), «Пьеса «Хлеб» в Государственном театре» (1934), «О постановке «Ер-Таргын» (1936), «Переводные пьесы на казахской сцене» (1937), «О переводе «Ревизора» (1936), «Пьеса, разоблачающая религию» (1938), «Марабай и Мардан» (1940), «Ценный труд» (1949), «Мы очень довольны этим смехом» (1957). у том же идет речь в обширном исследовании «Хорошая пьеса — признак зрелой литературы» (1938).
И своем докладе на Первом съезде писателей Казахстана «Сегодняшнее положение драматургии и ее дальнейшие задачи» М. Ауэзов говорил, что драматургия социалистического реализма отличается новизной тематики, социальным пафосом, образами и сюжетами. Для доказательства этого положения автор ссылался на слови Энгельса о типическом характере в типических обстоятельствах на мысли Ленина о творчестве Толстого, на мнения Белинского и Горького. Раскрывая такие недостатки в казахских пьесах, как несовершенство и слабость положительного образа, прямолинейный и поверхностный показ классовой борьбы, безликость языка героя, слабость психологических мотивировок, он радуется удачным творениям и новым проявлениям в драме. Всесторонне анализируя драму Б. Майлина «Фронт», определяя се место и литературе, он приходит к важному заключению, что эта и другие пьесы Б. Майлина стали художественными ориентирами. Призывая драматургов учиться у Беимбета, докладчик подчеркивал, что в его пьесах воплотились требования социалистического реализма. Здесь же он замечал, что лишь Жумат Шанин мог создавать в театре полнокровные спектакли.
Не уравнивать героя и автора, не путать их, привлекать в драматургию актеров и режиссеров, переводить классические произведения, составлять репертуар для молодежных и клубных театров, писать киносценарии — обо всем этом шла речь в том докладе.
В статье «Некоторые мысли о законах драматургии» (1953), которая была написана на основе выступления на пленуме Союза писателей СССР, М. Ауэзов поднял проблемы, общие для всей советской литературы, предложил открыть в Москве театр национальностей. Ученый акцентирует внимание на содержательности формы, на том, что главным жанровым признаком пьесы является конфликт, схватка идей и характеров. Теория драмы должна помнить об этом. Высветив элементы новаторства в драматургии Горького, Тренева, автор назвал школой мастерства всестороннее и глубокое изучение классических образцов в литературе социалистического реализма.
Мысли, обобщенные мнения, конкретные заключения о казахской драматургии, творчестве ее отдельных представителей, о тенденции развития жанра были подытожены Мухтаром Ауэзовым в докладе на II съезде писателей Казахстана в сентябре 1954 г., который под названием «На пути реалистической драмы» был опубликован на казахском и русском языках. Он стал последним фудаментальным исследованием великого писателя и великого ученого о драматургии. Главная мысль этой работы в том, что казахская советская драматургия стала драматургией социалистического реализма, главными ее компонентами должны стать советский патриотизм, высокая идейность, партийная сознательность, народный характер и безусловная верность жизненной правде.
И тут же напоминает, что реализм является самой надежной опорой художественного произведения. А главным условием и мерой реализма является верность жизненной правде. Действительность, практика должны быть критерием художественной истины.
Реализм, по мысли М. Ауэзова, являясь высшей ступенью в художественном развитии человечества, будет всемерно расширяться и развиваться, как понятие и как явление. Мысли казахского писателя о сочетании жизненного материала и художественной правды, о передаче идеи посредством образа, о единстве конфликта и действия, о значении смеха не только перекликаются с суждениями корифеев эстетической мысли, но и обобщают собственный творческий опыт автора.
Для исследователей и для народной массы интересны и дом, где родился крупный художник, и среда, его сформировавшая, и первые пробы пера. Если источник чист, то никакой мусор не загрязнит его воду. Только сейчас появилась возможность познакомиться с первыми произведениями М. Ауэзова, с его публицистическими статьями, написанными на разные темы. «Основа нравственности — женщина» в «Лениншил жас», «Моим обучающимся сверстникам», «Какого из них применить?», «Сегодняшняя большая задача», опубликованные в «Казахстан мугалими». Публицистика молодого Ауэзова разбросана по страницам газет и журналов, выпускавшихся в начале века и ставших ныне библиографической редкостью. С чего начал писатель, к чему пришел — искания его между этими пунктами, обновление, перевоплощение, периоды эволюции можно раскрыть лишь методом сравнительного исследования. Огромная эрудиция, хорошее знакомство с историческими фактами, очень чуткий эстетический вкус, который не пропустит малейших нюансов между красным и алым, синим и голубым, не говоря уже о черном и белом, самостоятельность мышления — все это гармонично сошлось в его гении и породило мудрые мысли и крылатые слова. Одним словом, в эстетике М. Ауэзова обстоятельность ученого, острота, критика, образное мышление писателя взаимно дополняют друг друга.
Понятно что сверка разных вариантов произведении, вошедших в этот выпуск, была нелегкой работой, многие тексты, ранее публиковавшиеся с ошибками, на этот раз были исправлены на основе рукописи.
Но комментаторы в некоторых случаях снижают свой научный уровень тем, что увлекаются знаками препинания, мелочными фактами, мало относящимися к теме.
«Общее театральное искусство и казахский театр»— знаменитая статья. Составители, правильно взяв за основу первый вариант этого труда, опубликованного в газете, допускают однако путаницу во многих известных фактах. Если в прежних публикациях статьи итальянский театр «дель Арте» писался как «дел ерте», то в собрании сочинений читаем нечто несусветное - «Театр «де Льерте».
Может, причиной была неопытность, может быть, просто в научном аппарате принимали участие плохо подготовленные люди. Каждую книгу надо было сопровождать портретами Ауэзова разных лет. Трудно забыть, например, портрет молодого Ауэзова из сборника «Ка-раш-Караш», который вышел под тщательной редакцией Ислама Жарылгапова. Очень редки образцы автографов и рукописей, приближающих читателя к творческой лаборатории писателя. Достойно сожаления, что в последней, двенадцатой, книге отсутствует библиографический указатель — читателю весьма затруднительно разобраться, в каком томе искать нужное ему произведение.
«За Октябрь», «Ахан — Зайра», «Белая береза», «Гвардия чести», «Обнаженный меч»—эти пьесы, эскиз романа «Когда рассеивается туман», повесть «Лихая година» являются этапными произведениями.
М. Ауэзов часто пользовался устойчивыми, привычными эпитетами: белый луч, светлое пожелание, сердечное благословение, белая птица, светлый лик, заработанный честным трудом, белая метель, белый купол, светлый марал. А с другой стороны: бий с черными намерениями, чёрная земля, черный валун, черная ночь, черный камень — эти слова создают контраст в изобразительном искусстве. Здесь можно сказать лишь одно: в первом случае, когда дело касается светлых сторон жизни, все эпитеты по-казахски звучат «ак», что означает «белый». Хотя на русский язык это слово переводится по смыслу по-разному, на казахском языке «ак» меняет свои оттенки сообразно творческому контексту. Часты сравнения, связанные с явлениями, наиболее близкими к жизни и быту казахского народа — природой, домашним скотом, животным миром.
Господство примитивных исторических установок и запретительных методов было причиной того, что одно из сложных созданий М. Ауэзова повесть «Килы заман», изображающая бурный период в истории казахского народа — восстание 1916 года — долгое время не переиздавалась. Единственный раз она была издана в 1928 году в городе Кзыл-Орде арабским шрифтом и объемом в 175 страниц.
В 1972 году в № 6 журнала «Новый мир» повесть была опубликована в переводе Алексея Пантиелева. Здесь нет сокращений, вставок или искажений. Стилевые особенности М. Ауэзова сохранены полностью, как и при переводе «Лютого» и «Племени младого».
Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Чингиз Айтматов написал предисловие к повести.
Названное произведение нельзя рассматривать в отрыве от публицистических статей и рассказов М. Ауэзова, написанных в 20-е годы. Оценивая повесть, надо учитывать эволюцию мировоззрения художника, некоторые просчеты в его творчестве связаны именно с ограниченностью в понимании исторического прошлого.
Но при этом нельзя ссылаться на известное открытое письмо Ауэзова 1932 года, в котором он был принужден отречься от своих трагедий «Енлик—Кебек», «Жены-соперницы», «Каракоз», многих рассказов и повестей.
Какова дальнейшая судьба этих произведений?
Первоначальные варианты «Енлик — Кебек» и «Каракоз» были отредактированы множество раз. А в трагедии «Жены-соперницы», опубликованной второй раз в 1960 году, была сокращена лишь одна картина. Сборник «Ка-раш-Караш», составленный из произведений 20-х годов, вышел в 1960 году, сразу же получил широкое признание и стал серьезным вкладом в нашу литературу.
Автор учел мнения о своем творчестве двадцатых и последующих годов и внес некоторые изменения. А открытое письмо не является документом, на который стоит ссылаться, разбирая, исследуя, оценивая сложное творчество Мухтара Ауэзова.
«Лихую годину» автор называет исторической повестью, а в предисловии издательства она называется романом. Сложность поднятых проблем, объем жизненного материала, разветвленность сюжета, количество героев, яркость характеров могут дать повод назвать произведение романом.
Темой произведения послужили исторические события— восстание казахов в Джетысу в 1916 году. В бытность студентом Ленинградского университета Мухтар Ауэзов специально приезжал в Джетысу собирать фольклорное наследие, бродил по его живописным местам, среди высоких гор и зеленых джайляу. Здесь он услышал и записал истории, которые потом сделал канвой нескольких произведений, встречался с живыми свидетелями и участниками восстания, узнал о многих его подробностях. Так Ауэзов поступал всегда перед созданием крупных произведений, будь то романы «Путь Абая», «Племя младое».
Такие местности Алатау, как знаменитая Каркара, Асы, Ушмерке, Донгелексаз, Сырт, Лабас, Талгар воссозданы в романе как красивые, привлекательные пейзажи. Точность и конкретность среды являются свидетельством того, что Ауэзов уже в молодости начал успешно осваивать принципы исторического романа.
Надо сказать, что отголоски заблуждений, имевших место в некоторых статьях и начальных вариантах трагедий «Енлик—Кебек» и «Каракоз» и выразившихся в непонимании классового антагонизма, дают о себе знать и здесь. Тем не менее исторические причины восстания 1 1916 года показаны верно.
Повесть начинается с картины знаменитой в Джетысу Каркаринской ярмарки. С первых же страниц захватывает эпический размах, широта писательского диапазона и красочность. Но Ауэзов далек от любования и восхищения праздничным настроением ярмарки, его не привлекают многоцветные горы товаров, громоздившихся на прилавках купеческих магазинов. Для него важнее показать облик спекулянтов, которые готовы продать за грош свою душу, которые обманывают, обсасывают, жрут степь вместе с ее народом. Одной деталью писатель умеет сказать о многом.
Гиперболически рисует Ауэзов образы царских чиновников и казахских толмачей. Традиционный прием казахского эпоса. Единственное желание представителей власти и их толмачей — обогащаться. Ради этого они способны на любой шаг. Угнетенные и оказавшиеся в трудном положении Картбай и Хусаин приходят к начальнику с жалобой. Ответ для них у пристава один: «У вас нет мозгов, вы — собаки...»
Ярмарка для степного казаха не только торговый центр, где можно приобрести необходимое, сюда съезжаются люди со всех краев, здесь можно встретиться со старыми друзьями и знакомыми. Поговорить с людьми из разных племен, порадоваться нехитрым зрелищам. И здесь, на Каркаринской ярмарке, люди узнают об июньском ярлыке — указе о мобилизации казахов на тыловые работы.
Растерянность. Переполох.
Ужасная весть разделила людей на два лагеря: болыс Рахимбай, толмач Оспан на одной стороне, старец Джа-менке и батыр Узак— на другой. Народ, который вскипел подобно бурному морю во время шторма, решил не давать в солдаты своих джигитов. У восстания нет энергичного руководителя. Когда возбужденная масса собралась вместе и начала думать, что предпринять, решающего слова ждали от старого Джаменке. Другим трезвомыслящим человеком был батыр Узак.
В речах этих героев проглядывают свойства, присущие древнему ораторскому искусству казахов: дальний подход, намек, иносказательность, а иногда и прямая речь, беспощадная, как клинок у горла. Если в рассуждениях Джаменке преобладают мудрость и находчивость, то батыр Узак говорит коротко, сплеча. Его слова тяжелы, как свинец. В нескольких местах книги встречаются слова, используемые в смысле «царские колонизаторы», «разбогатевшие казаки», которые вложены в уста персонажей. В свое время критики схватились за эти слова и толковали их совершенно превратно.
Давайте прислушаемся к ответам Джаменке, который попался в руки карателей и теперь находится под следствием у прокурора.
«Захватили землю. Захватили древние стоянки. Захватили воду, дававшую жизнь людям, продали наши лучшие земли»,— перечисляет Джаменке, словно нанизывая на нитку, преступления, совершенные колонизаторами. Эта ярость и гнев народа пламенем вырываются из уст народного героя. Во время этого расследования характер Джаменке, его свободолюбивое большое сердце, гордая смелость, неспособная затаиться или покориться, проявляются особенно ярко. Каратели бросили в тюрьму Джаменке, Узака, Аубакира, лишив восстание его предводителей, пытаются внести разброд в ряды восставших. Опасаясь народного гнева, власти боятся открыто убивать Джаменке и вместе с едой дают ему яд. Читая описание мучительной смерти седовласого старца, которому перевалило за семьдесят пять лет, чувствуешь боль и гнев. Трагическая сцена! Невозможно не склонить голову перед духовной силой и стальной крепостью старика, который погиб ради свободы степи.
Озверелые палачи беспощадно режут в тюрьме казахских и киргизских джигитов, совершай кровавое злодеяние. Слух о нем вихрем разносится по аулам. Снова сыны степи садятся на коней.
Порыв восстания был подобен селевому потоку, восставших охватывает безрассудство, и они нападают на Каркаринскую ярмарку. Ауэзов мастерски показал разбушевавшуюся стихию народного бунта: и внутреннее настроение отдельных людей, и их поведение, и трудньш взаимоотношения, и трагические ситуации, когда схватка между жизнью и смертью дошла до крайнего предела. Писатель не отдает предпочтения ни одной из сторон. Сражаясь с солдатами, прошедшими школу регулярной армии, восставшие, не имеющие представления о военной дисциплине, с огромным риском, надеясь лишь на свою смелость, нападают на противника, мчатся на пулеметы и бессмысленно гибнут.
Ночью солдаты уходят из Каркары. Повстанческая группа, проглядевшая их и жаждущая отмщения, поджигает ярмарку. Масса народа, знающая, что карательный отряд и царские войска уничтожат их, покидает насиженные места.
Массовые сцены в повести написаны с удивительным мастерством: здесь и множественность взглядов, и междоусобица, и стихийность.
Классовая расстановка в казахском ауле показана в антагонизме между волостным Рахимбаем и толмачом Оспаном, с одной стороны, и группой, возглавляемой Джаменке, Узаком, Жампеисом, Ибраем — с другой. Рахимбай — энергичный волостной средних лет, немного понимающий по-русски. Его тайные сделки, интриги, злодеяния, взятки и барымта ничуть не уступают поведению царских колонизаторов. К тому же он находится под опекой этих людей. Он спокойно обманывает народ, когда отдает джигитов в солдаты. Рахимбай и толмач Оспан — оба предатели. Отношения между УЗаком и ТунгатароМ, детьми одного отца, далеко не родственны. Узак — один из предводителей восстания, а Тунгатар занят только тем, чтобы откупиться взятками. И все же некоторые проблемы в пьесе решаются мелко. Мастерски показав антиколонизаторский пафос восстании, автор оставил за пределами повести классовую борьбу в казахском ауле.
Достижение повести — Образный и наполненный живой плотью язык, на диалоги автор переносит основные драматические нагрузки. Они точно передают особенности характеров. В массовых сценах, благодаря отрывочным репликам, мы ощущаем настроения толпы.
С большой любовью показана в повести природа Джетысу. Пристрастие автора к предгорьям Алатау живо ощущается в пейзажах.
Точность в деталях, сложные сравнения, красочность эпитетов создают такое впечатление будто автор в первозданности перенес и положил перед читателем чудесный кусок живой природы. Читатель чувствует себя так, будто он тоже вошел в эту картину.
Писатель вдохнул душу в дерево и растрескавшийся камень, и теперь мы видим эту гору и эту сосну глазами Ауэзова, в таком освещений, которого раньше не замечали и не чувствовали.
Эта повесть имеет огромное значение в становлении стиля Ауэзова. Здесь Ауэзов делает первые шаги перед тем, как приступить к созданию многопланового прозаического произведения, которое построено на остром классовом конфликте с участием множеста людей. «Лихая година» дает повод поговорить о противоречии между мировоззрением и художественным методом, о диалектической связи между ними.
Пьеса о бурных событиях прошлого века, множество статей, письма, написанные друзьям и близким людям — все они являются для нас дорогими реликвиями.
Так гениальный сын раскрыл перед своим добросердечным народом, породившим его, свое бесценное наследие. Первый опыт — первая ласточка. Следующие встречи будут радостнее и гармоничнее.
Глава вторая
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ
I
Ни в одной стране искусство не могло расти и развиваться только своими силами, в своем замкнутом национальном кругу. Созданное на родной почв, оно может расправить крылья лишь в том случае, если будет подпитывать себя передовыми достижениями других народов. Интернациональный характер литературы — это сложная проблема, имеющая большое теоретическое значение. Здесь выводы должны опираться на обобщение опыта искусства многих народов.
В этом отношении огромное значение имеет рассмотрение литературных влияний, переводов. В освоении новых жанровых форм, в увеличении числа реалистических произведений, поднимающих злободневные жизненные проблемы, в увеличении творческой активности писателен можно увидеть некоторые интернациональные черты литературы.
Исследуя давние связи родственных литератур, можно встретить много общего. Скажем, татары считают своими следующие пословицы: «родная земля — золотая колыбель», «мужчину украшает борода, речь украшает пословица», «одинокий гусь станет добычен вороньей стаи», «тебе, дочь, говорю, а ты, сноха, слушай», «шила в мешке не утаишь», «пустая ложка рот дерет», «что посеешь, то и пожнешь», «не поручай голодному готовить пищу, а замерзшему — разжигать огонь», «волков бояться, в лес не ходить», «ворон ворону глаз не выклюет».
Но ведь эти же пословицы являются частицей народной мудрости и русских, и казахов, и башкир.
Возьмите фольклор - сколько схожих сюжетов и общих мотивов! Вот от них идет и похожесть литературного мышления, образно-выразительных средств. Рассмотрим некоторые примеры из башкирской литературы.
В богатой сокровищнице этой литературы есть героический эпос, кобайыр, историческая поэма, короткое стихотворение, сказки, легенды, бытовые песни, рубаи, пословицы и поговорки. Этот фольклор отражает народную жизнь с незапамятных времен.
Бытующие среди башкир пословицы «какая польза от простора мира, если жмут сапоги», «тот много знает, кто много видел, а не тот — ктo много прожил», «подстерегающий тебя друг хуже далекого врага», «оратор испытывается в споре, батыр — перед врагом», «раз увидишь — познакомишься, второй раз — сблизишься» имеют чисто казахское происхождение. Самым развитым отшлифованным по форме жанром в башкирской устной литературе является — кобайыр. Он близок толгау в казахской поэзии.
Один пример:
Илден нурлы булганы—
илде батыр туганы:
илден мэнло булганы —
душпан килеп турган
Вот как это звучит в подстрочнике:
Если светел народа лик,
значит, батыра родил народ.
Если печален народа лик,
значит, у порога стоит враг.
Стержень кобайыра всегда составлял социальный мотив. Воспевая Уральские горы, Белый Едиль, родную землю и родной очаг, поэты создавали афористические стихи, проникнутые высоким пафосом.
Такие эпические поэмы, как «Акбозат»—«Белый конь», «Козы Корпеш — Баян-Слу», «Кусяк бей»отображают разные периоды башкирской истории, в них реализуются народные представления о быте и обычаях, суеверия и поверья, взгляд на мир.
В XVIII—XIX веках получили распространение произведения, которые исполнялись под музыку. Исторические поэмы «Салауат», «Азамат», «Орал», песни беглых людей «Боранбай», «Бииш», легенды «Зульхиза», «Шаура»—все они имеют свой мотив. Размер башкирского стиха в музыкальном фольклоре имеет два вида: короткий (7—8-ми сложная строка) и длинный (8—14-ти сложная строка).
Некоторые образцы башкирской дореволюционной поэзии распространялись в рукописи и имели светское и религиозное содержание. Светские произведения состоят из назиданий, умных советов, хороших примеров, в них также воспевается любовь. Поэты этого течения опирались на древнейшие традиции и напевы древнетюркской и восточной поэзии.
Сподвижник Е. И. Пугачева Салават Юлаев (родился в 1752 году, год смерти неизвестен) является первым профессиональным поэтом Башкирии. Характерной особенностью стихотворений воинственного поэта, замахнувшегося на царский трон, является дух социального протеста, гражданский пафос. Он близок нашему Махамбе-ту и судьбой и творчеством.
Во второй половине XIX века в башкирской литературе набирает силу просветительское движение. Видный представитель этого движения Мухаммед Аким Умбетпаев (1841—1907) был разносторонне талантлив; поэт, журналист, фольклорист, этнограф, историк, педагог, переводчик, общественный деятель. В сборнике, «Жадыгер», вышедшем в 1897 году, были собраны его научные труды и стихотворения.
Акын Акмолла (1831—1895), оставивший заметный след в казахской и татарской поэзии — крупная фигура в башкирской литературе. Первым биографом поэта, записавшим многие его произведения, имевшие хождение среди народа, был казах Досмаил Кашкымбаев. Татарские литераторы М. Гали, Ф. Карим, башкирские исследователи С. Мирасов, А. Харисов считают Акмоллу представителем прогрессивного направления, который оставил глубокий след в татарско-башкирской литературе глубокой идейностью и красотой стиха. И большой башкирский поэт — писатель Сайфи Кудаш выделяет в творчестве Акмоллы мотивы просветительские. (С. Кудаш. по следам молодости. Уфа, 1964, стр. 26—27).
Великий татарский поэт Г. Тукай имел все основания говорить, что от стихотворений Акмоллы веет духом кочевого народа.
Если казахский ученый профессор Б. Кенжебаев утверждает, что отцом Акмоллы был казах, то татарские и башкирские ученые пишут, что его предками были башкиры. Этот вопрос еще ожидает своего уточнения. Но самым важным для истории литературы является творчество Акмоллы, его интернациональный дух и многосторонность поэтических интересов. Посмотрим на этот подстрочник:
Волнуются широко озера огромные,
птицы, касаясь их грудью, взлетают.
Окаймляют озера травы изумрудные,
и пьянят ароматным запахом молодым.
Трудно усомниться в казахском колорите этих строк.
Рассматривая во всех случаях проблемы литературных связей, влияний, традиций, необходимо всегда сохранять исторический взгляд.