Автобиографический рассказ — Габит Мусрепов
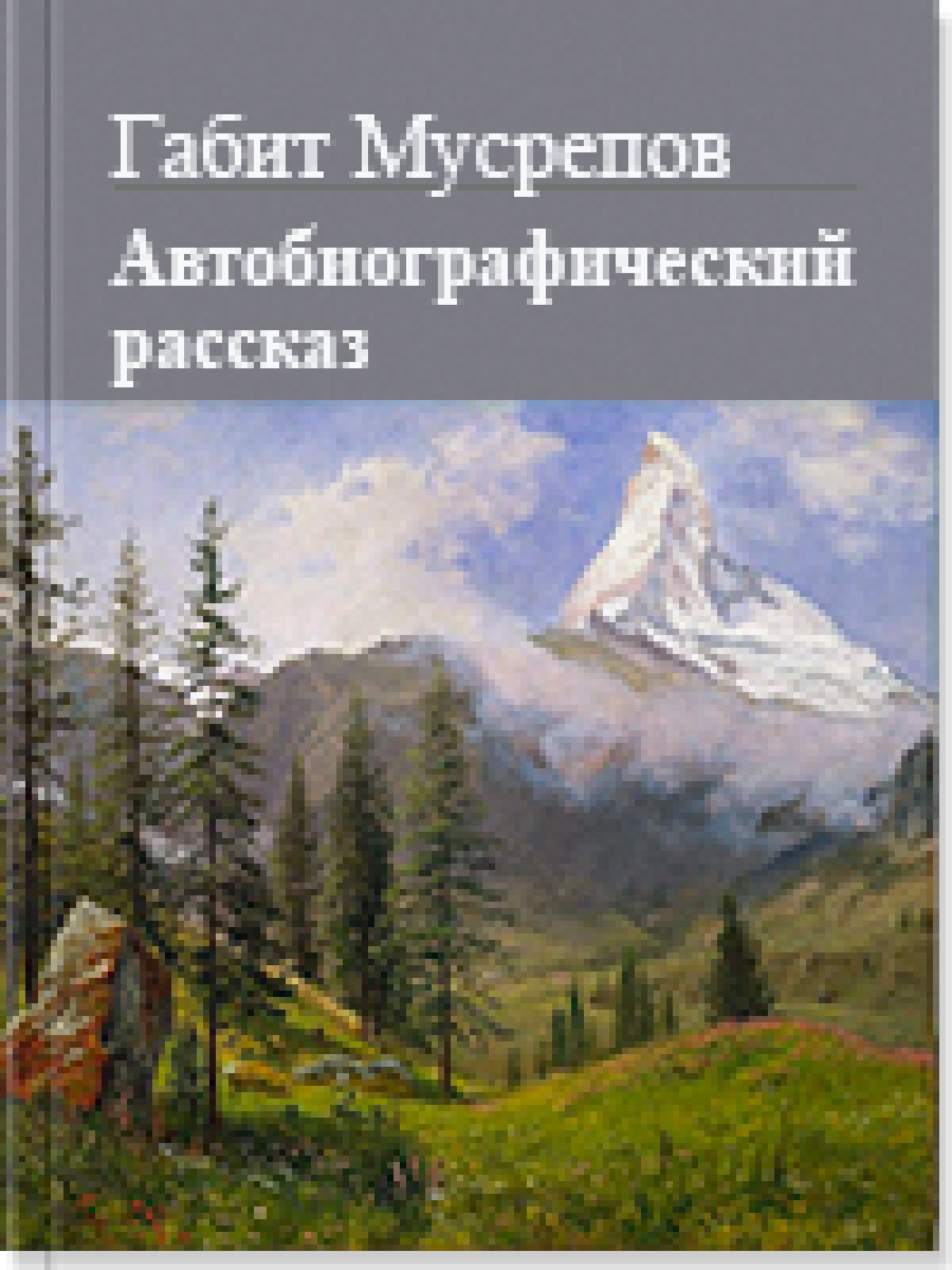
| Название: | Автобиографический рассказ |
| Автор: | Габит Мусрепов |
| Жанр: | Биографии |
| Издательство: | |
| Год: | |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
Страница - 1
Год моего рождения установлен с точностью, можно сказать, астрономической. Причем, как это ни покажется странным, почти по теории относительности... Слепой на правый глаз конь был растерзан волками осенью, а позднее - в день весеннего равноденствия, разделяющий год коровы и год барса,- на свет появился я. Зима еще не уходила, весна не наступала. Был Науруз[1].
Невыясненным осталось только одно обстоятельство: мальчик родился до восхода солнца или после? Если к году коровы отнести рождение, то выходило ему владеть несметными стадами и пройти свой путь в добре и в довольстве. Если же барс принял его под свое покровительство - тоже хорошо... Кто рискнет напасть на него первым?
Но этого - до восхода солнца или после - никто не помнит. Наверное, был буран, и все сидели в юрте. Не помню и я. И все же - есть тут астрономия? Есть... А относительность? Есть.
Первый мой день не был отмечен никаким выдающимся событием в небольшом ауле на северной окраине казахской степи. И даже собаки не затевали драк из-за лакомых костей. Бывают годы, когда и кости не всегда достаются собакам.
Правда, тогда все это меня не касалось. Не касалось, кто царь на земле, где мне предстоит прожить жизнь, и кто пророк, чье слово предопределяет судьбу человека, все его поступки, радости, огорчения. Безразлично было, кто всесильный управитель волости. Я не придавал также значения и тому, богаты мои родители или бедны.
Как я теперь понимаю, моему приходу в этот мир никто особенно не радовался. Просто семья - и без того многодетная - увеличилась на одного мальчишку Как его назвать - тоже не долго ломали голову* Есть Хамит, старший. Сабитуже есть. По созвучию третьему сыну дали имя — Габит.
Моя мать изредка вспоминала:
-Упрямый был... Никогда не-плакал, даже если хотел есть.
[1] Науруз - у многих восточных народов начало нового года, который наступает в день весеннего равноденствия, 22 марта по новому стилю; год коровы, год барса - календарь с двенадцатилетним циклом, каждый год носит название какого-нибудь животного.
Большая жизнь обходила наш аул стороной. Она доносилась лишь бойким перезвоном колокольцев; Тройки к нам не сворачивали. По санному следу по чернотропью они проносились мимо, в аул старого Торсана - от нашего полчаса ходьбы пешком. Двое-из его сыновей были волостными управителями, а двое -на подступах к власти.
О том, что не всегда наш аул стоял на отшибе, мы узнавали из рассказов стариков.
Старики осуждали нынешний образ жизни, их выцветшие глаза загорались и распрямлялись плечи, когда они начинали вспоминать о шумных, многолюдных тоях, о с к ач к ах с б о г ат ы м и призами: о храбрости и удальстве жигитов нашего рода, которые неизменно выходили победителями из разных схваток и столкновений. Старики сожалели, что в прошлое отошли времена больших кочевий, когда аул на долгие недели снимался с места и уходил мерить немерецую степь.
Уже стихал залихватский напев бубенцов, но продолжались разговоры, вызванные его появлением.
- От этих колокольчиков добра не жди,- вздыхал Рахмет, человек робкий и немногословный, чья семья даже для аула считалась большой;
- Да,— соглашался с ним его младший брат Кожак.-От такого гостя не отделаешься тем, что зарежешь барана к его приезду!
~ О, алла!— продолжал Рахмет.- Боюсь - за недоимками едут, проверять, кто сколько остался должен... Эти поборы!.. Эти подати! Посчитать бы только по нашей волости — целая семья, даже такая, как моя, могла бы сытно прожить сто лет. Что же царю и -его домашним все т*е хватает?
Кожак насмешливо щурился:
- О, старший брат мой!.. Если бы только одна наша волость! Таких волостей у белого царя тысячи и тысячи.
- Кожак, ты, наверное, ошибаешься,- высказывал сомнение Досан: он неизбежно путался, если надо было сосчитать что-нибудь свыше ста.- Столько аулов, столько волостей на всем свете не наберется!
- Ну да! Ты бы поездил, мой Досан, посмотрел... Кожак в ауле бывал не часто. Он давно уже работал в
Кургане - грузчиком, его мир был гораздо шире, чем у тех, для кого поездка в недалекую Пресновку становилась событием. К словам Кожака прислушивались, хоть они порой звучали неожиданно и резко.
Разговоры обрывались так же неожиданно, как и возникали,- что толку жаловаться, если твои жалобы никто не слышит, а если и слышит, то оставляет без внимания. Если же Кожак начинал о земной несправедливости, то или Рахмет, или Досан привычно кивали: так уж устроен мир. Все от бога. И не их ума дело разбираться во всех этих сложностях.
У моего отца была заветная мечта, которую он вынашивал с юношеских лет: разбогатеть! Но несмотря на все усилия, его хозяйство напоминало коржун, навьюченный на шального, необъезженного стригунка. Стригунок мечется из стороны в сторону, и коржун мотается у него на спине, а то и вовсе сваливается на землю от какого-нибудь резкого скачка.
Иной раз нам удавалось приблизиться к достатку, и отец ходил счастливый и гордый, и даже голос у него звучал по-иному. Но - недолго. Всегда что-нибудь случалось: грозная оттепель в начале зимы, когда все тает, а потом мороз образует непробиваемую корку на пастбищах - джут. Или всплывала старая недоимка. Или повышался налог. Глаза у отца становились рассеянными. Казалось, он смотрит куда- то вдаль, стараясь не замечать надвигающейся нищеты.
В таком положении - мы, мальчишки, имели по одной рваной рубашке - оказалась наша семья, когда подошло время совершать обряд обрезания, установленный самим пророком задолго до того, как мои братья и я появились на свет.
Мне было четыре года или немного больше, когда нашу юрту навестил рыжебородый мулла-ходжа. И шапка у него тоже рыжая, она нахлобучена до самых бровей, и, наверное, от этого лицо муллы кажется зловещим. Он достает нож и начинает деловито точить его, поплевывая на брусок.
А его нож и без того был острый. Только вчера вечером мы видели, как мулла, по обычаю, одним движением срезал ухо с головы барана, заколотого ему на угощение, еще раз шевельнул ножом и второе ухо тоже срезал.
Под непрестанное жиканье ножа мы трое примолкли и тревожно следили за холодным блеском стали в руках муллы. Наши родители наперебой расхваливали своих сыновей, словно кому-то навязывали их в работники. По словам отца, по словам матери, выходило, что не было еще на всем свете таких умных и послушных, таких терпеливых и бесстрашных мальчиков. И если только Хамит, Сабит и Габит не будут противиться свершению таинства, то каждый из них получит по скакуну. Это пообещал отец, он, видимо, в ту пору разработал очередной безошибочный способ быстрого и легкого обогащения, А мать говорила: раз мы сегодня станем совсем большими, то самое время отдавать нас в школу мулле.
Она постелила у стены одеяло, взбила подушки, прежде чем их разложить. Мулла ногтем попробовал лезвие и, видимо, счел, его достаточно наточенным. Рыжебородое лицо стало сосредоточенным, строгим. Он положил нож радом с собой и стал выпевать молитвы.
Мне хотелось иметь обещанного скакуна. Мне хотелось в школу. И все же, когда Хамит, подмигнув нам, первым выскользнул из юрты, я незаметно последовал за ним.
Небольшая роща защитила нас от дождя. Я соображал: о каких скакунах говорил отец? Возле нашей юрты можно было увидеть одну-единственную старую лошадь, по масти - чалую. Так вот, Чалка, как награда за обрезание, может достаться лишь одному. А двое других? Может быть, для двоих исполнение обряда отложат, пока не будет у нас табуна?
Но стоило высказать эти мысли вслух, как Хамит меня тут же оборвал:
- Вы еще не умеете ездить на коне...
Сабит ему возразил: «Умеем!» Но старший брат презрительно хмыкнул, обозвал нас глупыми телятами и собрался для поучения отвесить каждому по затрещине, но тут...
Чьи-то уверенные и ласковые руки сгребли нас в охапку,
нос к носу...
На одеяле в юрте мы лежали по старшинству Хамит - первым, с того края, что ближе к тору1, Сабит -посередине, ая – ближе к выходу.
С какого края начнет мулла? Если бы от двери! Первым у меня он спросит: «А твоя лошадь обрезания какой масти?» Я тотчас, чтобы никто не опередил, отвечу: «Чалка!» Пусть тогда братья обхаживают меня, хоть я и младший, и просят дать прокатиться на моей лошади... Я буду им позволять, но не так часто.
Сабит сообразил, что в самом невыгодном положении находится он. С кого бы мулла ни начал, Сабит окажется вторым,- он на всякий случай захотел поменяться со мной местами, но я в ответ лягнул его, чтобы не приставал. Он стал щипаться и страшным шепотом пообещал потом сровнять мой нос с лицом.
1Тор - место в юрте для почетных гостей.
Но зря мы с ним препирались. Мулла, как и положено, начал со старшего.
- Скажи, сын мой... Назови масть твоей лошади, которую ты оседлаешь на праздник в честь древнего торжественного обряда.
- Чалка!- ответил Хамит, и голос его звучал радостно, но тут же он взвыл от непереносимой боли.
Мулла со спрятанным в рукаве ножом еще и не подошел к Сабиту, а тот уже принялся всхлипывать. Но оказалось, что не от предчувствия боли.
- Нет! Нет! Нет у меня лошади-и-и!..
Он судорожно вздрагивал всем телом и вопил во весь голос и продолжал вопить, когда мулла, сделав свое дело, присел на корточки возле меня.
Плакала тихонько и мать. Она переживала нашу боль, она сочувствовала нам, кляла черствую бедность, из-за которой они с отцом нанесли сыновьям невольную обиду в такой знаменательный день. В самом деле, можно было бы конем обрезания назвать и жеребенка, но такового у нас не было.
А мне было все равно.
- У меня тоже нет никакой лошади,- сказал я и решил: как бы ни было больно, ни за что не плакать.
И я не плакал.
Грустно вздыхал, сидя у сундука, и брат отца - Дядя Ботпай. Он не удержался и упрекнул муллу:
- Зачем было трижды задавать вопрос о лошадях, вы ведь, молла-еке2, заранее знали, что ответ будет один.
- Так положено не нами.
Мулла недовольно пожал плечами, спрятал свой нож и ушел.
А дядя Ботпай утешал нас:
- Не плачьте, не терзайте людям сердце... Я, я куплю вам скакунов, самых резвых, какие только есть в степи. Разве от вашего негодного отца дождешься? Разве будет у него табун?
гЕке - означает уважительную приставку к имени при обращении к человеку, старшему по возрасту.
Можно было бы обидеться на дядю Ботпая за его плохие слова про отца. Но какие тут обиды? Тем более, что и отец улыбался вместе с нами. Значит, тоже обрадовался, что дядя Ботпай подарит нам лошадей, которые могут догнать ветер.
С тех пор, как был совершен обряд, миновало два года. Снова зашумели листьями березы в роще, возле которой мы постоянно зимовали в хижинах, сложенных из дерна. Настало время кочевать на берег большого озера Кожабай. Освободившееся ото льда, оно заманчиво синело в зелени весенней степи.
Туда на лето перебирались не только мы, но пять-шесть аулов наших соседей.
Под вечер аксакалы всех аулов чинно расселись на склоне холма неподалеку от берега, долго приветствовали друг друга, справлялись о здоровье, желали благоденствия. Наконец приличия были соблюдены, и старики заговорили о том, ради чего собрались: как оплачивать муллу, которого приглашали для детей, для «ломки языка». Так называлось обучение письму и чтению.
Полагается мулле за науку: корова с теленком, установленные законами и обычаями религиозные приношения; сюда относится плата за проводы ушедших в иной мир; кроме того, по четвергам ученики должны приносить своему наставнику понедельную мзду, соответственно достатку родителей и степени их уважения к мулле не больше пяти копеек, но и не меньше двух. Проводить занятия: по неделе в каждой семье. Родители по очереди предоставляют юрту под школу и содержат муллу, как подобает его сану.
У бедности есть своя гордость, она хочет все обговорить заранее, чтобы не возникало никаких недовольств и недоразумений, чтобы никто не мог попрекнуть поживой за чужой счет.
Мне приходилось слышать и читать: многие мальчики в ночь накануне первого знакомства со школой беспокойно ворочаются, часто вскакивают: боятся проспать. Про себя я этого не сказал бы. Набегавшись за день, я свалился как убитый и на каком боку заснул, на том и проснулся. И братья мои, надо полагать, тоже не испытывали особого трепета при мысли, что с утра уже не удастся побежать куда захочется, а придется тихонько сидеть и слушать, что станет говорить мулла-учитель и делать, что он велит.
Мулла к нам приехал молодой. Чтобы скрыть молодость, он свирепо топорщил усики и несколько раз перекладывал с места на место свежесрезанный гибкий прут. Одновременно он вручал ученикам листки, там были изображены все двадцать девять букв арабского алфавита.
Я, получив такой листок, не столько интересовался этими крючками, черточками, палочками, завитками, сколько поглядывал на змеиный хвост прута и думал, зачем он мулле. Вчера только я слышал от него слова о любви и примирении, о том, что не надо доставлять ближним огорчений и неприятностей.
Рассадил он нас по возрасту. Младше меня никого не было, в ту пору мне исполнилось шесть лет. Поэтому в любой юрте мое неизменное место было у порога, в обществе ягнят и козлят. Зачастую моими соседями оказывались одряхлевшие от старости собаки, которые вздыхали и сочувственно смотрели на меня слезящимися глазами.
Мулла и учил нас по старшинству. Он подзывал самого большого мальчика и тыкал в алфавит длинным пальцем. Я ни у кого до тех пор не видал таких холеных ногтей.
Алиф, би, ти...- каким-то незнакомым голосом произносил мулла.- Повтори трижды сказанное мной: алиф, би, ти. А теперь ступай на место и учи.
Но это было только самое начало письменной премудрости.
На наших глазах одна и та же буква претерпевала восемь, а то и девять неузнаваемых превращений. От непривычки, от растерянности мы далеко не сразу усваивали смысл этих таинственных звуков, и тогда ни у кого не оставалось сомнений, зачем мулле понадобился свистящий прут, который он срезал в тальниках на берегу озера.
Вот буква «а». Сперва она произносилась более мягко и называлась алиф, а изображалась как поставленная стоймя палочка. При этом надо было запомнить, что в таком случае ни сверху, ни снизу никаких черточек не ставится.
Мулла тем же «ученым» голосом наставлял нас:
- Нет в алифе черточек, но одна точечка стоит под «би» и две имеются над «ти».
При новой встрече с той же буквой алиф она имела сразу три произношения.
- Алифсин-а, альбасин-и, алифтур-о... Если сокращенно читать, получается - а-и-о... А читается как одно незнакомое слово аио, то есть как самостоятельные буквы а, ир. Повторяйте, повторяйте, не ленитесь, негодники!
Если прибегнуть к современному казахскому алфавиту, то пришлось бы писать: улы (сын или великий) -аогулы, ондирис (производство) - аондйрис, он (десять) - аон, ер (седло, мужчина, смельчак) - аир...
Если бы хоть на этом кончались колебания палочки, начертанной тонким штрихом в наших листках! Но ее шатало как ветром. Сталкиваясь с нею в четвертый раз, мы с голоса муллы начинали однообразно нараспев зубрить:
- Алифки-кусин-ан... Алифки-кусин-ен... Алифки-кутир- он... Ан-ен-он!
Тальниковый прут в руках муллы придавал нам усердия, но не мог прибавить понимания, в каких случаях проклятая черточка утолщается и звучит уже не смягченно, а твердо. Сам учитель иной раз путался в объяснениях, усы у него шевелились, он хватался за прут, и в такие минуты я нисколько не жалел, что я -младший - сижу у входа. Во всяком случае ни за что не согласился бы поменяться местами с Хамитом. Мой бедный брат сидел под рукой у муллы.
Наверное, нынешнему читателю трудно уследить за коварной буквой «а». Но ведь он при желании может пропустить эту страницу. А каково приходилось нам? Если бы только «а»! Двадцать девять букв, у каждой по восемь- девять звучаний. Это получается что-то около двухсоттридцати вариантов! Так мы блуждали в дебрях арабской грамоты, и некоторым так и не удалось оттуда благополучно выбраться. Так, одним из первых из школы в пастушки выскочил мой брат Сабит.
Время от времени в юрту наведывались взрослые - послушать, как идет учение, повидать, за что они каждый четверг позванивают зеленоватыми медяками, которых не так ведь и много в расписных старых сундуках.
По требованию учителя мы в присутствии кого-нибудь из родителей нараспев выкрикивали громко и отчетливо:
- Алифки-кусин-ан, алифки-кусин-ен, алифки-ку-тир- он!.. Ан-ен-он!
Чаще других на занятия приходил наш дядя Ботпай.
Хоть он тогда и не купил коней в честь обряда обрезания, но мы все равно любили его. В ауле Ботпай был известен как тонкий знаток и ценитель ловчих птиц и скаковых лошадей. Но особенно славился он умением обращаться с домброй и кобызом, которые в его руках становились живыми.
Ботпай слушал, прикрыв тяжелые веки, и поначалу нас брала зависть, что вот ему-то можно, ему никто не запрещает мирно дремать под напевную зубрежку.
Но, оказывается, он не дремал.
- Это что за слова у тебя такие?- не без ехидства спрашивал он молодого муллу.- Алифки-кусин-ан... Неужели это божьи слова? А?.. Скажи мне, неученому.
Мулла опасливо ежился. Ботпай слыл человеком крутого, властного нрава, грубоватым на язык, способным на неожиданные поступки, и потому отвечать ему надо было, хорошо подумав.
- Ботеке, это же божья премудрость,- осторожно начинал мулла.- А книга составлена самим пророком, да будет благословенно его имя и его дела! Что значат слова эти, известно только духовным отцам в Уфе; в Казани... А простым смертным надлежит повторять их с покорностью и смирением.
При разговоре с Ботпаем усы у него не топорщились, он становился вежливым до приторности. А мы замирали от восторга - есть на свете хоть один человек, перед которым грозный и неумолимый учитель сам начинает робеть и заикаться, словно провинившийся мальчишка.
Слова о покорности, о смирении Ботпай пропускал мимо ушей и наставительно говорил мулле:
- И это называется учением! Недаром же говорят люди: ломка языка. Запомнили бы «ан-ен-он», и достаточно. На кой черт им твои алифки-кусин! Приду через неделю. Будут ученики молоть ту же чепуху — я заберу своего сына.
Неделя миновала и еще неделя. Мы, разумеется, распевали «алифки-кусин, алифки-кутир», и сын дяди Ботпая продолжал распевать вместе со всеми.
Случалось, навестить родителей приезжала Батима -дочь Ботпая, отданная замуж в другой аул.
Она привлекала не красотой, красивой нельзя было ее назвать. Но у меня в памяти и по сей день не стерся ее живой облик. Женственная, обаятельная,,. А что в ней казалось совсем необычным, так это чувство полной независимости - редкость для женщины старого и, скажем, не только старого аула.
Своих детей Батиме бог не дал. Помню, мы, мальчишки, роились вокруг нее, и она всегда занималась нашими делами: утирала разбитые носы, мирила, по ссорившихся, потому что никто не мог противостоять ее уговорам и просьбам, утешала обиженных, выговаривала виноватым.
Приезды Батимы нарушали однообразие аульной жизни вовсе не потому, что она любила возиться с ребятишками.
Стоило ей взять домбру,-и самые простые, давно известные всем мелодии таинственным образом обретали новую жизнь, будто впервые их слышишь.
Она не только играла, но и пела. Я и сейчас могу при желании услышать ее звучный, бархатистый голос, закрыть глаза - и очутиться на берегу озера Кожабай, заросшего тальником и камышом увидеть, как широкая багровая полоса заката смотрится в воду далеко от берега, там, где чистое, не заросшее пространство.
Батима играет на домбре, а Ботпай - на кобызе.
Играть согласно на двух этих инструментах, кроме отца с дочерью, у нас никто не умел. Батима играет так словно она одна на берегу и никого, кроме нее, поблизости нет,
А ведь вокруг собралось множество людей из аулов, которые перекочевывают сюда, к озеру, на жайляу1
Я чувствую и другое: волнение толпы, пораженной всегда, словно впервые, ее даром, передается Батиме а через ее пальцы-струнам-домбры... И молодая: женщина вся светится-» хотя солнце уже село, и. потемнела вода, и рядом перешептываются.
Теперь я вспоминаю, что тогда, пожалуй, мне впервые пришлось столкнуться, как остро может ранить-чужой талант и насквозь пронзить - чужой успех.,. Среди слушателей сидят и другие музыканты. Вернее, они сами себя считают музыкантами. Домбра, та же домбра, в их руках скучно дребезжит, вызывая одно раздражение. Кто-то из них слушает, придав лицу презрительную недоверчивость. Кто более честен – становиться в эти мгновения маленьким, опустошенным, на все время, пока домбра не смолкнет в руках Батимы.
Наступившую тишину вдруг нарушает чей-то голос:
-Да-а... Тут сразу видно, что без обмана… что Батима - действительно дочь Ботпая!
Ботпай в таких случаях гордо посматривал по сторонам.
Его небогатая юрта притягивала людей. Раздовались прекрасные песни Ахана и Биржана1, которые привозила с собой Батима, звучали то задумчивые и печальные, то бурные, зовущие в дальнюю дорогу мелодии Арки2. Ботпаю мы обязаны еще одним увлечением. В те годы к нам приходили дастаны, изданные в Казани, Уфе и Ташкенте.
1Жайляу - летние пастбища.
Удивительное дело, книги, как и люди, вызывали к себе разное отношение. Кто-то по своему простодушию мог
увлечься и легендой по названию «Сал-сал ». Там в слащавых, возвышенных тонах воспевались походы Али, одного из самых близких сподвижников пророка, Али даже породнился с семьей Мухаммеда, женившись на его дочери. По мнению людей, сложивших этот дастан для широкого чтения, сусальные слова в честь Али, безудержное восхваления его мудрости, его доблести - вот что должно укрепить веру рассеять сомнения у простого народа.
Но дядю Ботпая обмануть было трудно. Его постоянными, глубоко почитаемыми друзьями стали «Кыз Жибек», «Козы - Корпеш» и «Кер-оглы». Заучивать остальное он, видимо, считал занятием недостойным, пустой тратой времени. Ботпая нельзя назвать исполнителем в обычном смысле этого слова. Он пересказывал произведения по- своему. Он давал объяснения, оценивая поступки действующих лиц и высказывал свое отношение к ним. Помню, читая «Козы-Корпеш», он яростно вскакивал и начинал последними словами поносить Кодара за его коварство, за то, что он на каждом шагу старался воспрепятствовать счастью влюбленных.
«Кыз-Жибек»... По ходу пересказа он не раз останавливался и с негодованием говорил:
- Это наследили своими грязными лапами всякие невежды. Всякие муллы, ходжи! А раньше, в народе, было вот так, как я сейчас вам спою...
И на ходу вносил поправки. Или же делал нравоучительные отступления.
ААхан (Ахан-сери) - композитор и поэт конца XIX и начала XX века. -гБиржан - композитор, певец, поэт конца XIX века, . -Арка - Центральный Казахстан.
«Кыз-Жибек»... Вот молодая женщина резко, насмешливо отвергает обычай, по которому жена умершего достается кому-нибудь из его братьев. Жибек не успела оплакать своего Толегена, а его младший брат Сансызбай уже домогается ее.
Он слышит в ответ:
Мальчик ты бедный!
Что тебя заставляет лезть под одеяло,
Которым твой старший брат укрывался?..
Ботпай произносил это неторопливо, давая возможность каждому вдуматься в горький смысл этих слов. Если же среди слушателей находились такие, что взяли за себя после смерти старших или младших братьев их жен, то Ботпай прерывал рассказ и обращался прямо к ним:
- Это про вас! Это про вас, низких скотов, говорит наша достойная Жибек!
Те краснели и растерянно улыбались.
И вот - тут бы мне привести пример, как кто-то из них, устыдившись, расстался с женщиной, еще сохранившей память о сильных объятиях того, кто ушел навсегда... Но, к сожалению, такого примера я привести не могу. Ботпай кончал свой рассказ, все расходились по домам, и все шло как было.
Несмотря на это, Ботпай и Батима помогли мне увидеть, какую все же власть имеет над людьми искусство. Там, на берегу озера Кожабай, или в ауле возле юрты Ботпая люди становились лучше, чище, и если домбра, кобыз не могли мгновенно изменить их представлений о жизни, то все же два врага, разругавшиеся насмерть, могли спокойно сидеть рядом и слушать...
Такая власть не шла ни в какое сравнение с жестокой властью волостного управителя, судьи или несговорчивого сборщика податей, который приехал проверить их уплату и может увести от юрты последнего барана.
Мы ходили к мулле три лета и две зимы, и я познал хитрости арабской грамоты, читал народные предания и мог сравнивать тексты с тем, как их пересказывает дядя Ботпай. Отдельные отрывки я и сам был в состоянии воспроизвести наизусть, но при всех на это не решался.
Отцу удалось поправить дела. Большим табуном, правда, он не обзавелся. Но свершись обряд обрезания в то время, каждому из нас, трех братьев, досталось бы по лошади, чтобы покрасоваться на празднике. И рубашки - новые, и мулле по четвергам - не по две, а по три копейки, пусть знает, что мы не нищие.
Отец победно, с видом: «А что я говорил?», на всех посматривал, а у матери прорывались тяжкие вздохи. Она по опыту знала, чем обычно сменяется такое относительное довольство. И, к сожалению, дурные предчувствия ее не обманули.
Наступил год кабана. Он принес джут. Говорили, джут послан нам за людские грехи.
- Не за грехи, а за лень, за тупоумие! - кричал Ботпай.
Но люди посмеивались над ним, когда он косил камыш, по пояс стоя в озерной воде. В степи не существовало поговорки, по которой «смеется тот, кто смеется последним». Этим последним у нас оказался впоследствии тот же Ботпай.
Вспоминая о тех днях, я понимаю, что в тяжелом бедствии были повинны степная лень и беспечность, кумыс и бешбармак. Мы, бедняки, взяв за пример богатую родню, слишком задержались на джайляу. Но родня-то нанимала работников и позаботилась - скосить сено. А когда все остальные перекочевали на предзимние пастбища, то оказалось; скот кормить нечем. Засуха пожгла травы, травы превращались в труху от копыт животных, бродивших в поисках пищи. А осень только начиналась, и впереди была долгая сибирская зима.
Занятия в школе прервались. Нечем стало платить мулле. Он уехал.
Наша семья была большая - шестнадцать человек. Но только четверо - работники. Все остальные либо дети, либо старики.
Зима наступила, и трое взрослых ушли к чужим порогам, в батраки. Овцы и козы, коровы, лошади дохли от бескормицы. И ничего нельзя было сделать, и никто не мог помочь!
Голод поселился у нас и стал самым главным в доме. Мне он до сих пор представляется в образе нашей бабушки и голодных детей, то есть нас самих.
Почти половину нашей землянки занимала громоздкая печь. Постоянно кипела вода в чугуне и громыхали голые кости. Кости павшей скотины, костный жир, который в хорошее время вытапливали для варки мыла,- все шло в котел.
Хамит с Сабитом приспособились, и я не отставал от них: когда из костей вываривается костный мозг, то капли жира плавают сверху и постепенно собираются по краям чугуна. Полумрак от постоянного пара - и вот, улучив удобную минуту, когда взрослые отвернутся или выйдут, мы быстро снимаем жир ложками, припасенными заранее. Угроза наказания не может нас остановить. Застань нас кто-нибудь из домочадцев за этим занятием, быть бы нам битыми. Но ложка навара стоит самой жестокой кары.
Чай пили белый и горький. Так он назывался потому, что в кипятке плавали листки шалфея. И все равно мы с нетерпением ждали этой минуты: к чаю полагалась жареная пшеница. Бабушка распределяла: взрослым по две ложки, а детям по одной.
Настороженные взгляды были прикованы к бабушкиным рукам.
- Зачем ты трясешь ложкой?..
- Глубже, глубже черпай!
- Да, когда очередь доходит до меня, твоя ложка всегда скользит по самому верху...
Узловатые старческие пальцы мгновенно решали: кому добавить полнаперстка, из чьей доли - справедливости ради - стряхнуть несколько зернышек...
Мы, дети, старались подсесть к бабушке поближе, угодливо заглядывали ей в глаза, а вечерами, перед сном,
наперебой почесывали ей спину. Мы хорошо усвоили, что благополучие наших желудков полностью зависит от ее расположения или нерасположения.
Если же бабушка сердилась на кого-нибудь из нас, то был ведь дедушка, был отец... Заискивающе улыбнуться, вовремя подать чашку с чаем, предупредить: ты осторожней, а то пшеница у тебя рассыплется... Десяток зерен за это иной раз удается получить.
Но чем дальше тянулась зима, тем напряженнее становились взаимоотношения за едой. В глазах взрослых улавливалось тоскливое безразличие, и все меньше выпадало добрых минут, в которые к ним можно было подластиться.
Иногда, подавая кому-нибудь из старших чай, рукавом заденешь, словно ненароком, его кучку пшеницы.
- Куда? Куда тянешь?!- послышится злой окрик, и большая рука, попутно ударив по твоей, ревниво подбирает все до зернышка.
Вздохнешь и начинаешь делить свою долю на семь- восемь частей, лишь бы растянуть чаепитие. Чего-чего, а кипятку в тульском самоваре хватало всем. Хлебай сколько влезет, и никто слова тебе не скажет.
Там, где много народу, а еды мало, неизбежно и часто возникают недоразумения, и каждому кажется, что обойден, обижен, обделен именно он. Голод страшен тем, что он отчуждает даже близких.
Стало тесно и неприютно под одной крышей.
Братья решили отделиться. Разрыву между ними и моим отцом предшествовал такой анекдотический случай. У меня в чашке с тем же белым чаем случайно оказалась чаинка. Это у казахов примета к приезду гостя, совершенно нежелательного в такую голодную зиму
Но я, глупый мальчишка, воскликнул:
- К нам едет сват Муса!
- Нет, это не Муса, а Бойтан,- возразил мне мой брат Сабит.- Видишь, какой разлохмаченный старый малахай на голове?
- Нет, Муса!
- Нет, Бойтан!
Муса был отцом жены третьего брата моего отца, его я уважал больше, чем Бойтана, отца жены второго брата отца.
- Никто в этом доме не уважает мою родню! Никто в этом доме не желает, чтобы они приезжали!-вмешался в детский спор один из братьев отца.
- От такого тестя, с его вечно голодными, жадными глазами, я бы давно отказался!- ответил ему другой брат отца.
И тут кулак брата постарше прошелся по левому уху брата помладше, тот ответил ему ударом по правому уху...
Началась потасовка... После долгих взаимных обвинений, попреков, ссор братья отделились друг от друга. Нам досталась одна овца, яловая корова со сломанным рогом и полуторагодовалый стригун, мухортый. И все они были съедены нами до весны, за исключением стригуна.
Делать было нечего - отец отдал в батраки Хамита, потом и наш Сабит ушел к чужому порогу.
А через год-полтора наступила и моя очередь.
В то лето тысяча девятьсот шестнадцатого года казахов начали призывать на тыловые работы, и к нам неожиданно приехал гость - родной брат матери.
Он рассказал, что придется идти и ему и нужен кто-то, кто помогал бы по хозяйству. У него двое ребятишек, еще маленьких, и жена не может отлучаться из дома. Он уговаривал родителей отпустить меня к ним в аул.
И мать и отец подумали, что все же в доме родственника - не то, что в чужом, И отпустили меня с ним в Кустанайский уезд. Так далеко от родного аула я еще никогда не уезжал.
В их краю аулы селились вдоль речки Убаган, Низкие серые землянки зимовок были здесь те же, что и всюду, но образ жизни люди вели несколько иной. По старой памяти они откочевывали на джайляу, но всего километров за пять, не дальше. Здесь уже давно занимались земледелием, и посевы требовали постоянного присмотра.
Я попал к своим нагаши[2] как раз во время уборки урожая и с утра до позднего вечера проводил в поле, учился вязать тугие снопы, гонял лошадей по кругу во время молотьбы...
Полевые работы наконец все были переделаны, но время отдыха не наступило.
Лов рыбы тоже входил в обычай этого рода. Вместе с другими ребятами и пожилыми мужчинами я плел из камыша длинные, в два человеческих роста, щиты. Мне показали, как надо плести: к толстому концу стебля подкладывается, наоборот, тонкий, снова толстый, к так до бесконечности.
Лед на реке достиг толщины в два пальца. Мы продолбили его и перегородили речку щитами. В четырех или пяти местах были оставлены проходы, и в них расположены ловушки, плетенные восьмеркой. Каза (смерть) назывался такой способ. Шла ли рыба вверх по течению или вниз, она не могла миновать ловушку.
Как сейчас - не знаю, а тогда в Убагане водилось много рыбы. Только успевай вытаскивать! О стылый лед отчаянно шлепались, били хвостами, а потом затихали щуки, окуни, сазаны, лещи, караси. Особенно долго не могли примириться со своей участью шустрые чебачки. Но успокаивались и они, и в лучах холодного зимнего солнца отливали серебристой синевой, как закаленные в ледяной воде клинки кавказских кинжалов.
К середине зимы на продажу и в запас было наловлено достаточно рыбы, и наступила передышка.
В соседнем ауле находилось двухклассное русское училище. В декабре, не по правилам, красноносый учитель принял меня в первый класс. Я не могу вспомнить его имени, говорили, что он был откуда-то из-под Актюбинска.
Но я не забыл размера взятки: шесть рублей - это четыре пуда рыбы, той самой рыбы, которую мне приходилось собирать по утрам, когда река дымилась от мороза, а встававшее над степью солнце было багровым.
Вскоре красноносого учителя уволили. Тогда мы и познакомились с Бекетом Утетлеуовым. Я могу сказать одно: в то далекое время, когда сельских учителей знали наперечет, нужно было какое-то особое счастье -попасть в руки этого педагога, который видел свое назначение не только в том, чтобы научить темных и диковатых аульных ребятишек письму и счету.
После уроков он иногда рассказывал нам разные увлекательные истории, которые расширяли наши представления о жизни. От него мы впервые услышали имя - Крылов. Он читал нам его басни в своих переводах, и мы весело смеялись над тем, как хитрой лисице удалось обмануть ворону, захвалить ее так, что ворона каркнула во все горло и выронила из клюва кусок курта. Бекет знакомил нас с произведениями Абая и Алтынсарина. Что-то забывалось: нам ведь было все-таки не много лет. Но что-то и западало в память.
- За что бы ты ни брался, берись чистыми руками!-Бекет повторял это довольно часто, по самым разным поводам. И мы бегали мыть руки чуть ли не каждую перемену.
А то, что выражение имеет и другой, более глубокий смысл, я понял значительно позднее, Бекет заметил мою страсть к народному эпосу, к дастанам - и стал давать мне книги. Для начала принес свои стихи, они назывались «Жиган-терген»1.
Стихи пришлись мне по душе, я запомнил отдельные строчки и твердил их про себя. Бекет спросил: «А что же именно тебе понравилось?» Я долго краснел, запинался, но так и не сумел толком объяснить - что. Мысли-то у меня были, а вот выразить их не хватало слов.
Он не настаивал и дал мне поэму «Шахмаран», велел читать и потом пересказать ему все своими словами. Поэма увлекла меня. Я несколько дней провел над книгой, отказываясь от беготни с ребятами. Не могла не тронуть
история царя змей. Меня поразило высокое благородство, с каким он отнесся к человеку, попавшему в беду, и так горько было потом убедиться в черной неблагодарности, в предательстве человека.
Бекет остался доволен моим пересказом. Он спросил, что я ещё читал, и я назвал ему дастаны, которые попадали мне в руки там, дома, когда я ходил учиться к мулле.
Как-то вечером к учителю собрались гости. Он позвал меня и заставил выступить. Я сперва ужасно застеснялся. Казалось, я не смогу вспомнить ни слова. Но возникла первая строчка, потянула за собой другую, третью... Это были отрывки из «Кыз-Жибек».
Гости в один голос хвалили искусство юного чтеца. Для неграмотного народа каждый, кто умеет оживить немые слова, написанные в книге, уже считался ученым, уважаемым человеком.
Для меня, два года просидевшего в школе муллы, уроки в первом классе показались легкими. Многое я схватывал быстрее, чем те мои товарищи, для которых учение было в новинку. А ничто так не портит, как ощущение своего превосходства. К тому же я видел: новый учитель расположен ко мне. Злоупотребляя его хорошим отношением, я - не прошло и месяца - заявил Бекету:
- Мугалим[3], я хочу вам сказать: я уже первый класс закончил. Сейчас учу книги второго класса.
Бекет даже растерялся от такой заносчивой самонадеянности. Но грубым он с нами никогда не был.
- Как это - закончил?- удивленно спросил он.
- Да, вы проверьте... Букварь - весь знаю. Какие числа надо сложить или отнять одно от другого - тоже сумею! Вы проверьте, если сомневаетесь.
Какая-то доля истины в моих словах была. Подражая почерку учителя, я стал писать хорошо и разборчиво. И букварь заучил от корки до корки, не хуже, чем дастан.
Бекет строго нахмурился. Но кто у нас не знал, что сердиться по-настоящему он не умеет.
- Разговор у нас такой, словно ученик Габит - это я, а учитель Бекет - это ты... Мне кажется, было бы справедливее, чтобы не ты мне сообщал о своих успехах, а я похвалил бы тебя. А? Как ты думаешь?
Я уже ничего не думал. Я медленно сгорал от стыда. Бекет дал мне время справиться с моим непритворным смущением, а потом сказал:
- Учишься ты и вправду хорошо, тут я ничего не могу возразить. Но если хочешь стать человеком, никогда не будь доволен собой. Всегда говори сам себе: я мог бы сделать больше, чем сделал...
Я молча переживал свой позор. Бекет добавил, будто ничего не произошло:
- Послезавтра к нам приезжает инспектор. Он будет проверять, как работает школа. Он просил, чтобы я показал ему не только средних, но и лучших учеников. Ты готовься. Я вызову тебя по арифметике.
Я бы предпочел прочесть что-нибудь, к тому времени я заучил и несколько русских стихов. Но ладно, арифметика так арифметика. Хоть и надо было думать: «Я мог бы сделать больше, чем сделал», а приятно щекотало самолюбие, что он посчитал меня в числе лучших.
...Мы знали, что инспектор - это начальник, как волостной, а может, и еще выше. Он и одет был как начальник - в темно-синей форме с золотым шитьем; носил усы и бородку клинышком.
Когда он вошел в класс и вежливо с нами поздоровался, я удивился. Там, у себя в ауле, я привык: если начальник, значит, будет громко кричать, чего-то требовать, замахиваться камчой. А этот - какой-то непохожий, какой-то другой.
На стене в тяжелых позолоченных рамах висели портреты самого царя и самой царицы. Инспектор, как положено,
1Мугалим - учитель, наставник.
спросил, знаем ли мы, кто изображен на них.
В ответ потянулись руки.
- Хорошо... Ты скажи,- обратился инспектор к Мусатаю, который даже привставал на месте от нетерпения, всем своим видом показывая, что он-то расскажет лучше всех, если только его попросят.
Но когда, не вникая в смысл, заучиваешь длинное предложение на чужом малознакомом языке, оно быстро вылетает из памяти. Мусатая хватило только на то, чтобы проворно вскочить и стать в проходе, четко вытянуть по швам руки. Потом он растерялся от собственной смелости. Шумно проглотил слюну и буркнул:
- Нызнаю...
Инспектор искоса посмотрел на нашего учителя, и тот покраснел, как мальчик.
- Тогда ты скажи...- Инспектор обращался к самому здоровому из нас парню - двадцатилетнему Жакыпу, с трудом умещавшемуся на своей последней парте.
Так же с трудом он вылез из нее и вытянулся* не зная, куда девать большие руки.
- Иаго...- начал Жакып, вздохнув.
- Не «йаго», а его,- поправил инспектор, и этого было достаточно, чтобы Жакып растерялся и умолк окончательно.
Наш бедный учитель совсем упал духом; его глаза медленно блуждали от парты к парте, где сидели те, ни кого он мог рассчитывать. Я понял его и начал старательно тянуть руку, не хуже, чем только что -Мусатай.
- Ладно. Попрошу тебя,- повернулся инспектор ко мне и кивком головы показал на женщину, которая с высоты смотрела на неуклюжего казахского парня, каким я был в то время.
Учился я в первом классе, а было мне уже почти четырнадцать. И язык мой, как у всех великовоз-растных учеников, оставался неповоротливым. Для меня особенно трудным было слово «ия», которым начинался непомерно длинный титул императрицы всея Руси. «Ия», а то и вовсе «ия» - у меня каждый раз получалось по-разному и всегда неправильно. Поэтому я постарался побыстрее перескочить злосчастное слово. Мне это удалось, и дальше я все выпалил одним духом.
Было видно, что инспектор остался доволен. Он кивнул Бекету и вызвал меня к доске. Таблицу умножения я знал и ни разу не сбился, отвечая, сколько будет четырежды восемь, пятью девять, восемью семь. Решил я и две задачи, которые он задал.
Бекет понемногу пришел в себя и предложил инспектору спросить меня и по русскому языку Тот подумал и велел прочесть басню. Что я читал? «Чижа и голубя» или «Мартышку и очки»?
Чижа захлопнула злодейка-западня: Бедняжка в ней и рвался, и метался, И голубь молодой над ним же издевался...
Раз я и сейчас могу свободно прочесть ее до конца, читал я скорей всего именно эту басню.
В нашем классе было пять девочек. Три из них, боясь инспектора, не пришли в тот день в школу. А одна из двух - та, что была побойче,- тоже прочла стих. Меня инспектор наградил сборником Лермонтова, а девочку - томиком Пушкина. Выходя после уроков из класса, девочка ударила меня Пушкиным, а я ответил Лермонтовым.
Я читал Лермонтова, некоторые стихи даже заучил наизусть. Но смысл их был для меня не всегда понятен.
Что же такое «император», «парус», «капитан»? Вот стихотворение «Терек». Терек по-казахски осина, и я никак не мог уразуметь, что же получается: «Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад». Ветер, что ли? Бекет, спасибо ему, объяснил: Терек - есть такая река на Кавказе, течет в горах, потому такая бурная.
Другое дело - басни. Там многое было понятно. Сам автор объяснял, в чем их мораль. Там действовали звери, которых можно было встретить в нашей степи или же на страницах дастанов; там все было расставлено по своим местам: кого считать хорошим, кого -плохим, кого осудить, над кем посмеяться, кому посочувствовать.
Всего четыре дня минуло после отъезда инспектора. И одно событие навсегда определило нашу жизнь, нашу судьбу.
- Свобода! Свобода!- кричали всадники, носясь по улицам, заскакивая в ближние аулы.- Царя больше нет!.. Свобода!- И требовали суюнши[4].
Но есть царь или нет его, а на следующее утро мы все пришли в класс. Первое, что бросилось в глаза,- учитель успел снять со стены августейших особ, прислонил их к столу. Оказывается, их портреты были намалеваны масляными красками по жестяным листам. И роскошные позолоченные багеты тоже были из тонкой жести.
- Сегодня - никаких занятий!- сообщил нам сияющий Бекет - у него на пиджаке, словно цветок, алел бант.- Раз все свободны, и вы свободны, дети. А вот этих двух...- Он щелкнул пальцем по одному из портретов.- Этих можете таскать по всему поселку, волочить их по земле. Так, чтобы к вечеру никто и признать не мог! И кричите, кричите во все горло, что царя больше нет, что теперь - свобода! Кричать-то вы, по-моему, умеете неплохо.
Да, кричать мы умели. Быстро нашли веревочные обрывки - и поволокли за собой царя и царицу, До самого вечера мы носились по улицам, навещали соседние аулы. Наша шумная ватага была слышна издалека. Люди выходили навстречу. Одни молча наблюдали за всем происходящим, никак не высказывая своего отношения. Говорят, царя нет... А вдруг он снова возьмет в свои руки власть, и что тогда будет с теми, кто поносит его на разные лады при всем народе.
Другие не скрывали своих чувств. Они кричали, радовались, приглашали нас в дома и угощали, кто чем мог.
Помню, одна пожилая женщина - казашка, которая сроду не видала царского портрета, все удивлялась:
- Ну и рожа у него! Он, сатана, ко всему и кривой на один глаз!
Она не подозревала, что это Жакып отколупнул краску.
В конце концов нам надоело таскать портреты. Мы сунули их в прорубь на Убагане.
Наступило лето.
Это лето стало переломным в моей судьбе. Бекет Утетлеуов написал прошение в Пресногорьковскую школу. Он лестно отзывался о моих способностях и настаивал на том, что мне необходимо продолжить учебу в русской школе.
Ход моего рассказа опять немного нарушится, но сказать несколько слов о Бекете я должен.
Он был одним из тех немногих казахов, которым удалось получить образование в учительской семинарии. Мог бы остаться в городе, но не остался. Если бы одним словом определить всю сложность и неповторимость его натуры, я бы сказал о нем - просветитель. Таким он был в те годы, когда я, мальчишка, впервые встретился с ним. Таким знали его и все последующие поколения учеников - Бекет Утетлеуов долгие годы преподавал литературу в одной из школ Кустаная. Он никогда не бросал писать стихи, но без лишних восторгов, очень взыскательно относился к своему творчеству. За всю свою жизнь (Бекет умер несколько лет назад) он счел возможным опубликовать один сборник, который выдержал испытание временем и незадолго до смерти Бекета был переиздан. "
У меня нет сейчас возможности подробно рассказывать о Бекете - так подробно, как он заслужил это своей жизнью. Но должен признаться, что и слово учитель у меня навсегда осталось связанным с его именем, пусть почиет он в мире, как хорошо говорилось в старину, и пусть его дела продолжатся в делах его многочисленных учеников.
А теперь вернемся в тысяча девятьсот восемнадцатый год.
Вступительные экзамены в Пресногорьковке принесли мне уверенную пятерку по арифметике и блистательный провал по русскому языку. И все же меня приняли. Очевидно, поверили Бекету на слово.
Осенью того же года в соседнем ауле - не помню, по какому случаю,-был той.
Я натянул новые кожаные сапоги, из-за голенищ которых выступают плотные войлочные чулки. Называется такая обувь саптама. Я надвинул на самые брови ушанку из серого искусственного каракуля. Больше всего огорчений мне доставляло мое «пальто». Одна знакомая казашка перешила его из солдатской шинели. Перешила почти даром - она была добрая женщина, но стоит мне припомнить мой тогдашний вид, и я понимаю, что доброта все же не имеет отношения к портняжному искусству. Пальто делало меня горбатым, чего за мной не водилось, и руки казались длиннее, чем они были на самом деле.
Я даже удивился, что меня узнал и окликнул на тое один знакомый - земляк. Сабит, Сабит Муканов заговорил со мной, несколько смущаясь. То ли мой вид привел его в недоумение, то ли моя природная замкнутость сдерживала даже такого общительного человека, как он. Немного привыкнув друг к другу, мы посмеялись. И поделились своими намерениями на будущее.
Сабит держал путь в Омск, на учительские курсы. Удивительно, что и до него дошел слух, как я на прошедшей весной ярмарке выписывал землякам «достобирены», то есть удостоверения на продажу лошадей. Неграмотные люди - старше меня годами -уважительно обращались ко мне: писарь, и, пожалуй, тогда я получил свой первый гонорар, в общей сложности три рубля. По тем временам деньги немалые.
Предвидя, что на большой осенней ярмарке ему тоже придется подработать на жизнь, Сабит и попросил у меня
образец. Я дал ему образец на темно-серую лошадь. Я предупредил, что нужно указывать масть, и столбиком выписал казахские названия, а напротив каждого из них - русские: бурыл - чалый, жирен -рыжий, кула - буланый, сары - саврасый, кара -вороной, шубар - пегий, торы - гнедой. Кроме того, я счел необходимым написать и возможные «особые приметы»: клейма, тавро.
Позднее, на следующей весенней ярмарке, я узнал, что Сабит воспринял образец слишком буквально.
В его описании все лошади стали темно-серой масти -и вороные и гнедые. У всех таких лошадей «правое ухо порото, под седлом подпарина, грива на обе стороны...» Такое же удостоверение он писал на рогатый скот и баранов.
А в какую передрягу попадали с таким «досто-биренем» хозяева продаваемых животных! Ловкие базарные стражники быстро смекнули, как извлечь из этого выгоду. Они обвиняли аульных казахов, что лошадь краденая, и отпускали их, насмерть перепуганных, только за хорошую взятку.
Так и случилось со многими. В не меньшую передрягу попал и автор этих «достобиренов».
Отец согласился на мою учебу в Пресногорьковке потому, что в то время его коржун довольно прочно держался на хребте шалого стригунка. Но на то, чтобы снимать квартиру у русских, средств все же не хватало.
Я поселился на окраине станицы, в доме Сагандыка. Он пас крупный рогатый скот, принадлежавший местным казакам. Его семья давно прижилась в Пресногорьковке. Женщины шили тулупы на продажу, сам он сапожничал, возил дрова и сено, зимой чистил проруби.
Все они довольно чисто говорили по-русски, и в их присутствии я долго не решался прибегать к этому языку из - за совершенно ужасного своего произно-шения. Подружился я с младшим братом Сагиндыка. Его звали Сыздык. В детстве он бегал в русскую школу - и тогда же русскими буквами записал казахскую поэму «Кыз-Жибек».
Но если с Сыздыком я чувствовал себя свободно, то особенно стеснялся Салимы и Шайзат. Им исполнилось четырнадцать и тринадцать лет, и, по тогдашним понятиям, они считались взрослыми девушками. Этим насмешницам доставляло удовольствие ставить в неловкое положение аульного паренька, который только-только попал в большую обжитую станицу.
Я решил - раз я стал таким взрослым и начитанным, что сам Бекет-ага хорошо обо мне отзывается, то надо стараться преодолевать природную застенчивость. Что, они съедят меня, что ли?.. Первым делом надо показать двум остроязыким сестричкам, что я ничем не хуже тех, кто вырос и живет в Пресногорьковке.
Случай для этого скоро представился. Я возвращался домой из школы. А дорога вела мимо базара. Немолодая русская женщина бойко покрикивала:
- Яблочки, яблочки!.. А кому яблочек...
Из русско-казахского словаря, в который я заглядывал, мне было известно, что яблоками называется «алма» - сочный, вкусный и сладкий плод, растет на деревьях. Очевидно, именно потому, что я знал значение слова, а в глаза не видел яблока, я и остановился возле нее. В наших краях яблоки не росли.
- По две копейки штука,- ответила женщина на мой вопрос, почем ее товар.- А сладкие, а вкусные -чистый мед.
Я взял у нее десяток. Плоды были зрелые, готовые лопнуть от малейшего Прикосновения. Положить их мне было некуда, пришлось рассовать по карманам куртки и брюк.
Шел я осторожно, как человек, непривычный к седлу и проделавший долгий путь верхом. Уже, почти у дома я почувствовал - карманы отсырели.
На мое несчастье в юрте оказались гости.
Салима и Шайзат с важным хозяйским видом сидели по обе стороны самовара и разливали чай. Мои возражения не помогли, Сагиндык усадил меня за дастархан. Гости, свернувшие ноги калачиком, потеснились, и я опустился на кошму рядом с ними.
Не успел протянуть руку за пиалой - и карманы брюк из сырых стали мокрыми. Предательские темные пятна выступили снаружи. А те яблоки, что я положил в карманы куртки, раздавили соседи. За дастарханом было тесно, и мы сидели локоть к локтю.
Чаепитие продолжалось долго. Во-первых, надо рассказать все новости друг другу, а во-вторых - аульные казахи очень любят хлеб, печеный из кислого теста, и молодые гостеприимные хозяйки подавали буханку за буханкой.
Наконец все напились и наелись. Девушки убрали самовар и отправились собирать топливо. Я выскользнул следом за ними. У Сагиндыка со мною состоялся уговор, что я буду помогать по хозяйству.
Мы отошли от дома, и я набрался храбрости - отдал девушкам свои гостинцы.
- Вот/.. Яблоки... Для вас купил. Для тебя, Салима. Для тебя, Шайзат,- буркнул я.
Салима степенно взяла в руки изрядно помятое «яблоко», взглянула на мои мокрые штаны и не выдержала- расхохоталась. Шайзат, порывистая, избалованная своим положением младшей, любимицы, выбила из моих рук красные плоды, подхватила их и побежала обратно, крича на ходу:
- Мама! Мама!- Она заливалась веселым смехом.-Ты посмотри, какие гостинцы купил нам Габит на базаре! Яблочки, говорит, а это помидоры! Помидоры!
Салима, заразившись ее весельем, совсем обессилела от смеха и повалилась на траву.
Так бесславно закончилась моя первая (но не последняя) попытка поухаживать за девушками. Откуда мне было знать, что в Пресногорьковке и вообще в тех краях местные жители называют «яблочками» помидоры.
...Четыре года в Пресногорьковской школе. Я еще застал - перед началом уроков все ученики, независимо от вероисповедания, выстраивались в актовом зале на молитву. Впереди в нарядной шелковой рясе стоял преподаватель закона божьего - священник Малиновский. Рядом с ним директор Михайлов, дьякон и учителя. Начинали мы неизменно: «Отче наш, иже еси на небеси... Да святится имя Твое... да придет царствие Твое... да будет воля Твоя...» Он, Ты, Боже праведный - мы произносили это с большой буквы, в просторном зале на втором этаже гулкое эхо вторило нам.
От сильного баса Малиновского, если он бывал в ударе, дребезжали стекла. Ему вторил дьякон - душа церковного и «светского» ученического хора. Дьякон был молодой, красивый, и наши девушки охотно пели у него. Как всякий артист, он ценил их преданность. На уроках музыки и пения дьякон в сторону мальчишек и не смотрел. Казалось, он обучал одних девушек.
Что было хорошо в Пресногорьковской школе, так это усиленное внимание к русскому языку, к словесности, как по старой памяти называли преподавание литературы. Очевидно, наши учителя считали - и справедливо, что именно литература поможет их питомцам разбираться в сложностях жизни. Сколько души они вложили, сколько усилий потратили на то, чтобы сгладить шероховатости суконного моего языка, научить вникать в смысл слов, которые произносишь. Какое нужно было, например, терпение, чтобы на протяжении двух лет неутомимо поправлять меня: не суппйкс, а суффикс. Плексия - неправильно, надо - флексия.
В школе думали и о нашем земном будущем, а не только о высоких материях. Желающие могли обучиться столярному ремеслу, сапожному, были свои каменщики, свои швеи.
К двадцать первому году с Колчаком в наших краях было давно покончено. Но еще находились люди, которые надеялись вернуть прошлое. Весной вспыхнуло восстание против Советской власти, и мы, девять учеников- переростков, способных носить оружие, вступили в отряд:
«Южная группа партизан Акмолинской губернии». Им командовал Дмитрий Ковалев, родом из Анновки, небогатой мужицкой деревни.
Вылазка белобандитов вскоре была подавлена. Мы через три месяца вернулись в школу, и, видимо, за причастность к боевым подвигам для нас отменили выпускной экзамен. Заменили его сочинением на свободную тему.
Русский язык и литературу вела Сильвия Михайловна - не то латышка, не то полька. Молодая, красивая женщина. По ней многие тайно вздыхали, У нее глаза живые, яркие, глубокие, как озеро Кожабай,
возле которого наш род проводит лето... Р1 голос у нее красивый, особенно когда смеется,- серебристый, напоминает колокольцы на тройке. Приятно слушать, даже если она, вот как сейчас, называет темы сочинений. А от них зависит вся моя дальнейшая судьба. Сильвия Михайловна говорила:
- Выбирайте сами... Можно написать о том, что вот в эти весенние дни в наших краях крестьяне сеют хлеб. Хлеб! Не забывайте, что Поволжье голодает. Во многих городах до сих пор выдают осьмушку на взрослого. А у нас в станице у некоторых людей амбары лопаются... Хлеб - вот одна из тем ваших сочинений... Потом - у нас открылась весенняя ярмарка. Это тоже тема. Некоторые из вас участвовали в ликвидации опасной банды. Им, верно, есть о чем рассказать после похода.
Я горделиво расправил плечи, когда она заговорила про тех, кто ходил с партизанами Ковалева, Но тему все-таки выбрал другую: «Пресногорьковская весенняя ярмарка 1921 года». Так было написано на доске рукой Сильвии Михайловны, и это название я вывел у себя в тетради.
Только вчера я ходил на ярмарку - и наблюдал там немало случаев, когда грустное и смешное шло бок о бок, и было непонятно - радоваться или печалиться.
Ярмарки не бывает без того, чтобы не поторговаться. Если продать, так подороже, а купить - подешевле... Для таких, которые не понимали языка друг друга, были общепринятые знаки: рубли показывались на пальцах, копейки - на суставах, полтинник обозначался полпальцем.
- Двадцать!- говорил русский крестьянин, дважды выбрасывая перед продавцом сжатые кулаки.
- Жиырма!..- утверждал свое казах, тоже два раза выставив оба кулака, но несогласно мотая головой.
- Чего же тебе еще?- недоумевал покупатель. Казах неодобрительно молчал, поглаживая шею быка, с которым и не стал бы расставаться, если бы не нужно было покупать серники, керосин, ситец на рубашки и платья, в особенности чай!
- Ладно, пусть...- решался русский, что-то прикинув в уме.- Пятерку прибавлю,- показывал он опять же на пальцах.
- Бес? Жок, жок,- не соглашался продавец и настаивал:- Бир бут ун.- Это означало: «Прибавь пуд муки».
Казах не мог объяснить, что ему нужно, русский не понимал казаха, а толмача, будто назло, поблизости не было. Казах показал, как жуют хлеб.
- Калач тебе?.. Буханку?..- В голосе покупателя послышалась злость.
Продавец же никак не мог изобразить муку. Тут ему ни лицо, ни руки не могли помочь, и сделка не состоялась. Русский выругался по-казахски, казах - по-русски, и они разошлись. Русский махнул рукой, а казах сплюнул.
Неподалеку от них несколько приезжих из аула, стараясь не выдать восхищения, рассматривали серого в яблоках коня, на котором перед ними, туго натягивая поводья, гарцевал цыган в яркой красной рубахе. Он один выпускал семьсот слов, пока те семеро успевали произнести семьдесят на всех.
Его кнут резко свистел в воздухе. Цыган то соскакивал, предлагая любому, кто захочет, проехать на его коне. А кто проедется - уже не захочет с него слезть... То снова взлетал в седло, делая вид, что пришел в отчаяние от несговорчивости покупателей, от их непонимания собственной выгоды.
- Даром же отдаю! Даром!- кричал он.- Ты ход проверь, милый! Садись и проверяй ход. Сам бы ездил, да деньги надо...
Три жигита, сохраняя недоверчивое выражение на лице, поочередно проехались на красавце-жеребце, потом отошли в сторону, посовещались, и один из них стал отсчитывать замусоленные пятерки, трешки, рубли. Цыган хлопнул нового хозяина по руке, из полы в полу передал ему повод - и растворился в ярмарочной толпе.
Продолжение этой истории я узнал в доме Сагиндыка; покупатель оказался его знакомым.
К вечеру конь захромал на переднюю ногу, а к утру слег. Повели его к ветеринару. Ветеринар осмотрел, пожал плечами и сказал, что водка, которую накануне влили в коня, выдохлась, и, если хозяин в самом деле собирается на нем ездить, надо его каждый раз подпаивать.
Растерянный приезжий бродил по ярмарке, расспрашивал, не видел ли кто человека с черной бородой и кнутом, в красной атласной рубахе и черной жилетке.
