Друг мой, брат мой… (Чокан Валиханов) Ирина Стрелкова
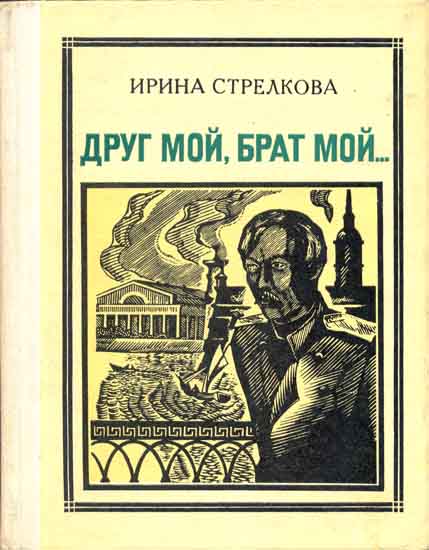
| Название: | Друг мой, брат мой... (Чокан Валиханов) |
| Автор: | Ирина Стрелкова |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1975 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Страница - 3
ПОРУЧИК СУЛТАН ВАЛИХАНОВ (Встреча первая)
Потанин обнял гостя.
- Чокан! Чертушка!
- Что? Не чаял увидеть живым? - поручик изловчился и каким-то секретным приемом повалил кряжистого хозяина. - Да у тебя тут голые доски! - он, сморщился, потирая бок, ушибленный о кровать.
- Диванов не держим! - проворчал, поднимаясь, хозяин. - Ты, я вижу, не ослаб. А говорили, застрял в Омске по болезни...
- Одно время я вправду скверно себя чувствовал. Но нашлась и другая причина. Я никак не мог втолковать отцу, чтобы он дал мне больше денег. Я буду представлен государю, получу приглашения на рауты и балы. Тысяча китайских церемоний! Надо поддержать честь рода Валихановых! Заказать белье у Лепретра, обедать у Дюсо, ужинать у Бореля... - в перечислении петербургских французов все явственнее звучала насмешка, но серьезный Потанин ничего не замечал, и это забавляло Чокана. С давних лет усидчивость друга вызывала у него охоту прикидываться этаким гусаром, любителем легкой жизни. - Я, Гриша, все же одолел отца, а в придачу еще и дядюшку Мусу. Убедил их, что меньше чем на четыре тысячи в год не проживу.
- Значит, выпросил?
- Четыре не четыре, - рассмеялся поручик, - а с жалованьем имею на петербургское житье три тысячи на год. Гутковский* мне весьма помог уговорить отца и дядюшку. Убедил их, что моя поездка в Петербург принесет такую славу всем Валихановым, какая и не снилась нашему великому предку хану Аблаю.
- Имя Чокана Валиханова уже известно здесь всем образованным людям! - Потанин глянул на поручика с укором. - В географическом обществе только и разговоров было, что о твоей экспедиции в Кашгарию... Заметки в газетах, в журналах... Но столица есть столица. Сейчас шум вокруг твоего имени поумолк. Тебе надо было спешить в Петербург еще весной или в начале осени. Стоило ли откладывать поездку сюда из-за каких-то суетных и - прости! - недостойных ученого забот?
- Три тысячи не пустяк! - поручик критически оглядел голую комнату Потанина. - Скажи мне, разве так необходимо отказывать себе в комфорте, в развлечениях, в приличном платье?..
* Карл Казимирович Гутковский — друг Чокана Валиханова, председатель Областного правления сибирских киргизов.
Потанин насупился:
- Человек только тогда чувствует себя свободным абсолютно, когда он свободен от собственных прихотей.
- Я исповедую ту же истину, но на свой лад! - рассмеялся поручик. - Исполняю свои прихоти и таким простейшим путем освобождаюсь от них.
- Ты все такой же, Чокан! Господи, как я рад тебя видеть! Все твои друзья прожили зиму прошлого года в непрестанном волнении: где ты, что с тобой?.. И наконец депеша: «Двенадцатого апреля Валиханов вышел в укрепление Верное». Господи, я в пляс пустился: вышел! вышел! вышел! Сколько же всего ты странствовал?
- Десять месяцев и четырнадцать дней.
- Русская наука гордится тобой! После Марко Поло, после Гоеса ведь никто из европейцев там не бывал!
- Если не считать Шлагинтвейта. Потанин вздрогнул:
- Да, Шлагинтвейт! Какая ужасная судьба! Твое сообщение облетело всю Европу. Ты видел своими глазами груду отрубленных голов?
- То была, пожалуй, не бесформенная груда... - жестко сказал поручик, - то была стройная пирамида из отрубленных голов, воздвигнутая тираном во славу войны и деспотии... В основании пирамиды лежали головы китайских и маньчжурских солдат, истребленных восставшим ходжой Валиханом-торе. Захватив Кашгар, ходжа продолжал заботиться о материале для пирамиды. Он рубил головы калмыкам, чахарам, а затем и кашкарлыкам. Однажды он заказал саблю знаменитому кашгарскому мастеру. Когда тот принес клинок, Валихан-торе разгневался, что сабля не хороша. Мастер возразил. Валихан-торе подозвал сына мастера и одним ударом отрубил мальчику голову. Клинок оказался отличным, и мастеру был выдан в награду халат. Ну а голову мальчика бросили в пирамиду... Нет, я пирамиду не видел. Я видел у ворот Кашгара головы казненных приверженцев ходжи, подвешенные в клетках. Победив восставшего ходжу, войска китайского богдыхана чинили расправу не столько над мятежниками, сколько над горожанами. Разрушали гробницы, превращали мечети в конюшни. Кашгарцы чтут как святыню гробницу Саток-Богра-хана. Шейх, оберегавший святыню, был казнен самым гнусным, отвратительным способом.
Потанин не отводил глаз от побледневшего лица поручика.
- Каким огромным риском было послать тебя туда! Если бы хоть кто-то в Кашгаре догадался, что купец Алимбай вовсе никакой не Алимбай... - Потанин не договорил.
- Слух такой возникал не однажды, - поручик усмехнулся. - И даже доносили «кому надо» - ведь такие «кому надо» существуют везде: в Кашгаре, в России, не так ли?.. Да, были слухи и доносы, что с караЕаном Мусабая едет переодетый русский офицер. Ну а те «кому надо», наверное, искали настоящего русского. - Он опять усмехнулся и вдруг на глазах у Потанина словно переменился лицом. Только что против Григория Николаевича сидел за столом давний приятель, друг детства, поручик султан Ва-лиханов. Когда знаешь человека столько лет, привыкаешь к чертам нерусским, как к чему-то обычному. Ну, чуть-чуть твой друг скуластей, чем ты, смуглее кожа, другой разрез глаз, но ведь это перестаешь замечать, когда есть меж вами совершеннейшее понимание, созвучие мыслей, чувств, когда при различном разрезе глаз вы видите мир едино.
Вот о чем думал Потанин, наблюдая, как совершается в друге разительная перемена. Углы рта опускаются вниз, веки становятся толще, скулы обозначаются резче, скрытным делается взгляд.
- Каков мой Алимбай? - спрашивает Потанина неизвестный ему азиатец голосом поручика Валиханова.
Миг - и снова за столом улыбающийся Чокан - умница, книжник, смельчак, любимец учителей в корпусе, кумир степного Омска.
- Когда-нибудь, Григорий, я попробую описать, как перед экспедицией в Кашгарию я по настоянию осторожного Гутковского ушел в степь, чтобы полностью «натурализоваться» и в условленном месте присоединиться к вышедшему из Семипалатинска каравану. Я жил один, скрываясь в камнях, и думал о своем прошлом и о том, что предстоит мне в Кашгарии, и о том, что я стану делать, если благополучно вернусь оттуда... Я очень многое передумал за те одинокие дни... Зачем я, казах, иду разведывать для русской науки глубины Азии?.. Я вспомнил свою бабку ханшу Айганым: почему она столь непреклонно решила признать себя подданной русского царя? Родича своего вспоминал хана Кенесары - во имя чего он бунтовал против России? Об отце думал - он первый в нашем роду надел мундир офицера русской армии. Вспоминал частых гостей отца - ссыльных декабристов. Они когда-то с честью носили те же, что и я, эполеты... Думал о нашей с тобой дружбе, о нашем решении посвятить всю жизнь исследованию Азии. Я, Гриша, понял там, в одиночестве, что очень люблю свой степной народ. Его всех прежде. Потом люблю Сибирь, потом Россию, потом все человечество. Одна любовь заключена в другую, как кунгурские, один в другой вставленные сундуки. - Поручик помолчал, и Потанин не прерывал его молчания. - И еще я думал о Федоре Михайловиче Достоевском. Федор Михайлович написал мне однажды, что ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как ко мне... Я наизусть помню его послание. Он советовал заняться литературой, рассказать читателям о степном быте... И главное - ехать в Россию. Омск он Россией не считал. Надо ехать в Петербург! Он писал: «Год пробыв там, вы бы знали, что делать».
- Извечное наше русское: что делать? - пробормотал Потанин. - Ты мне прежде не рассказывал о его письме.
- Да. Слишком много мне в нем обещал Федор Михайлович. Он писал: «...вы бы знали, что делать», - поручик говорил теперь размеренно-ровно, словно читал неразборчивый почерк. - «В этот год вы бы могли решиться на дальнейший шаг в вашей жизни...» - он как бы пропустил в памяти две-три строки и нашел то, что искал. - «Лет через восемь вы бы могли так устроить судьбу свою, что были бы необыкновенно полезны своей Родине. Например, не великая ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, который растолковал в России, что такое степь, ее значение и ваш народ относительно России...» - он мысленно пропустил еще несколько строк и закончил: - «Вспомните, что вы первый киргиз, образованный по-европейски вполне...»
- «Лет через восемь»... - задумчиво сказал Потанин. - Не пять, не десять, не двенадцать... Хотел бы я знать, почему Достоевский назначил тебе именно такой срок для устройства судьбы... В каком году писано предсказание?
- В тысяча восемьсот пятьдесят шестом... Четыре почти года прошло, четыре осталось. И мне уже двадцать четыре исполнилось, а сделано еще так мало...
- Но экспедиция в Кашгарию! И ты уже в Петербурге, как и советовал Достоевский!
- Да, путь сюда лежал через Кашгарию. Я и об этом думал в своем степном одиночестве, медленно превращаясь из поручика русской армии в купца Алимбая.
- Судя по всему, превращение совершилось преотлично.
- Я и сам настолько поверил в своего Алимбая, что позволил себе сохранить кое-какие привычки цивилизованного человека. Спал не на земле, а на походной железной кровати, пил чай из самовара. Ведь в конце концов подлинный Алимбай, которого я подменил, мальчиком был увезен в Саратов, вырос среди русских... Играя Алимбая, важно было не переборщить. Пусть сплетничают в караиане про самовар и про «железную доску», как они называли мою кровать. Алимбай возвращался в Кашгар не нищим - так почему родичам не признать его за настоящего Алимбая? Бедняк всегда рискует быть не узнанным родичами, а человек с тугим кошельком и в пустыне встретит уйму свойственников. К тому же оказалось, что я похож на китайца. А я-то имел глупость в бытность свою кадетом так страдать из-за своего плоского носа, что не могу его хоть как-нибудь поднять в середине пташкой. - Поручик смеялся, но Потанин оставался серьезным, и Валиханов, поглядев на него, сказал с неожиданной печалью: - Между прочим, по тамошнему обычаю Алимбай должен был жениться. Но только временно. Кашгарские законы разрешают чужестранцу выбирать себе жену, но запрещают увезти ее с собой. Эти женщины называются чаукен. Моя чаукен оказалась и хороша собой, и умна. Если бы не она с ее женской наблюдательностью и непосредственностью впечатлений, мне бы столько не узнать о Кашгаре. Она имела свое суждение о нравах, обычаях и даже политике. Вот ей-то случилось видеть, как волокли на казнь светловолосого чужестранца. Он шел из Индии в Коканд и имел при себе письма Худояр-хану. Валихан-торе принял его с почетом. Но, на беду, властитель Кашгара в тот день с утра накурился гашиша. Он потребовал, чтобы письма из Британской Индии были показаны ему. Шлагинтвейт - ведь то был он, кроме него некому! - отказался. Валихан-торе приказал отрубить голову дерзкому чужестранцу и вернулся к гашишу. - Поручик нахмурился, потерь ладонью высокий лоб. - Вот какие веселые истории мне рассказывала моя чаукен, не догадываясь даже, какого сорта мой интерес к судьбе слетевшей с плеч светловолосой головы.
- А может быть, твоя чаукен все-таки о чем-то догадывалась? - осторожно спросил Потанин. - Догадывалась, но молчала... Ты не сказал, как ее звали. Кстати, о временном браке писал еще Марко Поло...
- Да, еще Марко Поло, - нехотя и не сразу отозвался Чокан.
Потанин понял, что другу не хочется говорить о кашгарской чаукен, не хочется бередить что-то очень для него дорогое. Что, если мнимый Алимбай искренне полюбил свою чаукен, и она его тоже? Как жесток обычай, не разрешающий женщине следовать за любимым человеком!
Потанин знал Чокана как самого себя. Нет, больше. Самим собой всегда как-то меньше интересуешься, а о друге - когда он тебе с юных лет словно брат родной! - есть потребность души знать все. Чокану уже двадцать четыре года, и он не женат. В Омске русские барышни увлекались им, и случалось, что Валиханов начинал все чаще ездить в какой-нибудь дом, пел там романсы и читал Лермонтова, а потом исчезал, не показывался ни в этом, ни в других домах с барышнями, сиднем сидел взаперти, обложившись старинными восточными книгами и связками бумаг из омских архивов, а после вновь появлялся в офицерском собрании, остроумный и блестящий. Впрочем, такие увлечения случались все реже. Да и к чему они могли привести? К свадьбе? К венчанию в церкви? К необходимости для Чокана принять православие? Для него, имеющего и к Магомету лишь научный интерес? Но как ему сыскать в казахских аулах ровню себе по воспитанию, по образованию?
Долгое молчание первым прервал Чокан:
- И любопытно, что за письма вез к Худояр-хану Адольф Шлагинтвейт из Британской Индии. Английские власти субсидировали экспедицию немецкого ученого... С какими расчетами?.. - Валиханов отыскал на столе чистый лист бумаги. Рука опытного картографа уверенно начертила сетку параллелей и меридианов, извилины главных рек Средней Азии, штрихи горных хребтов, начала разбрасывать кружками города: Коканд, Кашгар, Андижан, Ходжент... Выше сетки Валиханов поместил кружок - укр. Верное...
- В бытность мою в Верном, - продолжал он, - офицеры меня уверяли, что англичанин-художник Аткинсон, посетивший не так давно наши края, вовсе не такой уж безобидный путешественник. Он несомненный английский агент. Британию тревожат действия русских по направлению на восток...
- Аткинсон? - Потанин расхохотался. - Томас Аткинсон английский агент? Я знаю, кому это пришло в голову - Абакумову!* Он сошел с ума у себя в Копале от подозрительности. Аткинсон просто художник, чудаковатый, как все англичане. Семь лет пропутешествовал по Сибири, Монголии и Джунгарии. Женился на прелестной русской девушке. Сыну дал киргизское имя Алатау Чимбулак... Ты читал его труд о Западной и
* Пристав Алатавского округа, жил в городе Копале, корреспондент Московского общества испытателей природы, известный знаток природы Семиречья.
Восточной Сибири?
- Да, в Омске уже получено лондонское издание. Оно имеет немалый научный интерес. И все-таки я не сочту за бред предположение Абакумова. Ты знаешь, я его не люблю. Киргизы стонут от Абакумова. Но все же приходится признавать его отличное знание края. Коллекции, собранные им, превосходны. Особенно чучела птиц. И надо полагать, что в политике он разбирается получше, чем в орнитологии. Иначе не был бы назначен в такое место, как приграничный Копал. И насчет Аткинсона Абакумов не выдумывает. Британия следит сейчас за Россией во все глаза. Между прочим, когда Гутковский меня готовил в экспедицию, он не зря распорядился, чтобы мой отъезд держали в тайне даже от своих. Я еще не ушел из Верного в степь, чтобы ждать семипалатинский караван, когда получил от Гутковского строгий выговор за то, что мое из Верного письмо к губернатору Гасфорту пришло распечатанным. Гасфорт будто бы изволил гневаться, что столь важное и секретное послание небрежно было запечатано мною, а меж тем... - глаза Валиханова зло сузились, - ...а меж тем всю мою корреспонденцию, связанную с отъездом в экспедицию, я запечатывал только сам, никому не доверяя, и делал это с чрезвычайной тщательностью... Мне оставалось, следовательно, предположить, что моя переписка по делам экспедиции в Кашгарию и вообще моя персона привлекла чье-то пристальное внимание. Возможно, кто-то очень любопытный сидит в канцелярии самого губернатора, среди чужеземцев, собранных Гасфортом со всего света. Русские у него не в чести, ты сам знаешь. Омск заполонили немцы, шведы, датчане и еще бог весть кто. Я понял, что Гутковский своим выговором за небрежно запечатанный пакет давал мне предостережение, что за мной уже следят... Он мне как-то рассказывал подробности гибели Ивана Кириллова, любимого ученика Григория Карелина*.
- Того самого, что странствовал с ним по Средней Азии, по Семиречью?.. Но ведь Кириллов погиб не в тех краях. Он заболел по дороге в Петербург и умер в гостинице заштатного российского городишка.
- Да, он скончался скоропостижно в Арзамасе осенью 1842 года. А теперь скажи, Григорий, кому в этом дрянном городишке Нижегородской губернии понадобилось выкрасть из вещичек покойного не платье и не белье, а дневники Карелина, все семь тетрадей, отправленных им с Кирилловым в Петербург? И что за художник, никому не ведомый в Арзамасе, вдруг объявился в гостинице и пожелал сделать набросок с лежавшего в гробу Кириллова?.. Я не ищу тут случайных совпадений: в Арзамасе появился художник, и Аткинсон тоже художник. Но я точно знаю от Гутковского, что Карелин нашел руду в Тарбагатае и золото в горах Алтын-Эмель... Не это ли вызвало интерес к его дневникам и заодно решило судьбу Ивана Кириллова?
- Ты полагаешь, что пропажа дневников Карелина не случайна? Я слышал здесь, в Петербурге, что коллекция минералов, сданная Карелиным на хранение в Москве, тоже исчезла загадочным образом.
* Известный русский исследователь Азии
- Коллекция? - у Чокана дернулась щека. - Не знал... Однако и судьба камешков, наверное, не случайна... Ты вот спрашивал меня, почему я медлил ехать из Омска в Петербург. А Гутковский не спрашивал, отчего я медлю. Я, Гриша, по возвращении из Кашгара и в Верном не очень-то показывался, и Семипалатинск проехал, не объявляясь...
- Благополучно убрался из Кашгара, но все еще не чувствовал себя в безопасности? - насторожился Потанин.
- Я не праздновал труса, но и не хотел торопиться без оглядки. Из Кашгарской экспедиции я вывез немало здравого смысла. Там в моде романс: «Трудно содержать в кашгарском городе лошадь, потому что связка сена стоит двенадцать пулов, но еще труднее сохранить голову, потому что вай! вай!»
- Великолепно! - повторил Потанин с удовольствием. - Трудно содержать лошадь в кашгарском городе, но еще труднее сохранить голову. Ты об этом уже написал?
- Вчерне... - уклончиво ответил Чокан. В Омске он напряженно работал над кашгарскими записями, но остался недоволен первым вариантом очерков о Джунгарии.
- Я, как всегда, твой первый читатель! - напомнил Потанин.
- После Федора Михайловича. Я ему нынче летом кое-что читал.
- Он всегда хвалит твой стиль.
- После Пушкина русские не имеют права писать невнятно. Мы с Федором Михайловичем в ту прошлую встречу о Пушкине говорили. «Свободы тайный страж, карающий кинжал...», Федор Михайлович мне подарил кинжалик из своей коллекции археологических находок на семипалатинских руинах. Пошли к фотографу, и я взял кинжалик с собой. Сейчас покажу тебе фотографию, она всегда при мне.
Потанин взял в руки картон с тисненной золотом фамилией знакомого ему фотографа. И Чокан, и Достоевский - оба в военной форме. У Чокана еще не отросли волосы после бритья головы, обязательного для Алимбая. В левой руке - небольшой кинжал.
- Значит, Достоевский уверен: один год в Петербурге - и ты будешь знать, что делать?
- Да. И к тысяча восемьсот шестьдесят четвертому году я могу стать необычайно полезен своей родине. - Чокан говорил серьезно, без тени шутки.
- Помнишь, в Омске ты мечтал об университете, о восточном факультете? Мы ведь условились! Твое знание восточных языков и мое знание естественных наук - вдвоем мы составим путешественника по Азии, каких еще не было на свете... Чокан, ты должен немедля записаться на лекции!
- Слишком многого ты хочешь от меня сразу! - засмеялся Валиханов. - А знаешь ли ты, как трудно в Петербурге держать своих лошадей? Извозчик меня нынче вез и приговаривал: «Сенцо-то кусается!» Ну а голову здесь сохранить легко или трудно?
