Памятные встречи — Ал. Алтаев
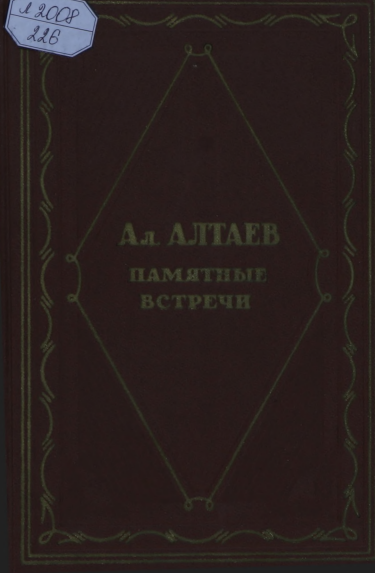
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 28
АРТИСТКИ
ПРОПАГАНДИСТКА ГЛИНКИ
Александра Александровна Сантаганно-Горчакова бывала у нас в дни моего детства и юности довольно часто.
Мне не пришлось знать ее в провинции и в таких больших городах, как Одесса и Киев, где ее закидывали цветами на оперных сценах, где молодежь выпрягала лошадей парного извозчика и везла ее на себе, утопающую в цветах; мои родители рассказывали мне о ее триумфах.
Помню ее небольшую фигуру, всегда в черном шелковом платье, с причесанными на пробор вьющимися черными, уже с проседью, волосами и увядшее лицо с выразительными огромными глазами. Было в этом лице с крупными губами и неправильным, укороченным носом что-то экзотическое, напоминающее типы мулаток, но было обаяние вечной, неугасимой молодости духа.
Она двигалась уверенно, говорила спокойно, в суждениях высказывалась твердо. С матерью она была на «ты».
Сидя на диване, близко-близко, они отдавались воспоминаниям, разглядывали альбомы со старыми фотографиями, улыбались и говорили без конца, радостно, порою перебивая друг друга и смеясь. Киев... Очевидно, обе они крепко любили этот город, или, вернее, любили свою молодость, которую в нем провели.
Когда Сантаганно-Горчакова ушла, мать, проводив ее в переднюю, вернулась и сказала мне: — У нас сейчас была замечательная женщина и большая артистка. Она с ума сводила публику своим пением.
И полились перечисления всех партий, которые Сантаганно пела в опере: и Наташа в «Русалке», и Антонида в «Жизни за царя», и Людмила в «Руслане», и Виолетта в «Травиате», и Розина в «Севильском цирюльнике».
Я поняла, что и голос у нее был обширного диапазона, но главное, чем она побеждала публику,— это необычайная экспрессия и драматический талант.
— Как хороша она была в Розине,— говорила мать,— сколько грации, сколько блеска! А в Наташе? До какого трагизма доходила она в сцене с князем, когда из груди ее вырывался полный отчаяния и горькой насмешки вопль сердца:
Вот видишь ли, князья не вольны
Жен себе по сердцу брать...
Должно им всегда расчету Волю сердца покорять.
А вольно ж им было клясться...
И какая безысходная, хватающая за сердце тоска была в ее песенке за сценой:
По камешкам, по желтому песочку...
— А голос у нее был очень хороший?
Легкая тень пробежала по лицу матери.
— Голос... он был настолько хорош, что она славилась как исполнительница партии Антониды, а прежде часто пробовали голоса певиц на обширность диапазона в трио:
И миром благим процветет...
Мать была настроена особенно мечтательно. Мы оставались в этот вечер с нею вдвоем; отец еще не скоро должен был вернуться из театра; сестре нездоровилось, она ушла раньше спать, и матери, видимо, хотелось рассказать о любимом друге лучших дней своей молодости.
— Мы познакомились в Киеве, когда она служила у Бергера, и тогда она мне все рассказала. Пройдут годы, и жизнь заметет ее следы, а жаль,— она стоит того, чтобы о ней вспомнить. Она была дочерью старого военного фон Ховена. За нею ухаживал крупный чиновник с состоянием — Горчаков, но Александре он не нравился, и она отказала ему, когда он сделал ей предложение. На ее несчастье, отец в это время тяжело заболел и, думая, что умирает, позвал к себе дочь и потребовал, чтобы она поклялась выйти замуж за Горчакова,— только тогда он может умереть спокойно. Александра привыкла, что воля отца — закон, а тут это была воля умирающего. Она поклялась, и скоро была устроена свадьба. Ее обвенчали с ненавистным ей человеком, а отец выздоровел и прожил еще несколько лет. Жить с мужем Александра Александровна не могла; она сознавала, что навеки несчастна.
Надо сказать, что у нее был изумительный, огромный голос, который бы в другом кругу составил богатство для девушки, но Ховены, по понятиям их круга, могли петь только в салонах, услаждая слух своих гостей; сцена и эстрада были для них закрыты как нечто унизительное для дворянского достоинства. Александра ушла от мужа. В своем несчастье она винила отца, потребовавшего этого брака.
Знатоки советовали ей посвятить себя пению; отец уже не препятствовал, понимая, что сломал ей жизнь. В конце концов было решено, что Александра поедет в Италию усовершенствовать голос.
За окном выл ветер и стучал заслонками в трубе.
Мать кивнула головой на окно:
— Был такой же унылый вечер, с изморозью и ветром, когда она, неопытная и одинокая, в сотый раз проверив скромную сумму денег, полученную от отца, с небольшим чемоданчиком отправилась в путь, через Вену в Италию.
— Но как она решилась на такой смелый, по тогдашним понятиям, шаг?
— Если бы ты вгляделась хорошенько в это лицо, со страстными глазами, то поняла бы, какой у нее был пылкий характер. Страсть к сцене развил в ней еще больше трагик Олдридж, приехавший в Россию на гастроли и пленивший своей игрой молоденькую Ховен. В конце концов он даже просил ее сделаться его женой.
Мать засмеялась.
— Рыбак рыбака видит издалека, и, наверное, пылкому негру Олдриджу показалась близкой как по облику, так и по внутренним артистическим качествам эта большеглазая смуглая девушка с ослепительной улыбкой, а голос ее пленил его. Но ее страшил брак с ним... Теперь, оставив мужа, Александра вспомнила советы трагика и отправилась в Италию.
— Воображаю, как она была счастлива в этой стране искусства!
— Она обещала написать о своем пребывании в Италии, и нам, русским, эти воспоминания особенно дороги,— из них мы узнаем, какие испытания приходилось выносить певцам и певицам, прежде чем они окончат «отделку» голоса. Она рассказывала мне, каких страшных затрат — и моральных сил и денег — стоили ей уроки у итальянских маэстро и через какие страдания прошла она. То был путь сплошных взяток. С ней в Италии жила молоденькая девушка, какая-то Паша, которая не хотела оставить ее на чужбине и живет с нею до сих пор преданным другом. В старое время многие известные актрисы и певицы имели таких преданных женщин, посвятивших им всю жизнь. Но Паша, экономившая каждый грош, чтобы дать возможность своей «диве» отшлифовать голос, не смогла удержать ее от краха; не хватило бы никаких сбережений, чтобы наполнить прожорливую пасть знаменитых маэстро. Эти маэстро давали в то же время возможность русской певице испробовать силы на итальянских сценах, но как только она затруднялась заплатить за рекомендацию чудовищную сумму, назначенную открыто, без стеснения, двери театров перед нею немедленно закрывались. Голод и нищета в чужой стране подкрались незаметно. Но моя Александра Александровна выносила все мужественно: продав свои ценности до последней булавки, она продолжала идти намеченной дорогой. И пела в Риме, в Милане, в других итальянских городах, вызывая восторги экспансивных итальянцев особенно присущим ей высоким драматизмом исполнения. Вернулась она в Россию уже законченной артисткой.
— Вот тогда ты и узнала ее?
— Не сразу. Когда мы познакомились, она уже заслужила известность и в России. В Киеве ее носили на руках. Но, что всего замечательнее, эта большая артистка сама обрубила сук, на котором сидела.
Я смотрела на мать недоумевая.
— Если бы ты могла перенестись в Киев и взглянуть на эту веселую, пылкую и прелестную женщину, всегда полную всяких затей, с серебряным, рассыпчатым смехом!.. Это была душа общества, и где бы она ни появлялась, за нею неслись смех и радостные крики. На празднике — первая, на работе — первая, и там, где надо открыть сердце для доброго дела,— тоже первая. Об этом знали киевские товарищи, об этом знали киевские студенты.
Она пододвинула ко мне карточку испанки в нарядном кружевном костюме. Кокетливая, улыбающаяся Розина из «Севильского цирюльника».
— Но при веселье и кажущемся легкомыслии она была сильная, очень сильная женщина. Раз после какого-то ужина в ресторане веселая компания восхищалась ее пением, остроумием, красотой. Не смейся: именно красотой. Это как будто по чертам некрасивое лицо находили благодаря его выражению прекрасным. Оно постоянно менялось: то все сияло задорной безудержной улыбкой, то дышало негодованием, то в нем была восточная лень и нега... И при этом, представь, глубокие, идущие от сердца звуки мягкого голоса... Пирушка была в полном разгаре, рояль раскрыт; ее просили петь, и вдруг она резко захлопнула ноты и вся точно погасла, побледнела, стала серьезна и молчалива. Я спросила ее, что с нею. Обещала сказать потом, завтра. Я так хорошо помню этот вечер. Настроение Сантаганно передалось всем: разом исчез праздник, стало скучно, и мы разъехались.
— Что же случилось?
— Утром Александра Александровна зашла ко мне и сказала: «Куропаточка,— она так меня всегда смешно называла за мой маленький рост и мелкие шаги в походке, ты знаешь, я решила бросить сцену». Я не поверила: «Зачем? Ты недовольна условиями? Тебе надоел Киев?» Она покачала головой. «Мне ничто не на доело, и я по-прежнему страстно люблю искусство». Она подперла голову обеими руками и, глядя большими глазами в одну точку, как будто там что-то читала, медленно заговорила: «Боюсь, что тебе это будет непонятно. Я хочу уйти в полном блеске,— она указала в окно,— как там, когда оно садится... Что может быть печальнее и ничтожнее, когда артист уходит со сцены потому, что у него нет сил... Случалось ли тебе присутствовать при последних спектаклях знаменитости, которую щадит публика? Певец выходит. Его встречают шумные аплодисменты. Он поет, а за оркестром его не слышно; он поет фистулой и на высоких нотах поднимается на цыпочки. Вы не узнаете этого голоса, когда-то такого прекрасного; но жалостливая, милосердная и благодарная за прошлое публика награждает его аплодисментами; к его ногам летят цветы... Что здесь действует еще, кроме милосердия и благодарности? Массовый гипноз, гипноз имени. «Фора! Фора!» И вдруг один свисток, свисток — дерзкий, пронзительный, достигающий до самого сердца, буравящий мозг... Вот он, наконец, смертельный приговор... Один человек из всей публики не поддался гипнозу, но этого довольно,— он принес певцу приговор. Я не могу пережить этого ужаса, я хочу сама себе выбрать конечный путь. Никто не заметил еще, но я сама заметила начало разрушения. Это будет еще не так скоро... Я внимательно стану следить, чтобы разные предательские «до» и «до-диез» звучали у меня чисто, и как только замечу, что приблизилась к краю обрыва, удержусь и отойду».
— Какая оригинальная женщина! — вырвалось у меня.
— Какая сильная к тому же женщина! Она тут же и сказала, видя, как во мне одновременно бурлили чувства восхищения и негодования: «Тебе нечего возмущаться. Я же говорю, что это будет не сию минуту. Ты думаешь, я уйду на покой? Нет, это будет совсем другое... Нынче ночью я не могла спать и подсчитала все свои сбережения, все полученные подарки. Набралось немало, спасибо публике. Я обращу все свои брильянты в деньги, продам все золотые вещи, опять заберу свою Пашу и марш в Италию!»
— Чтобы под влиянием мягкого итальянского климата улучшить и как можно дольше сохранить голос?
Мать засмеялась.
— Какое детское представление о всемогуществе Италии! Нет, она уехала для того, чтобы там пpoпагандировать русскую музыку и, в частности, Глинку. Ведь теперь за границей еще имеют кой-какое представление о нашем Чайковском, о Римском-Корсакове, о Глинке, но тогда для Европы, а тем более для Италии русские певцы должны были черпать свое искусство только из иностранных сокровищниц, особенно Италия считала себя на недосягаемой высоте. И вот моя Сан- таганночка с неподражаемой манерой выступает в миланском «La Scala», распродав все свои драгоценности, организует оперную труппу, знакомит итальянцев с «Жизнью за царя» и показывает, что в России есть что слушать и на что смотреть. Это было великой ее заслугой. Когда средства стали подходить к концу, она уехала, завоевав в этой стране, колыбели искусств, прочное положение нашему великому русскому композитору.
— И, вернувшись в Россию, она уже не вернулась на сцену?
— Нет. Изредка выступала в концертах, в случайных сборных спектаклях, но в опере уже не пела. Она променяла пение на педагогическую деятельность и теперь считается одной из лучших преподавательниц. Кроме того, она написала либретто к «Кармен».
После этого разговора я смотрела на Александру Александровну с особенным интересом и симпатией. Драма ее жизни была раскрыта передо мной.
Мне хотелось поймать в ней хоть когда-нибудь черточку зависти. Она живо интересовалась восходящими звездами русской и иностранной оперы и всегда беспристрастно верно давала им оценку. Пылко относилась она к своему делу, гордилась учениками и ученицами, терпеливо работала с ними по методу, изученному ею в Италии.
Впоследствии она была одно время учительницей пения Л. В. Собинова.
Когда у нас к ней приставали, прося что-нибудь спеть, она в конце концов соглашалась и пела арии и романсы из старого репертуара; голоса уже не было, но фразировка осталась удивительная.
Тогда, готовясь к экзамену экстерном за гимназию, я искала параллельно работы, и Александра Александровна давала мне переписывать свои оперетки. Не знаю, где они шли, но либретто Горчаковой к «Кармен» много лет держалось на сцене.
Потом она была замужем за каким-то чиновником, жила в последние годы в Гатчине.
После смерти моей матери в ее вещах остались неоконченные записки Сантаганно-Горчаковой, которые та дала ей когда-то для просмотра. Там была история юности Александры Александровны и ее жизни в Италии.
