Памятные встречи — Ал. Алтаев
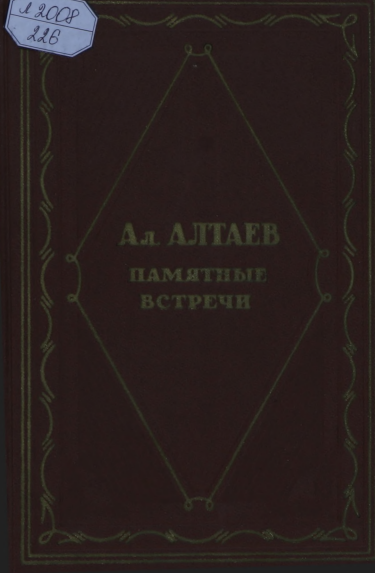
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 29
САВИНА
Был жаркий летний день 1891 года. Гатчинский дворцовый парк. «Приорат» казался особенно ярко- зеленым после дождя. Я остановилась у пруда, любуясь лебедями. Одни плыли с важно выгнутыми шеями и, опуская клювы в воду, вылавливали брошенные мною крошки; другие, вдали, распустив крылья, неслись по зеркалу пруда, задевая перьями воду, и под их крыльями она сверкала всеми цветами радуги.
Я шла к Александре Александровне сказать ей, что мать нездорова и не может сегодня к ней прийти, как обещала.
Мы жили в это лето в Гатчине на даче, главным образом чтобы быть ближе к Горчаковой, с которой мать в последнее время снова особенно сблизилась. В этот день Александра Александровна устраивала у себя завтрак, на который к ней обещал приехать кто-то из петербургских друзей.
Мне не хотелось идти к Александре Александровне. Я стеснилась встретить у нее незнакомых гостей, оттого и тянуло меня к кормлению лебедей в «Приорате». И пришла, когда Сантаганно-Горчакова уже сидела за завтраком на просторной террасе, обвитой диким виноградом. Издалека слышались оживленные голоса, старческий— мужа, приятный, мягкий — Александры Александровны и еще чей-то очень знакомый, своеобразный, с капризным говорком слегка в нос.
Я остановилась в смущении у ступенек террасы, оглядывая себя... Мне казалось, что я буду пятном: нехороши туфли, нехорошо платье из серенькой холстинки и нелепа эта серая шляпа с глупыми топорщившимися ромашками.
Здесь же все так изысканно-изящно. И в сущности ничего особенного — все просто, но главная прелесть во вкусе, в живописности, в гармонии. Дачная шведская мебель, такая изящная в этом полдневном освещении, вся в золотых солнечных бликах, пробивающихся сквозь изумрудную листву винограда, ослепительной белизны стол, на котором блестит хрусталь и серебро, рубинами всех оттенков переливается в стаканах красное вино, и манит крупная земляника «виктория» в низкой хрустальной вазе. И такие нарядные фигуры за столом: сама Александра Александровна, помолодевшая, со своим оригинальным смуглым лицом в рамке серебряных волос, вся в белом. И та, другая, от голоса которой у меня сильнее забилось сердце, тоже вся в белом, в легкой индийской кисее, простая и элегантная, что бросается в глаза при первом на нее взгляде. Сколько раз, видя ее на сцене Александрийского театра, я не могла отвести от нее глаз, ловя каждое движение, каждое слово. И вдруг она здесь, передо мной...
На меня смотрели со снисходительной улыбкой все сидящие за столом. Они, конечно, поняли мое смущение. Александра Александровна, со свойственной ей милой манерой, постаралась сейчас же вывести меня из неловкого положения.
— А! — сказала она, издали кивая мне головой.— Вот и наш сорванец! Прошу любить и жаловать, Марья Гавриловна! Это дочь моей Аглаи Николаевны и Владимира Дмитриевича Рокотовых. Когда-то ты играла «Сорванца», а тут у нас свой, в жизни.
Но от этих слов я еще больше смутилась. С кем она меня сравнивает! С Савиной, которую я в первый раз видела в этой роли!
Ко мне протянулась красивая рука в кольцах.
— Ну, так здравствуйте, тезка сорванец.
А Александра Александровна добавила, добродушно улыбаясь полными губами:
— Ну, ну, поближе... Знаешь, Марья Гавриловна, она твоя самая горячая поклонница. Во всех ролях тебя пересмотрела.
— Поклонница?—протянула Савина.— Что же вам во мне нравится?
Я вспыхнула.
— Ах, все, все!
Савина засмеялась.
— И даже голос? — протянула она снова капризнонасмешливо.
— И голос! — восторженно отозвалась я
Она пожала плечами.
— Могу сказать, что у вас плохой вкус.
— А где же мама?—спросила Горчакова.— Нездорова? Как жалко! Но ничего, надеюсь, серьезного? В таком случае садись на ее место ты. Знаешь, Марья Гавриловна, она ведь в Киеве почти на моих руках родилась. А жаль, что мама не пришла,— мы собирались составить партию в винт. Придется тебе, Паша, сесть с нами четвертой. А пока поухаживай за гостьей, положи ей всего побольше.
И Паша, тоже светлая и нарядная для этого праздничного дня, захлопотала у моего прибора, а Марья Гавриловна, улыбаясь, пододвигала мне тарелку с земляникой.
Она промелькнула передо мной в тот летний день как светлое виденье, и, когда я сказала, что мне все в ней нравится, я не солгала. Я смотрела ее во всех ролях, в которых она радовала петербуржцев, начиная от «Сорванца», «Трактирщицы» и «Девичьего переполоха» и кончая «Рабочей слободкой», «Симфонией», «Родиной» и, наконец, потом уже, значительно позднее, «Холопами», и всюду она приводила меня в восторг. Я смотрела ее по нескольку раз и каждый раз улавливала что-то новое в нюансах игры.
Я восхищалась и Комиссаржевской и Стрепетовой, несмотря на то, что в то время публика разделялась на два лагеря: поклонниц Стрепетовой и Савиной,— я восторгалась обеими. На меня не действовали и ходившие по городу слухи о том, что Савина сживает со сцены всех даровитых актрис,— я не переставала глубоко любить этот большой талант. И недаром у меня в памяти сохранилась более пятидесяти лет ее фраза:
— Что же вам во мне нравится? И даже голос?
Этим она сказала, что знает свои недостатки.
Она была не только даровитая, но и необычайно умная артистка. Савина была и образцом хорошего вкуса: в Петербурге, помню, светские дамы специально ходили смотреть, как одевается Савина. Она говорила своим ученицам:
— Никогда не следует одеваться экстравагантно, ловя последний крик моды. Лучше немного отстать, чем перегнать. Это будет лучший тон.
О ней говорили много дурного, говорили об интригах, которые она раскинула будто бы сетью на сцене. Люди, чернившие Савину, не знали ее исстрадавшегося сердца... Много лет спустя случай свел меня с ее дублершей Ильинской, соперницей, за мужа которой, Молчанова, Савина вышла замуж.
Я встретилась с Ильинской в зале гимназии Шаффе. на гимназическом вечере. Она захотела познакомиться со мной, обратив внимание на декламацию моей дочери, тогда еще гимназистки.
— Металл в голосе... учиться надо... и я с удовольствием занялась бы с нею... ведь, говорят, она мечтает о спене.
Она ею и занялась очень скоро и была так внимательна, так добра к ней, что. когда дочь моя прихворнула и не пришла на урок, Ильинская приехала к ней сама, несмотря на дальнее расстояние и ужасную погоду. За свои уроки она ни за что не хотела брать денег.
И. несмотря на всю симпатию мою к этой милой, обаятельной женщине, у меня не поколебалось восхищение Савиной.
Как много надо знать, чтобы судить»,— думала я и вспоминала рассказы об отзывчивости Савиной, об отношении ее к ученицам, полном внимания и заботливости.
Я знала, как она помогала Кузьминой, как она делала театральное приданое своим ученицам.
До Молчанова Савина была за красавцем офицером гвардии — Никитой Всеволожским.
Художник В. М. Максимов рассказывал мне о нем приблизительно следующее:
— Я был учителем рисования у этого Никиты, когда он был еще мальчиком. Ленивый и наглый, он уже и тогда подавал «блестящие надежды». Помню такую картину. Вечер у его родителей: ужин, а после ужина — недопитые рюмки и стаканы. Их много за длинным столом... И когда столовая пустеет, а сонная прислуга еще не явилась прибирать, из-за портьеры показывается фигура подростка, на цыпочках подкрадывается к с голу, оглядываясь воровато во все стороны, и быстро, с жадностью начинает опустошать содержимое рюмок и стаканов, не брезгая опивками... Я увидел это случайно и, поймав мальчика на месте преступления, стал стыдить. Он замахал на меня руками: «Молчите, не выдавайте!» Я угадал его будущее, когда задумал на эту тему картину... Я написал к ней этюды... Сюжет примечательный и психологический: будущий кутила.
Максимов угадал судьбу Никиты Всеволожского: он был яростным прожигателем жизни, бросавшим деньги на цыган, на кутежи в шикарных ресторанах, на кокоток, на карты... И Никита Всеволожский очутился в таком положении, что ему оставалось или пустить пулю в лоб, или отдать карточный долг, а заплатить было нечем.
На несчастье Савиной, тогда уже прославленной артистки, он покорил ее сердце своей редкой красотой. У нее были роскошные брильянты — подношения публики. Она, не задумываясь, продала их, заказав предварительно поддельные по их рисунку, чтобы обмануть как близких людей, так и публику, а деньги отдала прокутившемуся офицеру.
Всеволожский женился на Марье Гавриловне, хотя жениться на актрисе считалось мезальянсом для гвардейца; ему. кажется, даже пришлось выйти в отставку, так как Марью Гавриловну могли не принять в его кругу. Женился и устроил из жизни Савиной ад...
Все это отец и мать знали не только из рассказов Сантаганно-Горчаковой, но и от самой Марьи Гавриловны...
В последний раз я встретила Савину в Харькове мельком в конце августа 1915 года, незадолго до ее смерти. Она была там проездом, чтобы взглянуть, как работают ее ученицы в труппе Н. Н. Синельникова; среди них была и моя дочь.
В это время у режиссера А. П. Петровского умер отец, и вся труппа ходила провожать его на кладбище. Была ранняя осень, выдался холодный дождливый день. Дочь рассказывала, что Савина провожала гроб до могилы и стояла возле нее до самого конца. На ней были тонкие прюнелевые туфли, и она очень зябла.— может быть, чувствовала себя уже нездоровой, простудившись в дороге. Через неделю телеграф принес изве
стие о ее смерти...
Вероятно, о кончине прекрасной артистки, кроме публики, пожалели многие из ее учениц и учеников, пожалели и обитатели убежища ветеранов сцены, о которых она заботилась, и малыши, находившиеся в отделении малолетних, которых она всегда очень баловала. Ее приезд в убежище был праздником для всех его обитателей. Не
даром же ее и похоронили под кровом убежища.
Мне хочется здесь еще рассказать о последнем свидании моей матери с Марьей Гавриловной.
Это было уже после смерти моего отца. У него была другая семья, было двое маленьких детей. Мать моя
хотела для этих детей получить за отца пенсию. Она поехала хлопотать об этом через Савину.
Отец в Александрийском театре прослужил двенадцать лет. По закону, для пенсии этого оказалось мало. Вместо пенсии было выдано жалованье за год.
Впрочем. Савана, чтобы поправить дело, при помощи своего мужа Молчанова определила детей в убежище.
В разговоре с матерью она вспомнила прошлое,
часы, проводимые у общего друга А. А. Сантаганно- Горчаковои и разговорилась:
— Говорят, немало слез проливалось из-за меня на сцене и в жизни. А кто думал, что я слезы утирала? Ну, что ж, надо было делать добро, не думая о честолюбии... Но человек ведь редко делает добро, не думая об искусстве акробатики: как бы отличиться от других. Широкая помощь без мыслей об эффектной позе редко кому удается; люди обыкновенно становятся в позу. А жизнь до ужаса или до горького смеха проста. Шесть ступеней я прошла: ребенком, обиженным и робким, девушкой — с первой любовью и первыми грезами о творчестве; несчастной женой с задавленной мечтой об истинном искусстве; на вершине славы — безумие любви к человеку без сердца, потом одинокая жизнь звезды, которую признавали, но не любили, и которую не грел собственный блеск и маленькие отступления в погоне за лаской тоскующего, утомленного и не верящего ни во что сердце. И, наконец, настанет покой достижения и довольства земными благами, без проблеска любви, без надежды, без желаний, с одним стремлением — закатиться в ореоле славы почета,— но, боже, какой холод одиночества!
Мать вспоминала, что когда Савина это говорила, на глазах ее были слезы. Она закончила тихо, почти шепотом:
— Я любила многих, но получала удары, и это меня приучило к осмотрительности. От ран юности остались рубцы на всю жизнь. Приходится смотреть на многих— как на пешек, а на себя — как на фигуру...
КОЛЕСО ЖИЗНИ
Савина и Кузьмина были ровесницами или почти ровесницами. Вся семья Кузьминых — театральная: отец — известный комик Александринского театра времен Каратыгина — Алексеев, оставивший записки. Сестры тоже пошли по сценической дороге: одна, Матро- зова, известна как хорошая провинциальная актриса, а другая, младшая, Мария Александровна, была режиссером провинциальных театров.
Но Кузьминой не повезло. И у нее не было ни большого ума, ни образования, была она воспитанницей императорского театрального училища.
Она много рассказывала нам о нравах театрального училища. Они любопытны, и многое станет понятно при оценке того или иного явления в театральном мире прошлого, когда знакомишься с ними.
Могу судить, более или менее, только о женском отделении этого училища. Принимали туда девочек совсем маленьких, лет шести, по «подведомственности»,— детей актеров, актрис и всяких служащих в ведомстве императорских театров, вплоть до сторожей и швейцаров. Экзамен на пригодность был таков: заставят пробежаться девочку по залу, а комиссия смотрит, правилен ли и легок ли бег. Если замечена неуклюжесть или кривизна, экзаменующаяся забраковывается.
В театральной школе учили наукам очень мало; история, например, сводилась почти исключительно к мифологии античного мира, так как атрибуты к истории древних богов часто фигурировали в балетах.
Кончали курс девушки совершенно невежественными, но весьма компетентными в некоторых сторонах жизни. Они в совершенстве знали моды, марки заграничных духов и кремов; марки как русских, так и иностранных вин; мечтали о ресторанах «Кюба» и «Медведь», чудесно разбирались в формах гвардейских полков, в чинах и орденах, знали, какая сумма нужна для «прожиточного минимума», чтобы жить в столице «прилично», имея свой выезд, ездить к Ментону и получать головокружительные удовольствия в Париже. Все это они постигали твердо на двенадцать баллов к моменту окончания курса.
Интересен был этот момент окончания курса. К нему готовились девочки несколько лет подряд. Их еще маленькими брали на спектакли балета и оперы, где они изображали пастушков и пастушек, амуров и гениев, жучков, мотыльков и стрекоз, чертенят и всякую малолетнюю нечисть, роли детей-статистов в уличной толпе. Хорошенькие девочки переходили в театре с рук на руки и слушали посулы успехов на сцене и в жизни среди будущих поклонников из «света». Возвращаясь в училище, они, возбужденные за кулисами, получали обильный полночный ужин, причем на этом ужине часто присутствовали представители знатных фамилий из золотой молодежи и великие князья. Девочек подпаивали дорогим вином; им дарили дорогие духи и конфеты; великие князья тут же дурачились и выскакивали из-за стола, изображали всевозможные па:
— Вот вам «батман»!
— Хорошо я делаю «антраша»? Заказывайте еще!
— «Па де де!» — кричали, хлопая в ладоши, девочки.
Воспитанницы театральной школы твердо усвоили, что те, кто не имел частицы «де» и «фон» при иностранных фамилиях и у кого в гербе не было княжеской или графской короны — люди второго сорта. Красивые девушки метили на «покровителя» из великих князей.
Живя в училище, школьницы мало знали дом и родных. Когда в приемные дни приходили их навещать матери в скромных косыночках и заштопанных платьях, они подавляли в себе остатки естественной родственной любви; косились на их убогие гостинцы, помня, какие роскошные подарки дарят им добрые и красивые молодые люди и пожилые «дяди» ночью, после спектакля. «Косыночки» из кожи вон лезли, чтобы угодить сколько-нибудь хоть лакомством привередливым дочкам.
А в будние дни воспитание было жесткое. Холод в дортуарах и классах; форменное платье, сшитое для всех на одну мерку; скудная пища; грубое обращение. Старшим классам давалось право держать в подчинении младшие; эти старшие были беспощадны: они издевались, жестоко «цукали» маленьких и делали их своими служанками.
Выпускали к семнадцати годам совершенно «отшлифованную», знающую себе цену девицу в кордебалет на жалованье пятьдесят рублей в месяц. Из этих пятидесяти рублей нужно было еще делать себе балетные туфли, давать одевальщице на чай и. кажется, иметь свое трико. Возвращаясь в лоно семьи, часто к бедным труженикам, девица сразу падала с неба на землю и проклинала день и час своего рождения.
Немногие, с выдающимся драматическим талантом, как Левкеева и Кузьмина, пошли в драму; для большей же части естественной дорогой был балет.
И тут происходили часто большие ошибки. Так, на знаменитую Преображенскую, некрасивую собой, в свое время в школе положили штамп негодности, а впоследствии она заняла положение прима-балерины.
