Памятные встречи — Ал. Алтаев
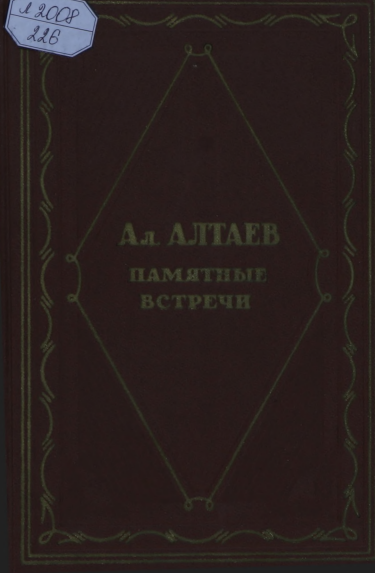
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 30
Характерную картину представлял собою школьный муравейник накануне выпуска. Все эти девушки заранее умоляли родителей сделать им «шикарное» белое платье, в котором они бы могли упорхнуть из своей клетки, и просили, чтобы за ними приехали «как можно приличнее», то есть в карете.
Даже дочь Кузьминой Нина, которую мать боготворила, неглупая и сердечная девушка, не выдержала тлетворного влияния школы и робко просила мать о «шикарном» выпускном платье и, конечно, о... карете, нанятой напрокат. Впрочем, она сейчас же взяла просьбу о карете обратно, как только увидела у матери жалкий испуг в глазах, но платье ей было сделано,— помогла Марья Гавриловна Савина.
Как только она узнала о предстоящем выпуске Нины, она призвала к себе Надежду Александровну и сказала:
— Вот что, Надюра, я сделаю твоей Нине необходимый гардероб,— ты об этом не беспокойся. Давай потолкуем, что ей нужно.
А нужно было все, от чулок и туфель до рубашки, пальто и шляпы. Кузьмина никогда не умела даже сносно устраиваться, и Нина много лет спустя, уже будучи пожилой, вспоминала, как они с матерью делили поровну к чаю один копеечный розанчик и как ей было стыдно, когда в детстве, проголодавшись, она раз отломила от материнской порции половину.
Нина стала честно зарабатывать свой хлеб в кордебалете и уроками танцев. Но многие из воспитанниц театрального училища поступили иначе. Балерина Трефилова, очень хорошенькая и способная, сделала «блестящую» карьеру: за нею в школу приехала карета великого князя, одного из Владимировичей, и увезла в роскошно обставленную квартиру.
Числова была выбрана заранее, в последнем классе, великим князем Николаем Николаевичем. Сильного характера, расчетливая, Числова вертела великим князем, как хотела, и, чтобы чего-нибудь добиться у Николая Николаевича, нужно было» «задобрить» Числову.
Его шталмейстер выбрал себе одноклассницу Числовой Е. А. Андрееву, но женился на ней. Она ненавидела школу, из которой вышла, и, прямая, резкая, называла ее «узаконенным заведением для подготовки девиц в великосветский публичный дом». Она говорила с отвращением:
— Если бы моя воля, я бы срыла эту школу до основания.
Савина протянула руку помощи Кузьминой и вытащила ее на александрийскую сцену, когда Надежда Александровна совсем погибала.
У меня случайно сохранилось письмо Кузьминой к матери: правда, оно без даты, но как будто относится к девяносто первому году. Письмо наполнено жалобами на тяжелую жизнь, заботами о Нине. Уехав в Москву на заработки, она поручила моей матери навещать ее в училище. Стоит привести из него маленькие выдержки:
«Спасибо, что навестили моего чижика. Вот беда... ей нужны калоши, иначе ей домой нельзя на праздник... Я же, бедная, за три месяца заработала 100 рублей. Живу так экономно, потому приходится и к спектаклям то платочек, то перчатки... да сделала платье черное шелковое за 55 рублей в кредит, без (него) мои роли немыслимы».
Вот в такое-то мучительное время Савина устроила Надежду Александровну на петербургскую казенную сцену. Кузьмина играла там уже старух.
Несколько раз мне приходилось видеть ее в ролях старых ключниц в Островском и в современных пьесах тогдашнего репертуара. И мне, так любившей прежде эту актрису, теперь было жалко на нее смотреть: передо мною двигалась все еще молодая, изящно-стройная фигура, в нарочитом старушечьем гриме, в чепце или повойнике, с нарочитой интонацией и нарочитыми движениями, с молодым, нежным и мелодичным голосом Офелии и Луизы.
Она «старалась», и ничего из этого не выходило. Не знаю, слишком ли рано переменила она амплуа или ее дарование было так узко, что она должна была закончить на молодой героине,— бог весть, но в Александринский театр ее согласились взять только на роли старух.
Савина в это время еще и не думала бросать героический репертуар, а они, повторяю, были или ровесницы, или почти ровесницы.
Савина сама, незадолго до конца жизни, перешла на роли пожилых и блестяще сыграла в «Холопах» княгиню, говорят, для нее написанную.
Кузьмина умерла рано, в безвестности и бедности, умерла, забытая публикой, от грудной жабы и была похоронена в Петербурге на Митрофаньеэском кладбище. Только фойе харьковского синельниковского театра сохранило громадный ее портрет, изображающий ее в лучшую пору жизни, когда Владимир Иванович Немирович-Данченко посвятил ей свою пьесу «Шиповник».
В последние годы жизни Кузьмина любила погружаться в воспоминания, часто ездила в убежища ветеранов сцены и рассказывала о грустных встречах.
— Ты знаешь,— говорила она мне,— твой кумир ИваноВ'Козельский в убежище. За ним ухаживает преданная ему девушка, бывшая гимназистка, поклонница...
— Он очень плох,— вздыхала Кузьмина и выразительно показывала на лоб,— все это последствия его привычки... Нельзя было так много пить. Он бросил сцену как-то странно, уйдя внезапно, среди действия, из театра... А раньше сколько раз являлся, не в силах произнести связно двух фраз... Это было где-то там, на юге...
Мне стало грустно, даже больно слушать, и невольно вырвалось:
— Такой талант!
— Да, голубчик, кто же из нас не знает, каков у него был талант? А теперь — конец. К нему ездят, привозят гостинцы, как маленькому... Он очень любит варенье. Я купила у Бликгена и Робинзона и свезла баночку. Он меня узнал сразу и улыбнулся, а на варенье жадно накинулся.
— Козельский никогда не вспоминает о сцене?
— Как же, как же! Иногда требует свой сундук, в котором у него хранятся грим, парики, роли, даже кои-ка- кие костюмы. Сядет у зеркала и долго возится с пуховкой и заячьей лапкой, часами себя рассматривает, а потом вспомнит роль и начнет говорить...
— Как прежде?
— Иногда будто и как прежде. И этот его голос, знаешь, этот его за душу хватающий голос... И вдруг забудет или вспомнит кусок из другой роли. Смешает Гамлета с Отелло, а то еще хуже,— знаешь, дружок,— возьмет и подбавит к сцене с черепом часть монолога Белугина... ей-богу... Потом спохватится, пробует поправить... жалко смотреть... на лице отчаянная мука, бросится вперед, сжимая кулаки, кричит нетерпеливо, теребит своего кроткого ангела, ухаживающего за ним, и спрашивает настойчиво: «Что, как я это сказал? Как сказал? Если бы это слышала публика? И зачем я здесь сижу, среди этих убогих калек, зачем?» И начнет буйствовать, а потом в полном изнеможении заплачет, как маленький. Хочешь поехать к нему?
Я решительно отказалась. Не могу видеть этого актера. Когда-то, пятнадцатилетней девочкой, я пересмотрела Козельского во всех ролях во время его гастролей в Петербурге весной 1888 года, а после «Уриэль Акосты» не спала несколько ночей и, стоя на коленях, клялась, что отныне буду стремиться превратить свою жизнь в подвиг... И мне было тяжело увидеть этого артиста безумным.
А Кузьмина, полная нежного участия к старому товарищу, продолжала его навещать и как-то раз сказала:
— С бедным Козельским скандал. Марья Гавриловна прислала в убежище ложу для ветеранов на свой бенефис и хотела, чтобы в ней был и Козельский. Он поехал, обрадовался, а среди действия разошелся, пришел в восторг, стал громко аплодировать и кричать, подхватил чей-то монолог и давай его продолжать... Его унимают, а он не слушается... Едва увели, и после был такой припадок, такой страшный припадок... Говорят, его хотят увозить в больницу для душевнобольных.
Но вскоре разнесся слух, что Козельский плох, а потом я узнала о его похоронах на Смоленском кладбище...
Они постепенно сходили со сцены жизни, эти дорогие мне люди.
