Памятные встречи — Ал. Алтаев
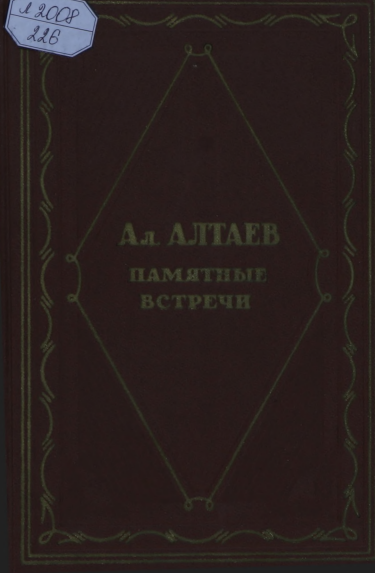
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 32
ПАМЯТНЫЕ БЛИНЫ
Приближалась масленица. Ариадна очень хотела познакомить свою семью с моей и наконец пристала к моей матери:
— Я знаю, что вашему мужу, как актеру, очень занятому, трудно выбрать время приехать к нам, а моих домоседов еще труднее вытащить. Вы свободны. Приезжайте к нам запросто на блины в пятницу; мама такая мастерица их готовить. Смотрите же, не опаздывайте: к трем часам. Она вас ждет. Будут друзья — Острогорские. Чудные люди. Профессор — писатель Виктор Петрович Острогорский; знаете, конечно. И отец покажет свою новую картину, которая скоро появится на выставке передвижников. Смотрите, блины не терпят опоздания.
Мать очень любила блины; она была общительна и потому сейчас же согласилась.
Утром в пятницу Ариадна прислала с напоминанием о блинах брата Вячеслава.
Извозчик трусит на Петербургскую сторону. Далекий путь из Коломны... Мороз щиплет уши; перемерзли ноги; все мы заледенели... Знакомая лестница, знакомая темная передняя. Сразу бьет в нос запах блинов, и в передней стоит легкая сизоватая дымка, прорвавшаяся из кухни.
Лидия Александровна выходит к нам в большом переднике. Вид у нее недоумевающий. Она говорит мне:
— Ах, вы, вероятно, к Ариадне? А ее нет, но она, кажется, скоро придет. С кем имею честь?
Я вспыхиваю. Очевидно, нас здесь не ждали.
— Это моя мама...
— Очень приятно.
Мы замерзли. Лидия Александровна снисходительно просит раздеться.
Входим в столовую. За столом компания — сам Максимов и еще двое: маленький седоватый и раскосый человек с длинными волосами и седоватой козлиной бородкой, с дряблым лицом, и полная, крупная женщина в скромном черном платье, с лицом монгольского типа, с маленькими, но умными, серьезными глазами.
Максимов вскакивает:
— А, милые гости! Очень рад, очень рад... Ариаднина подруга и ученица. Забыл имя... Очень рад... Вы, должно быть, ее мамаша? Очень рад...
Он жмет руки и рекомендует:
— А вот мои друзья: профессор Виктор Петрович Острогорский и его супруга — милейшая Елизавета Яковлевна...
Маленькая фигурка профессора поднимается; он с повышенной горячностью жмет нам руки.
— Острогорский. А это — моя Лилька, правая рука, поддержка, спасение и вдохновение старого писателя и старого учителя, друга молодежи, Виктора Острогорского.
Максимов обнимает Острогорского и, смеясь, припевает:
Острогорский Виктор. Вот боа констриктор...
Это про Острогорского написал какой-то остроумец к его юбилею.
На столе — вино, водка, пиво. Художник говорит жене:
— Жаль, что мы не знали о приходе дорогих гостей и не подогнали к нему блинов. А блины были славные: мамица-лапица у нас мастерица стряпать. Послушай, а нет ли там у тебя свеженьких?
У Лидии Александровны несчастное лицо.
— Василий Максимович! — взывает она трагически.— Да ведь и плита погашена и остатки все я отдала прачке.
— Ну, на нет и суда нет,— разводит руками Максимов.— Не обессудьте. Зато я вам покажу свою картину. Мы картину-то с другом Викторушкой сейчас и вспрыскиваем. Не угодно ли с нами пивца? Настоящее Вальдшлесхен!
Мать бормочет сконфуженно:
— Не беспокойтесь, пожалуйста... я ничего не хочу... А картину... это очень хорошо... Я очень рада...
— Ну, вот и чудесно. А дочке остался пряничек — коврижка печатная с миндалем.
Стакан за стаканом наливают светлый золотой Вальдшлесхен. Друзья целуются и потчуют пивом мать. Оно булькает у нее в пустом желудке.
Наконец-то художник подводит нас к мольберту. На мольберте «Все в прошлом», впоследствии самая популярная его картина. Я останавливаюсь очарованная. Глубокой грустью веет от картины. Властная помещица погружена в воспоминания; в стороне виден старый забитый дом, где прошла вся ее жизнь, а служанка примостилась на ступеньке флигелька, куда судьба загнала ее барыню.
Здесь все старо, от вольтеровского кресла, скатерти, самовара и фарфора до ковровой шали на плечах помещицы.
И все это на фоне весеннего пейзажа, на фоне цветущей сирени...
Я услышала глубокий вздох матери. У нее вырвалось из души:
— Когда-то я так же интересовалась работами Агина.
Агин — магическое имя. Со всех сторон послышались вопросы:
— Разве вы знали Агина?
— Он при вас работал над иллюстрациями к «Мертвым душам»?
— Давно вы его знали?
— Как же не знать? Он даже мой кум — крестил вот Маргариту,— указала мать на меня,— значится в ее метрике. Кроме того, он был гримером в киевском театре.
Мать делается предметом всеобщего внимания, кстати, из-за Агина и я. Мать должна рассказать про покойного художника, рассказать обо всех его оригинальностях и чудачествах, которые вызывают у слушателей большой интерес.
В это время слышится звонок: приходит Ариадна и восклицает с нескрываемым изумлением:
— Вот здорово-то! Неожиданная встреча, дружище! А видела картину отца? Правда, крепко написана?
Очевидно, она совершенно забыла о своем приглашении.
Пока мать рассказывает и пьет пиво, мы располагаемся в комнате Ариадны на сундуках и корзинах, покрытых плахтами: Ариадна, Лида и я.
Перед нами Нечаев, оторвавшийся от занятий с Вячеславом, которого репетирует. Он рассказывает о своей статье, помещенной в детском журнале: «Гибель Помпеи и Плиний-младший».
Ариадна шепчет:
— Нечаев — замечательный человек. Он познакомил отца со своим товарищем студентом Генераловым, который делал покушение на царя. Генералов даже, кажется, ночевал у него накануне покушения или только заходил, точно не помню.
Пора было уходить.
И Василий Максимович и Виктор Петрович крепко жали нам руки и благодарили мать за воспоминания об Агине.
Острогорский вместо туша запел надтреснутым высоким голосом свою любимую песенку Беранже:
Из чужбины дальней В замок феодальный Едет наш маркиз...
И, обнимая жену, перешел на игривый мотив:
Из-под соболя ресницы
Смотрят глазки на меня...
Прочь, сомненья, прочь, невзгоды, У-улыбнись повеселей!
— Полно, Виктор, отмахивалась Елизавета Яковлевна,— какие там собольи ресницы? Поедем-ка скорее домой.
«ЛЮБША»
Было решено, что я поеду на лето за известную плату в имение Максимовых «Любшу».
Поездка на пароходе по каналу от Шлиссельбурга, потом на маленьком пароходике двенадцать верст по Волхову от Новой Ладоги к Старой,— и мы в «Любше».
С мостков так называемой «Богатыревской пристани» поднялись в гору, к усадьбе.
Густой, запущенный сад, сбегающий по горе к Волхову, не особенно большой, с фруктовыми деревьями и ягодными кустами, но эта запущенность придает ему особую прелесть. Дом двухэтажный, новый, пахнет смолой и свежевыстроганными бревнами. В нем все не докончено, кроме мастерской художника; эта мастерская с окнами на север, в нижнем этаже, светлая, просторная. Рядом — столовая, спальня и комната мальчиков. Две «девичьи» комнаты вверху; к ним ведет крутая лестница, как на чердак. В одной из них, предназначенной для меня, балкон.
Здесь, в «Любше», разница между дочерьми Василия Максимовича особенно резко подчеркивается всем обиходом. Кокетливая Лида, похожая, как говорят, на бабушку со стороны матери — Измайлову, унаследовала ее мягкость в обращении, гибкость, покладистость, хозяйственность и любовь к уюту и вещам. Она — любимица обоих родителей. У нее все вещи от бабушки — «родовые», всякие сувениры, которые ничуть не занимают Ариадну.
Ариадна — грубоватая, плохо одетая и плохо причесанная, представительница другого берега, копия с отца. Она любит есть с рабочими, плясать на посиделках, работать на сенокосе, полоть гряды в огороде.
Ариадна часто спорит с ласковой и покладистой сестрой, с матерью, хлопает дверьми и запирается наверху, крича, что не может выносить пошлости.
Отец для нее—что-то высшее; ему она не смеет перечить и угрюмо молчит, если не соглашается.
Я несколько раз заводила с ним разговор о ее призвании.
— Вы помните, что сказал про нее Репин, Василий Максимович?
— Помнить-то помню, да что из этого? Чтобы быть художницей, надо много положить труда; это, матушка, не мутовку облизывать,— повторял он свою любимую поговорку.— а доброй матерью может быть всякая хорошая, честная женщина, как и хорошей женой. Разве мало делает моя жена? Она мне и помощница, и друг, и мать моих детей, и стряпуха, и несменная натурщица. Зачем искать синицу в небе, когда журавль в руках? А вот что Ариадна по посиделкам любит таскаться — это не дело, не доведут ее парни до добра. А хочешь родной деревне пользы,— иди в сельские учительницы или в фельдшерицы.
Репин в самом деле находил у Ариадны большие способности к живописи. В городской квартире Максимова на стене, среди его этюдов, висел этюд ржи работы Ариадны. Рассматривая полотна Василия Максимовича, Репин заметил маленькую картинку, прикрепленную к обоям кнопками, и его поразила яркость красок и свежесть солнечного пейзажа.
— Слушай, брат Вася, а ты здорово шагнул.
И показал ему на рожь.
Максимов усмехнулся:
— Да ведь это не я, а моя дочка Ариадна широко шагает.
— Отлично. Превосходно. Она далеко пойдет.
Но Ариадна пошла очень недалеко. У нее не хватало выдержки, усидчивости, плана, и я поняла это очень скоро. Иногда, много дней подряд, не выходила она из мастерской Василия Максимовича и писала под его руководством натюрморт или свой портрет в зеркале, счищала всю работу, переписывала вновь, кричала, что нет хороших «колонковых кистей», а краски пожухли, что выражение глаз ей не удается... А то вдруг надолго бросит работу и бежит с граблями на сенокос и, возвращаясь к портрету или этюду, снова кричит, что работа никуда не годится.
Меня радовали и Волхов, и свет, и ладожские просторы, и нежная северная природа, и древние стены Старой Ладоги, и мелодичный звон монастырских колоколов, и соловьи по ночам, а ко всему этому молодая компания и жизнь под кровом известного художника. И поражал простой быт, а меня добродушно высмеивали, копируя какую-то жеманницу, будто я сахар беру на вилку, отставляя мизинец в сторону. Но все это были шутки, не вызывавшие никакой обиды, и мы все между собою прекрасно ладили.
Василий Максимович вел себя как радушный хозяин и терпеливый учитель. В противовес Ариадне у меня не было никакого таланта к рисованию, и я по ошибке попала в школу Общества поощрения художеств. Но Максимову хотелось найти в каждом человеке хоть искру таланта, тем более у подруги дочери и крестницы Агина, и он требовал, чтобы я показывала ему свои работы, внимательно рассматривал бездарную мазню и говорил снисходительно-добродушным тоном:
— Ну, вот тут переложили малость охры, голубушка. Надо бы ослабить. А эта тень к чему? Где вы ее рассмотрели в натуре? А уж «черненькие» головки из «Нивы» перефразировать на масло вовсе не годится. Какой в этом толк? И вообще копии? Знаете, друг мой, копии приносят мало пользы. Надо работать с натуры, все равно что: цветы, горшок, кружку, кочан капусты, курицу или человека,— у кого какой хватит охоты и умения. Но только непременно с натуры. Надо начинать, понятно, с более легкого. Что ж, если у вас не выходит, а все-таки тянет, упражняйтесь, рисуйте, хотя бы только для себя. Громадное удовольствие доставляет человеку отдых в искусстве, в красках или звуках. Так-то. И еще знайте, что человек труда и дерзания никогда не пропадет. Не умеешь шить золотом — бей молотом. А все-таки мне показывайте свои работы, да и Ариадну в консультанты запрягите,— она вам может помочь и в рисунке и в умении видеть краски.
И Ариадна, после совместной работы с отцом, уходила из мастерской какая-то радостно возбужденная, сияющая, переполненная жаждой творчества.
Настали дни, впечатления которых навеяли художнику картину «Опять буянит».
Как-то летом, в сенокос, приехали в «Любшу» гости: Виктор Петрович Острогорский с молодым доктором- горловиком Анкиндиновым; Анкиндинов, вопреки приговору знаменитостей, спас Острогорского от полной потери голоса; тот с ним всячески носился и, наконец, уговорил поехать отдохнуть на лоно природы к своему приятелю художнику-передвижнику.
Если Анкиндинов спас Острогорского от потери голоса, то жена спасла Острогорского от полного падения. Елизавета Яковлевна Симонова, молодая курсистка, отдала ему всю жизнь, ходила за ним, как нянька, и помогала работать. Но старая привычка пить не покидала Острогорского; Анкиндинов от него не отставал, а потом начали дружескую попойку втроем: гости и хозяин.
Острогорский, этот человек с длинными седеющими кудрями, воспитал целое поколение учителей, он был хорошим редактором детского журнала, умел будить у молодежи лучшие чувства, знакомя ее с образцами классической литературы, популярные его лекции привлекали массу слушателей.
И становилась понятной близость этих двух людей — Максимова и Острогорского. Оба — одинаково преданные искусству, легко возбуждающиеся, оба — надломленные жизнью,— Острогорский потерял единственную страстно любимую дочь, Максимов чувствовал себя обойденным, недооцененным обществом...
Все тихо в нижнем этаже, когда мы спускаемся с лестницы, чтобы выйти в сад, на берег Волхова. В открытую дверь спальни видна на кровати фигура художника. Он лежит ничком и бубнит сочиненный им каламбур на художника Лемоха:
С Ивановым бороться хочешь ты Теплом и светом животворным... Коль ты умен, оставь свои мечты И будь по-прежнему художником придворным.
