Памятные встречи — Ал. Алтаев
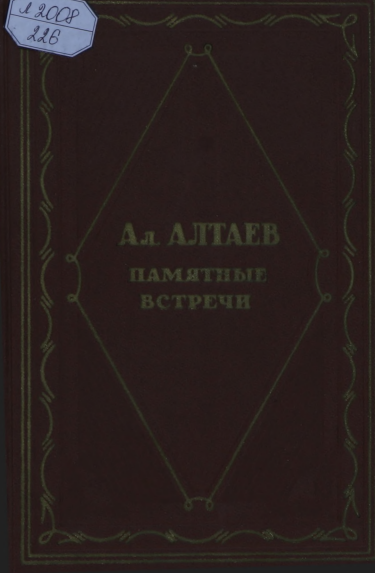
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 36
ПОСЛЕДНЯЯ ВСПЫШКА
Повторяю: за последние годы Василий Максимович не создал ни одной большой, значительной картины. Изнемогал от нищеты, от слабости, от болезни, его подтачивала бередящая мозг мысль, что он не нужен, забыт, не идет в ногу с временем. Василий Максимович говорил, что теперь успех имеют Бодаревский с выставкой декольтированных плеч, шелка и бархата, Лемох с изо- ражением лакированной избы, конфетного крестьянского ре енка с пальчиком у губ, что художественную карьеру можно сделать только угодничеством и подхалимством.
н не лю ил декадентского направления в искусстве, оно ызывало в нем враждебное чувство, даже как будто чувство личного оскорбления.
О Петрове-Водкине говорил:
— Рисунок у него хорош, а зачем понадобилось лошадей красить в розовый цвет?
Не нравился ему, как он говорил, «манерный» Сомов, урлянисе с его симфониями говорил с ужасом, так же как о новаторах в поэзии — декадентах и символистах. Он сердился, когда кто-нибудь хвалил картины, появлявшиеся на выставках «Союза» и «Салона». Особенно возмущался художниками, использовавшими для своих картин кусочки блестящей жести и фольги.
Судьба слишком поздно пришла на помощь Максимову, да и какая в сущности это была жалкая помощь. В 1907 году ему была назначена так называемая «гри- горовичевская пенсия» в размере... сорока девяти рублей пятидесяти копеек в месяц. Эта пенсия образовалась из ежегодного капитала в три тысячи рублей, назначенного казной писателю Д. В. Григоройичу, директору Общества поощрения художеств, и после смерти последнего разделенного на части для поддержания более старых и заслуженных художников. Одна из частей досталась Максимову.
Сыро, холодно было в неуютных, полупустых комнатах его квартиры. На столе облупленные тарелки или миски. По всей лестнице несется удушливый запах жареного цикория, и Лидия Александровна извиняется, что цикорий подгорел. Потом пьют какую-то бурду с жидким молоком или халвою.
Выгадывалась буквально каждая копейка,— когда требовались больному художнику фрукты, покупался брак с гнильцой, а сахарный песок употреблялся желтый и плохо очищенный, который был что-то копейки на две дешевле.
Художник сидит целыми часами на кровати, завернувшись в одеяло или в плед.
— Балуюсь опять, третья дочка, портретами с фотографий,— встречает он меня горькой усмешкой.— Жрать надо. Разве не знаете, какие у нас, художников, бывают приработки? Кто прирабатывает этикетками, рекламами, картинками для конфетных коробок или на табачную фабрику. Вон Михаил Петрович Клодт, тот специализировался на табачных этикетках, а ему куда легче жить, чем мне: он получает порядочную пенсию за отца и имеет приличное место в Эрмитаже.
Максимов скоро стер почти оконченный и хорошо написанный аксессуар — большой стол, обильно уставленный яствами купеческого пиршества.
Не желая задерживать понадобившуюся академии мастерскую, Максимов перевез начатую картину к себе на Олонецкую, и она разом загородила всю его тесную комнату так, что в ней трудно было повернуться. Еще труднее было работать. Бессилие охватило художника; он чувствовал, что ему не справиться с задачей, что придется бросить работу, и страшно тосковал. А тут еще нужда давила со всех сторон...
КОНЕЦ
Я хорошо помню обычную позу Василия Максимовича в этот период: завернувшись в плед, сидит он со спутанной шапкой седеющих кудрей, смотрит в одну точку стеклянным взглядом и молчит. Кисти и палитра валяются на художественной резной табуретке собственного изделия.
— Что ты, Василий Максимович? Нехорошо тебе? — спросит Лидия Александровна.
— Тоска, Лидуша, смертельная тоска.
Эта смертельная тоска была одним из самых существенных симптомов болезни художника.
Когда перевезли Василия Максимовича в больницу на Пятнадцатую линию Васильевского острова, я была нездорова и не могла его навестить, да и боялась утомить. Собралась, когда мне сказали, что он умер, и это тогда меня очень терзало...
— Несмотря на хороший уход,— рассказывала мне Лидия Александровна о последних днях мужа,— несмотря на отдельную комнату, несмотря на заботливое лечение, бедному Василию Максимовичу становилось с каждым днем все хуже. Не помогали впрыскивания камфоры и мускуса; сердце его сильно ослабело. Он находился все время в сознании, был кроток и тих, терпеливо переносил свои страдания и беспрекословно подчинялся больничному режиму. Только одно его раздражало: требова ния, чтобы он ел. Еда была ему противна. Дома его мучила бессонница; днем и ночью видела я его постоянно сидящим на постели молча, обернувшись к стене и устремив в одну точку унылый взгляд. В больнице благодаря подкожным впрыскиваниям он постоянно дремал. Боли в груди утихли, удушья не было; он стал говорить, что ему легко. Но я видела, что он гаснет... с каждым часом гаснет... Несмотря на слабость, больной радовался, когда его кто-нибудь навещал. Радостно встретил он жену своего товарища Марию Федоровну Позен, навестившую его накануне смерти. Жаль, что вы ни разу не навестили его.
Я молчала. Мне было очень тяжело это слышать. Го было трудное для меня время, да и не думалось, что состояние здоровья Василия Максимовича так безнадежно...
Он скончался в ночь на 18 ноября 1911 года.
— Василий Максимович умер тихо, во сне,— говорила Лидия Александровна,— между двенадцатью и двумя часами ночи. Я заснула неподалеку, думая, что ему лучше, а когда проснулась, у него уже застыли руки.
Не забыть мне никогда отпевания Василия Максимовича. В небольшой церкви Академии художеств собралась тесная группа товарищей покойного. Мало кто вспомнил об этом глубоко честном и несчастном человеке да многие и забыли уже, что это был крупный художник, до конца жизни верный своим задачам.
Когда я видела его, незадолго до больницы, сидящим в оцепенении, мне казалось, что перед его сознанием проходит вся его тяжелая жизнь, начиная с детства: бедная изба, монастырь, мастерская богомаза, академия и, наконец, мучительная нужда, на которую он себя обрек, когда, блестяще окончив академию, отказался от поездки за границу, к которой стремился каждый начинающий художник, отказался, чтобы не отдалиться от родного крестьянства...
При сложившихся условиях быта жизнь художника оставалась такой тесной, такой бедной. И он относился подозрительно к богатым и знатным и выпускал, как ежик, иглы.
Случай с Мусиной у Острогорских может служить иллюстрацией такого отношения. Он не любил щеголь ства. Вспоминая о Шишкине, которого высоко чтил, он всегда с досадой говорил:
— А отчего умер? Любил до смерти пощеголять ботинками. Покушал узкие-преузкие. Раз натер пятку, сделалось заражение крови и умер.
Богданова-Бельского он считал хорошим художником, но всегда сердился:
— Шаркун. Белье носит от Артюра, с Невского, самое парижское. Так его и тянет от родной деревни на Английскую набережную, в особняки. Что хорошего?
Вот почему, вероятно, старые товарищи, жившие иной жизнью, забыли колючего отшельника, иногда путавшего культуру с роскошью.
Церковь была почти пуста. Принесли жиденький венок «от товарищей*, но товарищей почти не было налицо.
Гроб понесли по залам, где в то время была выставка. Публика с изумлением смотрела на торжественное шествие. Но художнику не везло даже после смерти. Администрация академии сначала почему-то не соглашалась позволить пронести гроб с останками своего бывшего воспитанника через главный вход, и был момент, когда он застрял в одном из поворотов узкой лестницы, ведущей на черный ход, в классы.
Впоследствии я слышала от Лидии Александровны подробности похорон на родине, возле Старой Ладоги. Приходилось перевозить тело через Волхов, а лед был еще тонок и кс мог бы выдержать тяжести лошадей. Крестьяне впряглись в дровни и с опасностью для жизни проводили своего художника в его последнее убежище. Провожавшие шли осторожно, вразброд, с палками.
Односельчане зарыли могилу и убрали ее сосновыми ветками. После смерти в бумагах покойного нашлись его автобиографические записки, которые он успел довести только до конца 1867 года; они были помещены на страницах «Голоса минувшего» (апрель — июль 1913 года). Товарищество передвижников, во главе с Репиным, который дал предисловие, поручило мне написать очерк, охватывающий дальнейшую жизнь художника, для того же «Голоса минувшего». Очерк был краткий.
