Памятные встречи — Ал. Алтаев
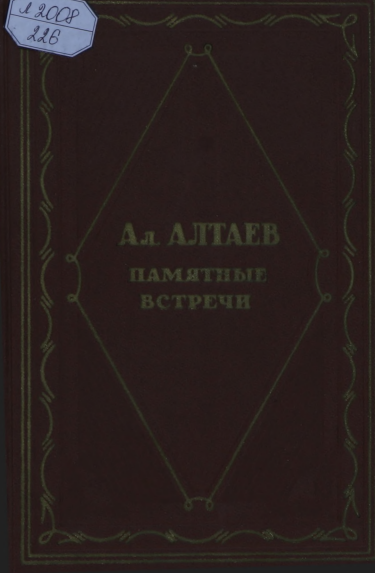
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 38
КАК РОС ХУДОЖНИК
Самовар весело шипит на столе с наваленными в беспорядке книгами, письменными и рисовальными принадлежностями, картонкой с воротничками и галстуками. Из вазы заманчиво выглядывают великолепные фрукты.
Николай Петрович доканчивает рисунок и рассказывает.
Сколько часов я провела уже за этим столом и как знаю здесь каждую вещицу! И как люблю рассказы художника! Но трезвая мысль ставит проклятые вопросы, и впечатление раздваивается.
Вот Богданов-Бельский говорит о деревне, и я вижу эти немудреные избы, вижу полянки с красными огоньками земляники и глубь лесную, слышу рожок пастуха... И вдруг глаза падают на картонки с галстуками и воротничками. Их так много! Их слишком много... И самых лучших фирм. Николай Петрович как-то проговорился, что отдает стирать белье в шикарный бельевой магазин французу Артюру, а я сказала с легкой насмешкой, что слышала, что княгиня Абамелек-Лазарева, портрет которой он недавно писал, отсылает стирать белье в Париж. И опять он заметил:
— Экая вы задира!
Он поставил рядом с чашкой дымящегося чая шкатулку с фотографиями. Здесь, средн светских дам и мужчин, он сам в безукоризненном фраке. Есть фотографии и его смоленского имения Татева, с его мастерской; есть фотографии деревенских друзей и его воспитателя Сергея Александровича Рачинского.
Мастерская огромная, обставленная, впрочем, довольно шаблонно. Оригинальностью является дверная арка в мавританском стиле.
— Что это?
— Это изделие нашего тульского самородка — крестьянина. Она была на выставке в Чикаго, а я ее купил для моей мастерской.
— А это? Почему?
Вопрос нелепый, и он краснеет. Он понимает, каким диссонансом для меня является его портрет в группе разряженных дам и военных, в центре которой старая императрица Мария Федоровна. У меня вырывается:
— Леонардо да Винчи — придворный художник.
— Среди своих заказчиков,— поправляет Богданов- Бельский.— Я тогда писал портрет государыни, и вы не можете себе представить, как я не люблю эти официальные портреты. Но я за них получаю очень большие деньги. Вот и приходится приезжать в Петербург, набирать заказы у богатых и знатных людей и, обеспечив себя, возвращаться в деревню работать над тем, что по сердцу.
— Но мне кажется, в ваши портреты вы тоже вносите много характерного.— говорю я.— Вот, например, портрет министра Воронцова-Дашкова. Вы показали эту самодовольную сытость богатого помещика, окруженного своими великолепно возделанными полями!
— Я совсем не собирался воплотить эту идею,— раздается голос художника.— Я очень хорошо отношусь к князю. Он прекрасный человек.
Я молчу...
— А над Леонардо вы не смейтесь. Я сейчас объясню. Леонардо меня прозвали не только потому, что я гну монеты и работаю кистью, но и потому, что я пою, у. меня приличный баритон...
Приличный! Это сказано скромно. У Николая Петровича прекрасный голос, он выступал на многих благотворительных концертах.
В это время раздается гулкий удар церковного колокола. Еще и еще... Звонят близко, в Казанском соборе. Вместе со свежим воздухом в чуть приоткрытую форточку врывается гул многих колоколов...
Сегодня канун благовещения; кончается всенощная.
— Я очень люблю этот вечер,— говорит Николаи Петрович.— Он мне напоминает детство, нашу простую церковь и простую жизнь.
И опять в глазах его появляется мягкое, ясное выражение.
— И пение церковное люблю. Я пел дома в церкви с деревенскими товарищами...
Колокол гудел. В окно смотрело бледное небо, и, закрыв глаза, можно было особенно ярко почувствовать мартовскую свежесть подтаявшего снега и близость весны.
Звон колокола будил в художнике воспоминания. Николай Петрович говорил тихим, задушевным голосом.
— Вы знаете мою историю? Я ведь — от земли. Отца не видал: я незаконнорожденный сын бедной^бобылки, оттого Богданов, а Бельским стал от имени уезда. Был пастушонком, и не очень-то меня баловала жизнь. 1 олько и видел радости — у бабки. Славная старушка, сказочница. Приласкает, небылиц наговорит всяких, присказок, сколько песен споет! У нее и выплачешься вволю. На дорогу меня вывел вот он,— художник указал на бритое лицо старика на одной из фотографий,— Рачинский. Удивительный человек, учитель жизни. Я всем, всем ему обязан.
Он задумался.
— У вас Рачинский фигурирует на картине,— сказала я, вспомнив «Воскресное чтение в школе».
— Да... Сергей Александрович — богатый человек, владелец большого поместья и в то же время ученый, профессор ботаники. Он заколотил часть дома и живет очень скромно. На свой счет выстроил школу и, отказавшись от кафедры, плотно засел в деревне, посвятив себя делу народного образования. Из таких, как я, бездомни- ков он собрал обитателей для своего общежития. Ведь многие ходили в его школу из дальних деревень, а это очень трудно, особенно в осеннюю и зимнюю стужу. И как же меняется сухое на первый взгляд лицо учителя, когда детвора окружает его со всех сторон и забрасывает вопросами: «Будем заниматься или станете рассказывать?», «Будем задачи решать?», «Мне дайте задачку!», «Мне упражнение на именованные числа!», «Мне деленьице!», «Мне на сотни!», «А мне на тысячи!» Глаза так и сияют у ребят, и у Сергея Александровича улыбка радостная, простодушная, совсем как у ребенка. Хоры устраивает; в теплице ведет беседы о растениях... Он — наша совесть. В его присутствии в деревне ни один из нас не решится на какой-нибудь дурной поступок. Мы, ученики, при нем очищаемся от наших пороков, мы становимся чистыми детьми...
Он говорил восторженно:
— Я всем ему обязан, и тем, что сделался художником. Маленьким мальчиком в школе я нарисовал на пробу нашу колокольню. А потом дьякона. Сказали: «И дьякон и колокольня совсем как настоящие». Тогда Сергей Александрович задумался, не следует ли меня учить специально живописи, и, после долгого размышления, тринадцатилетним мальчиком отдал в иконописную мастерскую при Троицко-Сергиевской лавре.
— В монастырь?
— В монастырь.
— Но зачем же непременно в монастырь?
— Сергей Александрович религиозен. И нас воспитал в религиозном духе. Он даже сам совершал с нами, школьниками, паломничество в Нилову пустынь, на озеро Селигер.
— На Селигер? — встрепенулась я.— Отлично знаю эти места. Там я жила два лета у тетки в имении Неприе, только в четырех верстах от монастыря.
— Знаю и Неприе. На берегу озера дом бордо, с заплетенными виноградом террасами, а в палисаднике — розы и пионы, такая масса, что, когда проезжаешь на пароходе мимо, издали чувствуешь аромат. Красота! Озеро — красиво, монастырь — красив. Белый-белый, над серебряной бескрайной гладью... И всюду островки зеленые, мурава бархатная... Я тогда уже был любимым учеником Рачинского, когда мы туда ездили. Учитель написал об этой поездке воспоминания, даже издал их. Они у меня есть,— да вот они, возьмите, если хотите, прочитайте. Эта поездка — как свежий сладкий сон.
Он протянул мне книгу. Я перелистала. Со страниц беспрестанно мелькало имя Николя.
— Кто это Николя?
— А это я. Он меня всегда так называет.
— А что же было дальше, Николай Петрович?
— Дальше мой путь? Думаете, я прямо от Троицы да на выставку попал? — засмеялся художник.— Дело было сложнее, гораздо сложнее. В монастыре я писал иконы, но писал и портреты монахов. По два рубля платили. И стали меня расхваливать. Говорят — талант. Ну, тогда Сергей Александрович опять задумался: нельзя же оставить меня богомазом, если я талант. И поместил меня в Школу живописи и ваяния в Москве.
Он разговорился; слова лились плавно, легко, свободно, точно он хотел во что бы то ни стало высказаться-
— Вы небось удивляетесь, что я так все сразу вам и выкладываю? Ах, голубчик, это потому, что мне очень просто с вами. Я вам сейчас расскажу и то, как я сделался художником деревенской бедноты, художником школьной бедноты. Ведь я должен был стать или маринистом, или пейзажистом. К тому шел. А в душе было что-то другое.
Он замолчал, точно заглядывая в глубь прошлого.
— За свои наброски я получал в школе первые номера, что означало большой успех. Но я думал, что все это не то, не то... Глядя на свои этюды русской природы, которыми кругом восхищались, я думал, что в них нет главного — души. И мне казалось, что я еще не нашел своей настоящей дороги. Уныло смотрел я на подрамники с начатыми работами. Случалось, мне говорили, что часто сам художник не может быть судьей своих произведений. Некоторые пейзажисты высказывались так: «Чего стоит жизнь кучки людей перед могучей жизнью природы?»

С картины М. П. Богданова-Бельского. Масло.
Наступили последние месяцы моего пребывания в школе. Товарищи спрашивали: «Что ты готовишь для окончания?» А я отвечал всегда одно и то же: «Не знаю». Они думали, что я рисуюсь, а я говорил правду. В моей голове не родилось ничего значительного. Я решительно не знал, что напишу. В душе все время звучал назойливый голос: «Все это не то... все не то... во всем, созданном мной, нет души». Меня тянуло в деревню. Мне казалось, там я напишу что-то значительное, нужное. И я уехал... Учитель встретил меня радостно; родная деревня, приветливая, своя, казалось, согрела мне сердце, но темы я не нащел. Я смотрел на природу, на людей, а темы не было. Тот же звон детских голосов в школе, то же кипенье, что в пчелином улье: «Мне, Сергей Александрович, задачу на деленьице!», «Мне на умножение!» Я смотрел в оживленные детские лица, в задумчивое лицо учителя, а темы не находил. Рачинский понял мое состояние со свойственной ему чуткостью. И раз сказал: «А ну, попробуем». Он и натолкнул меня тогда на тему «Будущий инок». Это было такое знакомое, такое близкое... Странники с их рассказами о далеких селах и городах постоянно заходят в крестьянские избы на ночлег и рассказывают без конца. Сам я не раз заслушивался этих рассказов. А проникновенность выражения мальчика была такой естественной... Есть у нас этакие мальчики-мечтатели. Я и сам был таким. И учитель помог во всем — в обстановке, в выборе натуры. Как я стал работать! Как страстно стал работать! В душе воскресало все, чем я жил долгие годы детства и отрочества в деревне, что было для меня необходимо. Перед концом работы у меня сделался даже обморок...
Он помолчал, вспоминая:
— Когда деревенские друзья мои увидели картину, похвалам не было конца. И учитель смотрел именинником. Еще бы, картина была обязана своим появлением всецело ему. Но я приуныл. Как вернуться с жанровой картиной в школу? Как выставить жанр, когда от меня ждут пейзажа? И сразу картина поблекла, потускнела в моих глазах. Я ничего не сказал Сергею Александровичу, когда собрался ехать, уложив тщательно упакованного «Будущего инока» в сани; лошадь тронула, и я в последний раз увидел дорогое лицо учителя, кивавшего мне с подъезда на прощанье: «Счастливый путь, Николя!» А я думал о несчастном пути. Я думал, как было бы хорошо, если бы картина погибла. Разве не бывает случайностей? Дорогой сани могут налететь на что-нибудь, и холст разорвется; вынимая из саней картину, можно повредить иначе; наконец, в вагоне ее могут украсть, или может случиться еще что-нибудь невероятное в этом роде... И, как бы угадывая мои мысли, картина выпрыгнула из саней и осталась на дороге.
— Выпрыгнула?—засмеялась я.
Он тоже засмеялся.
— Именно выпрыгнула. Кто ее знает, как она выпала из саней. Одним словом, мы ее потеряли, и пришлось возвращаться довольно далеко. И все-таки нашли и благополучно доставили на место. Ну и началась в школе кутерьма! Ну и было и удивление и возмущение! Но все- таки картину я выставил. Ее купили; мне тут же заказали два повторения... Картину вы знаете. Ох, и заболтался же я... А сделать — ничего не сделал. Знаете, мне, по правде сказать, легче было бы написать ваш портрет, чем делать эти рисунки. Не умею я иллюстрировать. Никогда ничего не иллюстрировал. Вы сказали, что моя картинка «За книжкой» по типу подходит к вашему рассказу «Фигурка»; ну, я добросовестно и ходил для вас на передвижную выставку, пока не было публики, и рисовал с нее карандашом. Честное слово, для вас вставал в семь часов... А вот когда вы мне принесли снимок из «Нивы», где я должен срисовать своего же мальчика в сенном сарае за слушанием сказок,— это уж, извините, сложнее. Беда в том, что я не умею рисовать без натуры, не могу ничего создать на память, и это мне мучительно. Посудите сами: в сарае мельник сидит, подавшись вперед. Поза естественная, когда прислушивается. А к тексту это не идет. Выходит какой-то горбатый... Нужно оправдать обстановкой, а где я ее возьму? По вашему заказу позади я сделал пень, а кругом — траву, и посмотрите, какая дрянь получилась. Я сейчас разорву...
Он сделал движение, чтобы разорвать рисунок. Я вскочила.
— Николаи Петрович, что вы делаете? Прошу вас!
Он засмеялся.
— Хорошо. Я потратил на этот рисунок весь вечер, но раз дело дошло до таких огорчений, я не разорву его, хотя с условием, что в печать он не пойдет и останется у вас на память.
Я взяла рисунок. Я благодарила.
Часы пробили два раза. Два часа ночи! Это с семи часов до двух мы просидели, и я не заметила времени.
— Прощайте, спасибо. Как поздно!
— Я провожу вас. /
— Не надо, пожалуйста, не надо, у подъезда — извозчики. Пожалуйста... не надо!
Я рассказала об этом вечере Максимову.
Максимов говорил:
— Так-то лучше, когда окунешься в воспоминания о деревне. Чище будешь. Художник он талантливый, что говорить, а человек... слабый. Как он забывает хорошую русскую пословицу: «Не в свои сани не садись». А то — императрица, а то — придворные дамы, а то — галстуки и фраки! Я знаю доподлинно: он купил себе книгу «хорошего тона», изучал ее и по ней учился танцевать и шаркать в гостиных.
