Памятные встречи — Ал. Алтаев
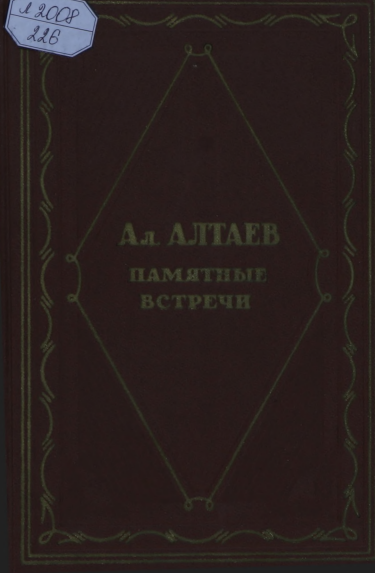
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 40
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
Рассказывать дальше трудно. Жизнь надломила меня. Я смертельно устала и от борьбы и от терпения. И, вспоминая слова любимого романса Богданова-Бельского, чувствовала, что не могу и не хочу совершать подвиги терпения.
Я заболела тяжело и мучительно, заболела нервно сразу после похорон отца, потом уехала отдохнуть на Волгу, а когда осенью вернулась, Николая Петровича уже не было в Петербурге.
Встреча с ним дала толчок написать повесть для юношества «От земли», в которой под именем художника Николая Бобыльского или «Бобылька» я вывела Богданова-Бельского.
Мы не виделись несколько лет. Я слышала, что он женился, был очень несчастлив и разошелся с женой, и вспоминала невольно, как он, смеясь, говаривал:
— Знаете, я сегодня видел ужасный сон — будто я женился...
«Ужасный» сон сбылся наяву...
На выставках появлялись полотна Богданова-Бельского, и я без волнения не могла на них смотреть, не могла не желать ему горячо успеха. Впрочем, меня не удовлетворяли его работы. Мне казалось, что он не оправдал надежд, что он утратил свежесть ранних своих картин, что он повторяется, впадает в шаблон.
Потом тематика резко переменилась: появились «профили», «спинки», обнаженные женские фигуры...
В последний раз я видела Николая Петровича приблизительно в 1908—1910 годах. Мне хотелось дать заработок одной нуждающейся женщине, у которой, на мой взгляд, было интересное лицо. Я написала Богданову- Бельскому, прося меня принять.
Он сейчас же откликнулся. Записка ко мне была на великолепной английской бумаге с шероховатыми краями.
Не помню точно, где он жил: что-то в районе Кироч ной, Захарьевской, Сергиевской — в одном из аристократических кварталов.
Изящная горничная провела меня в мастерскую-кабинет. Полотна на стенах, на мольбертах. Много «спинок». Этюды. Прекрасная, комфортабельная комната. На письменном столе, возле которого я сидела, набросано много почтовой бумаги с начатыми заголовками писем. Знакомый размашистый почерк. Письма были ко мне: бросилось в глаза мое имя. Очевидно, он не знал, как начать, как выразить свою мысль, начинал и не кончал. Он вообще плохо владел пером.
Вышел ко мне Николай Петрович сильно постаревший, обрюзгший, с усталым лицом человека, которому надоела жизнь. Пригласил меня в столовую.
Столовая в русском стиле, всюду резьба. Претенциозно и неоригинально. Подали чай. Изящный сервиз, изящные салфеточки. Невольно вспомнилась большая квадратная комната — «меблирушка» на Невском проспекте и разнокалиберная чайная посуда, принесенная неряшливым коридорным.
Поговорили о деле, которое привело меня к нему. Он взял адрес натуры и обещал использовать ее для будущей работы. У него как будто намечалась картина, где нужна такая модель.
Художник вежливо спросил меня о моей жизни, о занятиях. Я спросила с интересом о Татеве.
— Ах, я туда больше почти не езжу,— отвечал он кисло и, чуть помолчав: — Вы знаете, в меня стреляли крестьяне.
— В вас?
— В меня. В окно. Это было после девятого января...
— Почему же в вас стреляли?
— Аграрные беспорядки. Конечно, не свои стреляли, а чужие, из чужих деревень. Чужие приходили к нам, наши шли в чужие уезды. Так ведь было во многих местах.
Я больше не спрашивала. Мне больше не о чем было спрашивать...
КЛОДТОВСКИЕ ЧЕТВЕРГИ
— А не разберем ли мы вместе с вами архив отца? — обратился ко мне раз художник Михаил Петрович Клодт.
— Я мечтала об этом, только... какой же я архивный работник?
— Такой же, как и я,— с комическим вздохом отозвался Клодт,— а сделать это надо. Отец мой все же величина приметная.
Он стоял передо мной, маленький, с седой головой и красивым лицом маркиза. Пиджак был снят; два пальца засунуты за проймы жилета; грудь неровно поднималась. Он только что кончил смешной «чухонский» танец.
— Правду, Васенька, я говорю, а?
— Правду, Мишенька... Райвола, Териоки, Муста- мяки, юмалака, ака, ака. ака... стоп!—бормотал бессвязно именинник Василий Максимович Максимов.
Это были знакомые бессмысленные якобы финские слова, перемешанные с названиями станций Финляндской железной дороги. Максимов порядочно-таки нагрузился. На столе в беспорядке стояли тарелки с остатками закусок, в стаканах золотилось недопитое пиво.
— Перкярви, юкки, ярви, ярви... стоп! Дай, Мишенька, я тебя поцелую! Все гости удрали, один ты остался дольше всех! Ты—верный друг, а что ты хо чешь мою «третью дочку» Маргариту приблизить к хорошему делу, одобряю и благословляю!
И Максимов снова полез к Клодту целоваться. Кудрявая, чуть тронутая сединой русая шевелюра Максимова отбрасывала огромную тень на белые обои бедно обставленной комнаты. Максимов сделал широкий жест рукой и немного пафосно докончил:
— Я тебя, Миша, ценю. Ты не то, что все эти модные художники, а я не научился набивать себе цену и выгодно продавать данное мне от природы мужицкое дарование. Ты вот видишь все мое этакое... сермяжное, а сам живешь в чудесной квартире и не брезгаешь есть из наших облезлых тарелок...
— Перестань, Василий Максимович, прибедняться,— с дрожью в голосе остановила художника жена.— Кто тебя не признает? Откуда ты это взял?
Клодт обернулся ко мне:
— Так по рукам?
Я протянула ему руку.
— Вам удобны четверги? Вечерами по четвергам я свободен; приходите ко мне в эти дни... вот адрес...
Михаил Петрович много лет уже жил на Васильевском острове в нижнем этаже солидного дома Елисеева и занимал большую квартиру с окнами на набережную Невки. Меня с ним разделял почти только один Тучков мост.
В первый же четверг я была у Клодта. Открыла мне старушка прислуга и проводила в кабинет Михаила Петровича.
Квартира была комфортабельная, но несколько мрачная, обставленная старинной мебелью. Со стен смотрели полотна исторических картин Клодта, как я потом поняла, не нашедшие подходящего покупателя, и рамки всевозможных форматов с рисунками, фотографиями, акварелями; множество силуэтов. От всей обстановки веяло далеким прошлым.
Послышалось шлепанье туфель, и в дверях показалась знакомая фигура с острой французской седеющей бородкой, в старенькой опрятной куртке.
— Ишь какая аккуратная,— сказал он с улыбкой, приветливо протягивая мне руку.— Вижу, и папочку с бумагой принесли, а карандаши не доставайте: у меня найдутся, и в изрядном количестве, к тому же хорошо очиненные,— ваш же крестный отец, а мой учитель рисования, готовивший меня в академию, Агин, научил артистически их чинить. Располагайтесь, как вам удобнее, и будем беседовать. Осматриваете обиталище одинокого вдовца? Пустынно и просторно, слишком просторно для одного. Хожу из комнаты в комнату и прислушиваюсь к своим шагам. Навещают, впрочем, иногда друзья и сын с дочкой, а больше все один со своей старухой,— тишина и скука. Неизменны только старые товарищи труда и досуга — все эти вещи. Каждая имеет свою памятку, свою историю и дорога мне потому, что, взглянув на нее, я сразу переношусь за много, много лет назад, когда в этих комнатах кипела молодая жизнь и звенел смех, когда дочка весело вальсировала на наших доморощенных вечерах и я советовался с женой о ее будущем... И еще раньше, когда она и сын малышами требовали от меня веселых картинок и разбрасывали по всем столам свои игрушки... Ах, все это давно уплыло! А теперь вот принимаемся за еще более старое прошлое, всколыхнем жизнь отца, которому сейчас было бы около ста лет,— ведь он родился в тысяча восемьсот пятом году...
Художник открывал один за другим ящики старого темного бюро и вытаскивал пожелтевшие бумаги, письма, клочки исписанной бумаги с поблекшими строками, наброски пером и карандашом, силуэты людей, еще чаще силуэты лошадей; на колени Клодту упал небольшой альбом в переплете, в нем мелькнули акварели. А со стены на меня смотрел карандашный рисунок — мужское лицо с густыми, как у Михаила Петровича, бровями, но некрасивое, хотя симпатичное и выразительное, с растрепанными короткими волосами ежиком и большими темными глазами. Человек этот был одет весьма небрежно в белую рубашку и жилетку.
— Вот мой отец,—сказал Михаил Петрович —Он никогда не был щеголем и всегда ходил дома в этакой жилетке, проклиная судьбу, когда приходилось одеваться, как подобает «персоне». Такая неказистость или скром ность — назовите, как хотите,— была причиной многих курьезных случаев с отцом, из которых мне вспоминаются сейчас два.
Он помолчал, задумчиво глядя на портрет, и продолжал с мягкой улыбкой:
— Не помню, в каком это году случилось, но отец тогда был уже известным скульптором и имел всякие знаки отличия. Другой был бы преисполнен невесть какой важности, только не он. Он так же скромно одевался и часто носил куртки с заплатами на локтях, стол имел такой же простой и ходил со мной в такие бани, где бывали люди самого среднего достатка. Раз, помню, мы встретили в раздевальной этой бани двух мелких чиновников, оживленно разговаривавших о «знаменитом скульпторе Клодте». Один с апломбом говорил другому: «Знаю я, хорошо знаю этого самого барона — очень важная, представительная особа, действительный статский советник, работает в своей мастерской всегда при всех орденах и в вицмундире». Отец и глазом не моргнул, только тихонько подталкивал меня, а я давился от смеха,— ведь эти чиновники не хотели даже подвинуться, чтобы дать место, и отец скромно одевался, сидя на краешке скамейки.
