Памятные встречи — Ал. Алтаев
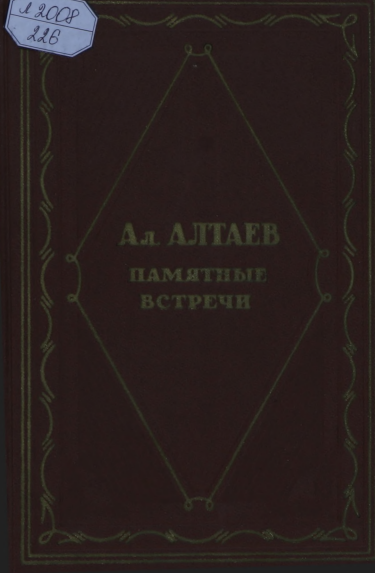
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 42
И ОКРУЖАЮТ ЧУДАКИ
— Ну, я рад, поработаем!
И Михаил Петрович пододвинул мне стул к столу, накотором уже лежали в порядке великолепно очиненные карандаши.
— Сегодня перед вашим приходом я припоминал в детстве отца, по его рассказам, и о том, почему он сделался как бы «специалистом» по лепке лошадей, и как к чудаку отцу подобрались чудаки приятели, начиная с Агина, который предпочитал голодать, только бы «не торговать искусством», как он говаривал, и спокойно обходился вдвоем с братом одним костюмом. Об Агине подробно я вам, может быть, расскажу позднее, а сейчас давайте погрузимся в дебри старого-старого прошлого, в дни моего детства...
Он задумался; лицо его приняло особенно мягкое выражение и сразу помолодело.
— Сначала о лошадях. Кто первый, как не дед, вдунул в отца моего, будущего творца знаменитых групп Аничкова моста, эту страстную любовь, а впоследствии и мастерство в изображении лошадей? Карл Федорович не признавал готовых игрушек и, стремясь развить в детях самодеятельность, давал трем сыновьям — Владимиру, Константину, а также и отцу карандаши, клей, ножницы, краски, давал воск и глину,— делайте, дескать, себе сами забаву. Дед недурно рисовал и очень хорошо вырезывал силуэты, часто этим забавляя детей. Отец рассказывал, что дед из турецкого похода посылал в письмах к бабушке для своих детей вырезанных из игральных карт лошадок в разных позах, и отец, тогда еще крошечный мальчик, заметил, как бабушка радуется, получая эти письма... Вот тут-то и была, очевидно, заложена первая искра любви к лошади: ребенок стал думать, что радость, удовольствие, счастье — все это олицетворяется лошадкой. А потом, когда дед вернулся, пошли разные самодельные картонные игрушки, и первое место среди них занимала, конечно, лошадь.
— Отец рано осиротел,— продолжал Михаил Петрович после маленькой паузы,— ему едва ли минуло семнадцать лет. Дед умер почти скоропостижно, скошенный оскорблением жестокого и грубого начальника, и бабушка, оставшись без всяких средств, поместила трех сыновей в Петербургское артиллерийское училище. Отец через три года кончил его, выйдя прапорщиком. Это доказывает, каким захудалым бароном был дед. Если бы у бабушки было положение, наверное чины посыпались бы на ее детей, как из рога изобилия. Тогда дворянским детям часто давали чины еще в колыбели, и знаменитый наш меЗаметив улыбку на моем лице, художник сказал:
— Не удивляйтесь. Почитайте побольше мемуаров — не то еще узнаете. Выплывет столько курьезов, а часто и нелепостей быта... Чего стоят обычаи во время моего детства, бог ты мой! Отец был от природы веселый человек, как и дядя Владимир. Они поселились вместе на Выборгской стороне, в жалкой квартире, окна которой находились почти на одном уровне с тротуаром. Денег не хватало на покупку занавесей,— невелико жалованье артиллерийского офицера,— и окна приходилось от нескромных взглядов прохожих закрывать бумагой. Юмористическая жилка и природное дарование подсказали братьям изобразить на бумаге всевозможные карикатуры, и нередко прохожие, останавливаясь, узнавали в смелом шарже себя или своих соседей.
— Вашего отца увлекала военная карьера? — спросила я.
— Какое там! Он гораздо больше, чем муштровкой солдат и военными чертежами, увлекался другим: карандаш и перо чертили ему фигуры людей и животных. Доставая то тут, то там куски дерева, он с увлечением резал из них фигуры, первое место между которыми отводил, конечно, любимой лошади. Недолго ему пришлось носить офицерский мундир; непобедимое искусство тянуло, как всесильный магнит, и года через полтора он вышел в отставку, впрочем, еще раньше поступив в академию, как когда-то и Федор Петрович Толстой.
— И что же, сразу заметили его дарование?
Михаил Петрович весело меня перебил:
— Какое там сразу! Сразу-то голодовка, нужда, черный хлеб и селедки; тесная, убогая квартира на углу Академического переулка и Пятой линии, в доме Шпанского. Но какая бешеная, какая вдохновенная работа и какое всегда веселое, довольное настроение! Вам не приходилось читать записки Николая Ивановича Греча?
— Нет. А чем они замечательны?
— Греч — двоюродный брат моего отца, по бабушке. Он рассказывает, что нередко видел, как отец в те поры нужды рисовал с натуры лошадей. Введет к себе в тесную квартиру лошадь, поставит, а самому уже негде поместиться; сядет, съежившись, у ее задних ног и рисует или режет из липового дерева, не боясь, что она его лягнет.
— Он не только был чудак, но и смелый чудак, Михаил Петрович!
Клодт рассмеялся.
— Чудачество — впереди. Чудачество и простота были в нем и во всем, что его окружало. И я вырос среди всяких чудачеств и удивительной простоты.
— Самовар на столе,— раздался обычный призыв домоправительницы.
После чая Михаил Петрович продолжал, будто остановился на точке с запятой:
— Академия художеств тогда была битком набита всякими оригиналами из художественной братии. Тот же Федор Петрович Толстой чего стоит: граф, знаменитость, известный при дворе, вице-президент академии, а не угодно ли, по доброте своей, на глазах у всех, помогает простой бабе, старухе прачке, втаскивать в гору салазки с бельем во время гололедицы. И отец был прост и истинно любил труд. Кроме лепки, он занимался ручным трудом и еще в артиллерийском училище изучал несколько ремесел, а любя лошадей, научился чинить и сбрую. С юности он не выносил сидеть сложа руки, вечно что-нибудь ковырял, ан смотришь — и разные вещи или починены, или сделаны им заново. И подругу жизни себе он подобрал, мою мать, не только по сердцу, но и подходящую по нраву и тоже из чудаческой среды. Она была не так красива, как миловидна и грациозна, и главное — в ней был неиссякаемый источник жизнерадостности и веселья. Она жила в семье знаменитого тогда художника Ивана Петровича Мартоса, который приходился ей дядей, и воспитывалась с его дочерью Екатериной Ивановной. Обе были молоденькие хохотушки и неистощимые выдумщицы всяких проказ.
По лицу Клодта промелькнула задумчивая улыбка.
— Тот, кто захочет описывать среду художника этой эпохи, должен изобразить академию, нашу «альма матер», как действительно общую мать, как гнездо, вмещающее в себе людей особой касты, да еще вдобавок между собою перероднившихся. В самом деле, в академии почти все между собою перероднились. Взять бы хотя Мартосов. Старшие дочери Ивана Петровича от первого брака были замужем — одна за секретарем академии Григоровичем, другая — за известным в то время художником и профессором Егоровым. В наше, уже новое время,— продолжал с усмешкой Клодт,— покажутся, вероятно, большинству умников нелепыми наивные развлечения тогдашней академической молодежи: эти ретивые танцы до того, что протирали в один вечер подошвы; эти немудреные угощения во время так называемых званых вечеров, балов, всяких именин и праздников, когда у ректора академии подавали на балу угощение, которое теперь впору, пожалуй, только у наших академических сторожей... А туалеты дам? Господи, простенький тарлатан заменял нынешние драгоценные заграничные ткани... Академия веселилась просто и от души: ставили живые картины, спектакли; ученики изображали шиллеровских героев: не только Фердинанда из «Коварства и любви», но и нежную Луизу Миллер, с ролью которой отлично справлялся женственный и красивый Ставассер... Ученики поднимали кутерьму с маскарадами, и мать моя, живая хохотушка Иулиания Ивановна Спиридонова, общая любимица, была, что называется, «заводиловкой» во всяких проказах...
Громкий звонок прервал рассказ художника.
— Моя домоправительница уже спит спозаранку,— сказал Клодт, поднимаясь.— Кого это бог дает? Уже почти десять часов. Пойду отворить. Держу пари, что это дочка.
Он зашлепал туфлями в переднюю. Послышался торопливый звонкий разговор, смех, и в кабинет впорхнула маленькая изящная фигурка, распространяя вокруг себя аромат духов; мелькнуло что-то пышное: боа из белого песца, какая-то фантастическая шляпка с массой перьев и ротонда из серебристого бархата; мелькнуло смеющееся личико с мелкими чертами, что-то нежное, капризное, неуловимое и ребячливое, и птичий голосок прощебетал:
— Ах, папочка, мне некогда... некогда... Я так рада, что застала тебя дома! Совсем забыла, что сегодня четверг и ты работаешь над воспоминаниями. Я удрала из оперы до конца... Скука. Неудачный состав. Они поют, а я думаю о портнихе... Не разденусь: некогда.
— Сумасшедшая Лялечка! — ласково смеялся художник.
— Как всегда, сумасшедшая и, как всегда, уверенная, что папочка выручит ее из беды.
Она бросилась целовать отца.
— Ну, ну, догадался? Завтра утром придет портниха со счетом. Я видела в мастерской почти готовый туалет, это — мечта. Мне жаль, что ты не поехал со мной,— ты бы внес что-нибудь этакое... художественное, и было бы еще лучше... А, папка?
Клодт с комически сконфуженным видом вздохнул и, вскинув исподлобья на дочь глаза, спросил:
— Сколько?
Она шепнула ему что-то на ухо и засмеялась.
— Я дам, но боюсь, если ты скоро еще попросишь, у меня не будет... Воздержись хоть капельку, Лялька.
— Непременно постараюсь, уважаемый папка,— вытянулась почтительно Лялечка.— И я помню, как говорят: что я — отрезанный ломоть, замужняя женщина, а ты становишься у меня старенький... Но у мужа, ей- богу, не хватает денег меня баловать, а ты любишь баловать свою Ляльку, и ты еще не слишком старенький... ты — просто прелесть... ты у нас — маркиз Карабас.
Под это чириканье Клодт рылся в ящике бюро и доставал деньги. Дочь стала душить его поцелуями:
— Спасибо, спасибо... ты мой спаситель!
Потом обернулась ко мне:
— Простите, бога ради, что я невежлива... не познакомилась... Но у меня голова идет кругом...— И протянула мне руку.— Ухожу... Простите, что помешала...
Когда она упорхнула и Клодт, закрыв за нею дверь, вернулся, он сказал умиленно-виноватым тоном:
— Ничего не поделаешь... А все-таки взяла и помешала... И уже порядочно поздно... Вы, пожалуй, заторопитесь домой. Но я все же расскажу вам о матери, об ее простоте и, по теперешним понятиям, о чудачестве. Видели вы мою Ляльку? Хорошенькая птичка, но как колибри... Драгоценные камни, и золото, и перья, французские цветы... Все это было бы чуждо тогда, прежде...
Он опять прищурился, вглядываясь в темный угол комнаты, как будто видел там образы прошлого.
— Когда отец в сороковых годах на окраине нарядного Павловска жил на даче, мать, соблюдая экономию и желая приодеться к лицу, изловчалась каждый день иметь новый туалет, который ей ничего не стоил: она собирала в палисаднике и поле цветы, искусно плела из них гирлянды и украшала ими как свою шляпку, так и платье самыми прихотливыми сочетаниями. Она сама делала модный кринолин и в таком виде, вообразите, отправлялась на знаменитые павловские гулянья, вызывая всеобщее восхищение. А в «русские имениныэ отца — потому что он, будучи лютеранином, всегда справлял свои именины двадцать девятого июня — на Петра и Павла — она сама устраивала иллюминацию, клеила фонарики, добывала шкалики с салом и фантастически убирала сад. Мои родители как нельзя более подходили друг к другу: он изобрел разные поделки для каретного сарая, для сбруи, возился с плотниками, столярами и кузнецами, сам ретиво работая долотом, стамеской, молотком и шилом, и обогащал хозяйство самыми оригинальными... иногда забавными предметами; она вводила новшества в домашней обстановке, в костюме и делала необычайные блюда во время семейных торжеств. Но об отцовских талантах и чудачествах вне искусства я расскажу в следующий раз; теперь буду торопиться и все смажу.
Я было начала складывать листочки с записями в папку, но художник остановил меня движением руки.
— Погодите минутку. Мне хочется рассказать только, как отец женился, и это вам даст ясное представление о простоте, наивности и... чудачестве той среды, в которой он вращался. Я вам уже говорил о Федоре Петровиче Толстом. Он женился по любви, и жена его обладала художественным талантом. Она была под пару этому замечательному человеку и прожила с ним всю жизнь душа в душу, как и моя мать с отцом. Об обстановке квартиры Толстых говорил весь Петербург, который славился пышностью дворцов своих магнатов. А Федор Петрович был беден и, кроме жалованья и заработка своей лепкой, ничего не имел. Но по его художественным рисункам столяр

С портрета работы Ф. Горецкого.
делал необыкновенно изящную мебель античных форм, а жена украшала ее художественными вышивками. Вкус, художественность побеждали богатство.
Михаил Петрович порылся в шкатулке, что-то отыскивая, и не нашел.
— У меня где-то был рисунок спальни Толстых с древней амфорой и античными занавесями художественной кровати. И все это стоило им гроши... Когда-нибудь найду и покажу... Эх, увлекся Толстыми... Представьте себе жизнь моего отца и матери. Представьте важного, знаменитого Мартоса, всесильного ректора, и его воспитанницу-племянницу, почти дочь. Отец рассказывал, какой курьезной простотой была обставлена его свадьба. Он шел со своим шафером в церковь пешком и, вероятно, был очень не по-свадебному одет, потому что церковный сторож долго не соглашался его впускать в церковь, не веря, что он жених. Отец привык к нужде и не придавал ей большого значения, а на следующий день был огорчен грустным видом молодой жены, потому что в новом хозяйстве не оказалось ни чая, ни сахара, ни кофе и ни копейки денег. Иулиания Ивановна один за другим выдвигала ящики комода, и вдруг из белья выпал двугривенный, а за ним посыпались и рубли. Правда, не слишком много было этих серебряных рублей, но находка, результат обычая седой старины — класть тайно деньги в белье невесты,— доставила немало радости не избалованным жизнью молодым. А дальше — новая неожиданность: в то же утро явился из дворца курьер с приглашением от Николая Первого прибыть в манеж для осмотра привезенных из Англии лошадей, знаменитых Мидльтона и Адмирала. Тогда же вскоре отец получил заказ на первую свою замечательную работу — шесть лошадей из глины к торжественной колеснице, украшающей триумфальные Нарвские ворота, а вскоре и две конные статуи для Зимнего дворца.
Часы в столовой пробили двенадцать.
Я вскочила. Поздний час вызвал в воображении: предстоящее мне долгое ожидание у запертых ворот на трескучем морозе и, наконец, сонное бормотанье, звон отодвигаемого засова и неуклюжая медведеобразная фигура дворника.
У Клодта был сконфуженный вид.
— Эх, задержал я вас сегодня... уж простите! До следующего четверга, не правда ли?
ПО ДУШАМ
Старые просвирни говаривали:
— Хорошо попарить душеньку чайком.
Сказочник Кот Мурлыка (профессор Вагнер) придумал сказку «Майор и сверчок». Русское купечество могло выпивать полегонечку целые самовары за душещипательными разговорами, не забывая, впрочем, и о коммерции.
Мы тоже сидели с Михаилом Петровичем за традиционным самоваром, и я видела по лицу его, с размягченным, мечтательно-взволнованным выражением, что ему не по себе, что его гнетет какая-то неотвязная мысль, но я не решилась расспрашивать.
Открыв тетрадь, в которую я переписывала его воспоминания с беспорядочных листков, я начала читать, чтобы проверить:
— «Когда первая конная статуя для Зимнего дворца была вылеплена, случилось событие, сыгравшее громадную роль в жизни отца и определившее одну из специальностей, сделавшую его незаменимым для академии. В то время при академии была литейная, которой заведовал литейщик Екимов. Екимов готовил ангелов для купола Исаакиевского собора и в самый разгар работы умер. Ангелы остались неотлитыми. Совет академии был в большом затруднении, не зная, кому поручить эту работу. Мой отец изучал литейное дело еще на службе в артиллерии. Он предложил окончить работу Екимова и благополучно отлил ангелов».
— Все правильно. Давайте дальше,— сказал Михаил Петрович.
Я продолжала:
— «Николай Первый заказал академической литейной отлить из бронзы и конную статую для Зимнего дворца, но по случаю смерти Екимова эту работу должны были выполнить в другом месте и другим способом. Предстояло отдать конную статую на иностранные заводы... Дорожа своим произведением и предпочитая академический способ отливки другим, отец просил, чтобы ему было позволено самому, как бывшему артиллеристу, отлить из бронзы статую. Когда в тысяча восемьсот тридцать восьмом году отливка увенчалась полным успехом, ему поручили заведовать литейной академии».
Я видела, что художник слушает необычно рассеянно, переспрашивая. Его что-то, видимо, тяготило. Я остановилась. Он сначала не заметил, потом спохватился:
— Что же вы? Дальше...
— У вас такой утомленный вид. Вам, может быть, нездоровится?
— Нисколько. Я совершенно здоров. Почему вы думаете, что я болен? И я совсем не утомлен. Разве работа в Эрмитаже так утомительна? У меня есть прекрасный реставратор Богословский, которому можно поручить реставрировать все наши сокровища. Работы бывает много тогда, когда, по высочайшему повелению, в Эрмитаже устраиваются балы и спектакли.
— Почему?
— Да это же безбожное варварство по отношению к музею. Только... тсс... чтобы как-нибудь не дошло до ушей, которые любят собирать мнения о высочайших особах и высочайших повелениях.
— В чем же дело, Михаил Петрович?
— А в том, что музей превращают в клоаку; в том. что искусство приносится в жертву лукуллову пиру, выставке туалетов и интригам... Посмотрели бы вы, во что превращаются наши залы после этих знаменитых балов- спектаклей! Страшно вымолвить: бывали случаи, когда даже полотна картин портили, и их надо было тщательно реставрировать, как и стены с росписью, которые бесцеремонно задевали, пронося столы, декорации, мебель; дорогой, редкий паркет заливали соусом и маслом... А знаете, каким способом производится реставрация?
— Нет. Да разве это так сложно?
— Способ остроумный и совсем особенный. Говоря грубо, на испорченную картину реставратор наклеивает новый холст и, перевернув, бережно, осторожно соскабливает старый, как бы оставляя краску «наизнанку», выражаясь фигурально. После этого вместо старого холста наклеивают новый и опять переворачивают, чтобы совершить последнюю манипуляцию — соскоблить ранее наклеенный «на лицо» картины новый холст, и тогда краскн остаются нетронутыми, кисть старого мастера сохранена в девственной неприкосновенности. Что, любопытно?
— Поразительно! — с восхищением вырвалось у меня.
Клодт подвинул свою чашку, прося налить еще, вздохнул и задумался.
— Сегодня вы пришли поздненько и скоро уйдете,— сказал он печально.
— Сегодня праздник, и я даже колебалась идти — думала, мы не будем заниматься.
— Но сегодня все-таки четверг. Не оправдывайтесь, пожалуйста. Не все ли равно, праздник или будни? И не обижайтесь: мне хочется на вас по-стариковски поворчать. Значит, я ждал вас и досадовал...
— У вас очень минорный тон, Михаил Петрович.
Он опять вздохнул.
— Я очень одинок, дорогая моя. очень одинок.
— У вас скверный, утомленный вид.
Он беспокойно вскинулся:
— Что? Что? Очень древний, вы хотите сказать? Дряхлый старик, вы хотите сказать?
Я улыбнулась.
— Да нет же...
— Как вы думаете, сколько мне лет? Седьмой десяток... почти семьдесят.
— На вид гораздо меньше. И такая красивая, живописная голова. Актерам следовало бы взять вас для грима: под вас гримироваться для пьес «Ришелье» или «Адриенна Лекуврер» и даже для герцога Гиза в «Гугенотах».
— Так, так... А вид у меня этакий потому, что я одинок и... признаюсь вам. как другу: влюблен.
Я с любопытством ждала разъяснения. Он как-то неестественно, очевидно от конфуза, засмеялся.
— Не верите? Конечно, одиночество подвинуло... разожгло чувство... Вот сидишь этак в большой квартире, где столько пережито, где была настоящая семемная жизнь. свое теплое, дружное гнездо, где смеялись и радовались близкие люди и щебетала детвора, а теперь — молчание. И часы бьют так уныло башенным боем, что ивой раз их хочется остановить. Я. по призванию, не только художник, но и семьянин.
— Почему же вам не завести семьи?
Он не ответил н продолжал, как в забытьи:
— Я влюблен. На старости лет влюблен. Вон вы говорите. что я еще могу нравиться! И это мне ценно. Но могу ли я нравиться ей?
— Кто она? Конечно, не по имени, меня интересует характеристика.
— Она гувернантка в одном близком мне доме. Француженка. Ей за тридцать лет. и она очень красива.
— Что же вас останавливает?
Михаил Петрович колебался, что-то не договаривал, потом смущенно пробормотал:
— Жанна, как и все француженки, практична; и если она не вышла замуж молоденькой девушкой, то. конечно, теперь будет еще более обдумывать, и на это есть основания...
— Какие?
— Может быть, я зря так думаю о моем милон, честной Жанне, но мне простительно — я старик, и мне трудно рассчитывать на бескорыстное к себе чувство. Что я и что могу ей предоставить? Во-первых, избавление от скитания по чужим домам; во-вторых, обеспеченность человека, получающего майоратную пенсию и имеющего приличное место реставратора Эрмитажа; в-третьих, хорошую квартиру; в-четвертых, положение известного художника и, наконец, в-пятых, баронство.
Я улыбнулась.
— Плохо я разбираюсь в таких расчетах, Михаил Петрович...
Он подвинул мне блюдо с кулебякой и грустно сказал:
— Предательская стрелка часов лезет беспощадно вверх, и скоро вы уйдете. И я останусь один в этих больших комнатах; я буду слушать, как уныло шлепают мои туфли, будя тишину, и как скребутся в углу мыши.
