Памятные встречи — Ал. Алтаев
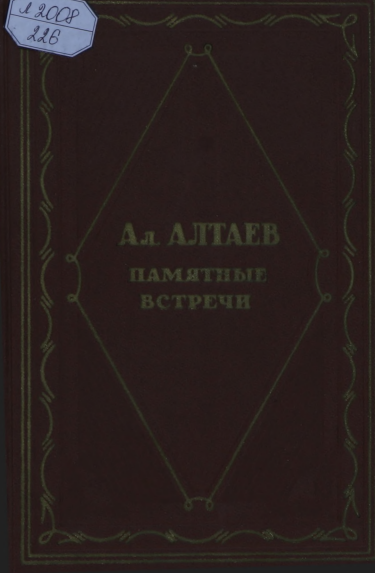
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 43
«В ЗАБОТЫ СУЕТНОГО СВЕТА ОН
МАЛОДУШНО ПОГРУЖЕН...»
Я продолжала прерванное чтение записей, которое он должен был проверить:
— «Способ, к которому прибегал отеп, был способдревний, известный у вас под названием «а cire perche». Особенность его состоит в том, что первоначально отлитый снимок модели, по которой делается земляная форма для отливки, неизбежно приходится проверять и ретушировать согласно оригиналу, или, как в то время говорили, «расчищать». Эта ответственная и кропотливая работа, от которой зависит художественная ценность отливки, а также надзор за чеканкой отлитых бронз при исполнении царских и других заказов, возлагалась на молодых скульпторов. Был сделан опыт отливки из свинца, но ввиду непрочности последнего оставили работы из этого материала и стали делать из бронзы. Помещение для форм устраивалось возле плавильной печи в виде колодца. Оно было настолько просторно, что одновременно приготовлялось несколько статуй к отливке. Плавильная печь являлась одной из достопримечательностей столицы, и о ней шла слава за границей. Получив звание литейщика, отец с семьей переселился в Академию художеств. В распоряжении его теперь было целое здание; кроме квартиры, он получил громадную мастерскую, высотой в два этажа; в два этажа была и выходившая во двор литейная. Из мастерской дверь вела на балкон, а с балкона лестница спускалась прямо вниз».
— Верно, все верно,— закивал головой Михаил Петрович.— А у вас правильно записаны все даты? Оставьте мне все их проверить, а пока что запишите о пребывании отца в Берлине, куда он был послан в командировку во время житья там Николая Первого и президента Академии художеств герцога Лейхтенбергского. В свите царя явился и отец на верховой лошади, взятой напрокат в отеле. Он не хотел отличаться от тех из свиты, которые были верхами. Николай Первый, окруженный коронованными родственниками и знатью, увидел забавное зрелище: не умея справляться с уздой, отец как-то неловко Дернул ее, и лошадь его понесла. Шляпа упала у него с головы. Николай Первый и окружающие его с улыбкой смотрели на растерявшегося художника, костюм которого пришел в беспорядок, волосы растрепались, и он едва держался в седле. Герцог Лейхтенбергский с серьезной миной подал оброненную шляпу, и в эту минуту лошадь отца лягнула президента. Николай Первый сказал: «Ты лучше лепишь лошадей, чем на них ездишь». Все ждали грозы за удар лошадиного копыта, зная характер царя, но на этот раз инцидент не имел последствий,— видно, при дворе отцом дорожили.
Отец вернулся домой, в Петербург, неузнаваемый: разодетый в пух и прах и раздушенный. Впрочем, едва ступив на родную почву, он сбросил с себя все свое заграничное щегольство и снова стал простым, небрежно одетым работником.
Клодт просматривал листки с так называемыми «датами» и бормотал:
— Совершенно верно... две группы лошадей для Зимнего дворца в тысяча восемьсот тридцать восьмом году... апрель тысяча восемьсот тридцать восьмого года — должностной профессор скульптуры в Академии художеств и, кроме обычного жалованья, три тысячи рублей ассигнациями пенсия...
Он остановился, вспоминая.
— Работал отец неутомимо. Он не терпел праздности, трудился даже во время маленьких журфиксов, когда друзья его сражались за ломберным столом. Прислушиваясь к голосам гостей, он где-нибудь в сторонке лепил и очень бывал недоволен, когда его уговаривали сесть за карты,— карт он не любил и играл плохо... Но мне хочется сегодня успеть вам рассказать, каким праздником для нас в семье была отливка статуи в Литейном доме. Только это придется сделать, когда мы вернемся из столовой: я слышу шаги моей Дульцинеи. Она аккуратна, как часы.
— Ну, теперь слушайте; я буду говорить кратко, чтобы уместиться с моим рассказом в сегодняшний вечер.
Я раскрыла тетрадь и пододвинула артистически очиненные художником карандаши. Он начал:
— Когда отец готовил восковую модель под отливку в настоящую величину статуи, у нас все, от мала до велика, домашние и гости, переселялись в мастерскую. Здесь на лесах устраивались площадки и на них — столы; здесь весело пили чай взрослые и дети.
Он улыбнулся.
— Как торжественна была отливка из бронзы, бог ты мой! Часов в одиннадцать утра огромные трубы литейной начинали дымиться, и весь Васильевский остров знал по черному дыму, что барон Клодт отливает свои статуи. В верхнюю часть литейной, где находились плавильные печи, стекалась масса народа: тут были рабочие, мастеровые, лавочники, извозчики, интеллигенты; все с любопытством следили за результатом отливки, которая продолжалась несколько часов. Особенно торжественный момент был перед самым выпуском меди в форму. Тогда в мастерской прекращалось всякое движение, даже говорить начинали как-то невольно шепотом. Наконец, отцу доносили, что все готово; присутствовавшие снимали шапки и крестились; литейщики-рабочие пробивали отверстие, из которого текла медь, и она начинала литься по разным отводам в формы. Это был критический момент: по ходу раскаленной добела меди можно было судить, удастся ли работа, или нет. Мастерская под конец вся наполнялась белым дымом, точно туманом, весьма вредным для здоровья, и все присутствующие должны были затыкать носы, а многих рабочих, слишком близко стоявших у печи, лихорадило. Отливка была нашим семейным праздником. Рабочие имели очень довольный вид. Как противоядие против отравления газами меди им отпускалось молоко и масло и готовился праздничный обед. Для приготовления мастики, склеивающей форму, требовалось черное пиво, и рабочие варили его в гораздо большем количестве, чем это было нужно. Поэтому у нас в доме еще недели две водилось густое, чудесное черное пиво. Статуя охлаждалась медленно: через несколько недель, когда форму разбивали, фигура все еще была очень горячей.
— Много статуй на вашей памяти было отлито в Литейном доме? — спросила я.
— Немало... Кроме собственных, отцу пришлось отлить из бронзы много и чужих. Им были отлиты ангелы Для купола Исаакиевского собора, два больших барельефа для того же собора, «Положение во гроб» и «Несение креста».
ЧЕТВЕРГИ С ПРОПУСКАМИ
Владимир, полковник артиллерии, подарил мне на елку, когда мне было всего четыре года,— в тысяча восемьсот тридцать девятом году, увековечив нашу жизнь в родном доме... Читайте, читайте... Текст он написал сам стихами, весьма незатейливо по содержанию, но весьма четко для глаз.
Я с интересом перелистывала пестрые страницы, и на меня веяло трогательной простотой этой жизни.
Художник продолжал:
— Вот здесь нарисована даже наша кухня, которая играла для нас, детей, огромную роль. Прислуга и рабочие являлись частью нашей семьи; отец, любя свой дом, любил жену, детей и слуг ,и связывал все это, как бы сказать, в один милый, ласкающий душу узор. Мы лепили лошадок и всякие формочки, как умели, в мастерской, возле отца; мы и помогали любимцу отца — старому формовщику Арсению размешивать глину и знали от него не хуже специалистов ее сорта: и анжельский сорт, добываемый в местечке Анжель, по Коломенскому тракту, верстах в восьмидесяти от Москвы, и чудесную изумрудную глину из «Синего омута» на реке Тоене, и «вохря- ную», которую употребляют скульпторы Италии. Знал я, как нужно спрыскивать большие работы из садовых поливных шлангов, чтобы не засохла глина статуй, а в продолжение работы спрыскивать изо рта; раскутывая с Арсением фигуру, я находил под тряпками особенные скульптурные грибы, так называемые «скульптурные шампиньоны»; горевал, когда в глине было много песчаника, как в анжельской сернистой глине низкого качества... Знал все отцовские стеки; помогал Арсению взбивать мыло с деревянным маслом для обмазывания глиняных моделей перед снятием формы, мешать железной лопатой алебастровую муку с водой, и вся душа моя была в этих работах... В кухне я был свой, родной человек. Спустившись вниз, я хлебал там из общей чашки с литейщиками и слугами, а потом уже не в силах был обедать в столовой. И когда мать за это на меня сердилась, отец всегда заступался и добродушно говорил: «За что. душа моя, гневаешься? Разве он делает что-нибудь дурное? Пускай присматривается к жизни простых людей: он будет их лучше знать, а это в жизни важнее многих наук». Отец и сам проводил в товарищеском общении с мастеровыми все досуги. Он никогда не оставался без дела,— всегда что-нибудь мастерил, изобретал, шил, строгал, клеил. Помню святки: елка с самодельными украшениями всегда была одним из самых веселых развлечений в году не только для нас, детей, но и для всей семьи; в елке принимали участие все в доме, от мала до велика.
Он засмеялся, вспоминая что-то удивительно привлекательное, светлое, и продолжал живо:
— Ах, святки! На святках весь дом превращался в одну сплошную радость и даже сумасшедшее веселье. По старому русскому обычаю к нам являлись ряженые — человек двадцать рабочих в самых разнообразных костюмах, с грубо размалеванными лицами. Был здесь и медведь с козой, и генерал с эполетами и аксельбантами из соломы, и мамка в кокошнике, и все они плясали, ревели, хохотали.
От нахлынувших воспоминаний художник залился Детским, искренним смехом.
— Вы бы только видели эту важную осанку, этот министерский вид, эту выступавшую среди академических сторожей фигуру бывшего полкового музыканта Цы- цуры, с кларнетом, от пронзительных звуков которого у всех болели уши. Но мы, дети, любили его и хохотали, видя, как взрослые морщатся от этого нестерпимого воя... Ряженые уходили, но суета не кончалась. Являлись новые и новые маски, одетые уже несколько понаряднее, хотя все же очень просто, в костюмы из табачной лавочки. Были здесь эффектные «гишпанцы», «турки» и «арапы» с лоснящимися черными картонными масками; был и Пьерро, или, иначе, «Леман», он же «мельник»1 и Другие в платьях из цветной папиросной бумаги. Веселые маски вносили с собой в комнату вместе со струей свежего морозного воздуха искреннее веселье. В эти суетливые святочные дни в нашей квартире все было перевернуто вверх дном; одни посетители сменялись другими; было оживленно, шумно и весело. На смену маскам являлись священники славить Христа; за священниками — булочники, рабочие. Отец выходил к ним со всей семьей, одинаково радушно всех принимая...
В столовой, за чайным столом, я заметила, что у Михаила Петровича какой-то смущенный вид; он чего-то не договаривал, как-то суетливо придвигал ко мне угощение, чему-то тихо смеялся и торопился рассказать:
— Да, да, милое старое время... В доме у нас царили непринужденность и простота... Раза два-три в зиму бывали так называемые «балы». Нанималось человек пять музыкантов — солдат из первого корпуса; гости состояли из самых близких знакомых, веселились и танцевали до упаду, игнорируя всякий этикет... В настоящее время странно слышать, как скромно обставлялись эти балы. Все угощение состояло из мармелада, изюма, пастилы, яблок и апельсинов; о конфетах и мороженом не было и помину. Но зато сколько на этих «балах» было искреннего веселья и милых, невинных шуток... Веселился и стар и млад; отец отплясывал до изнеможения и фигурный котильон и шумный гросфатер, а старички старательно выделывали ногами классическую кадриль, «со всеми онерами», ригодонами, pas de basк ами и антраша, под аплодисменты молодежи. Отец придумывал всевозможные проказы, страсть к которым сохранилась у него с юности. Он отрезал у барышень на память ленточки от тарлатановых или гренадиновых платьев, рассказывал им разные смешные истории, а иногда даже рассыпал по полу нюхательный табак, который, поднимаясь во время танцев, доставлял немало беспокойства носам танцующих.
Художник остановился, задумавшись. Я ждала. Не глядя на меня, он смущенна выговорил:
— Я боюсь, дорогая, что это будет последним вечером воспоминаний...
— Почему? Разве вы куда-нибудь уезжаете?
— Н-нет...— протянул он,— но...— Он замялся.—- Как бы вам сказать? Вам, может быть, это покажется непонятным и даже... смешным... Я... я... окончательно решил жениться! — выпалил он и посмотрел на меня с торжеством отчаяния: вот, дескать, на что я отважился!
— Я не понимаю, какая связь между нашей работой и вашей женитьбой.
Он криво улыбнулся, и опять голос зазвучал сконфуженно:
— Тот, кто живет в семье, тому не понять. Понять может только одинокий. Я слишком наголодался одиночеством, слишком наслушался эха собственных шагов. И я боюсь, что мне будет трудно оставаться аккуратным в работе, боюсь, что захочу пользоваться безгранично своим счастьем... Жанна приняла мое предложение. Но сегодня мне хочется подольше «повоспоминать». Останьтесь немного подольше, сделайте исключение.
По лицу его скользила мягкая улыбка. Он сказал:
— Отец был большим художником, добрым человеком и великим хлебосолом. Каждое воскресенье у нас собирался кружок близких друзей. В воскресные дни обедало, помимо семьи, человек двадцать, а после скромного, но сытного обеда садились за вист или бостон. Между знакомыми было немало интересных и оригинальных людей. Бывали часто современные знаменитости. Венецианов, добрейшей души старик, открывший на свои средства бесплатную школу для молодых людей, не попавших в академию. Этот милый добряк даже кормил и одевал некоторых учеников на деньги, заработанные своим горбом. Бывал у нас Сверчков, автор мастерских рисунков лошадей; бывали братья Брюлловы, Карл и Александр, славный архитектор; бывал представитель тогдашней художественной богемы, ваш крестный — Агин, о котором я уже упоминал, и блестящий драматический актер Самойлов. Каждый шел своим путем и вносил в жизнь свою лепту, вносил в жизнь красоту. Из них, пожалуй, больше других мог быть бунтарем Карл Павлович Брюллов. Капризный, избалованный, превозносимый до небес, он вечно ворчал и спорил с начальством.
Я решила не противоречить.
Было очень поздно. Я поднялась. Художник, видимо, жалел прощаться со мной надолго. Он сказал, стараясь что-то примирить, найти какой-нибудь компромисс:
— Мы спишемся и, я уверен, увидимся сравнительно скоро. А пока побывайте у братьев Соколовых, побывайте у моего тезки Михаила Петровича Боткина — у него музей на углу Восемнадцатой линии и набережной, побывайте у сыновей архитектора Брюллова, племянников Карла Павловича,— у них есть архив, и я говорил им о вас. Все они дадут вам, что могут, что помнят, поработайте, а там увидимся и продолжим нашу работу. Пожелайте мне счастья...
— От души, Михаил Петрович!
