Памятные встречи — Ал. Алтаев
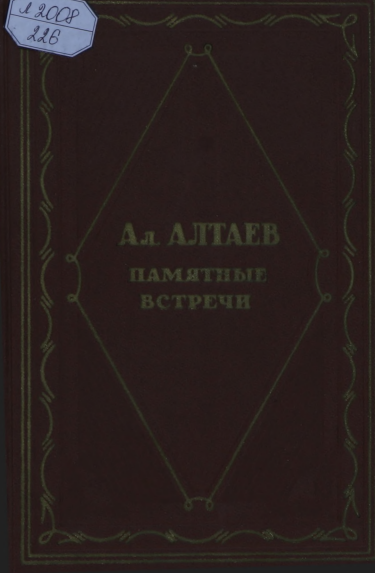
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 45
«БАРОНА МЫЗА»
У нас теперь часто бывали перерывы в работе: Михаила Петровича поглощала новая жизнь, новые обязанности и новые привязанности.
За Жанночкой явился на свет Петруша, живой сколок с Клодтов, напоминавший, по портрету, и деда и отца.
Михаил Петрович гордился потомством от нового брака и радовался, когда позднее у мальчика стали проявляться способности к рисованию.
Записи теперь мне приходилось делать урывками.
Вечер. За окном воет ветер, бросая в стекла снежную пыль, а в печке весело потрескивают дрона, и в комнате тепло-тепло. Лампа из-под зеленого абажура мягко освещает знакомое лицо «маркиза» c седеющими прядями волос над большим спокойный лбом. Клодт мечтательно рассказывает:
— Пока еще отец не купил имения в Финляндии, мы жили в Павловске, по соседству с Брюлловыми, и мать с дядей Владимиром, гувернанткой сестер в Брюлловыми ходила на прогулки, предпочитая бродить чаще по полям, чем ходить на чопорное гулянье с музыкой при вокзале. Часто у нас устраивались и пикники в деревню Графскую Славянку, впоследствии купленную царской фамилией и переименованную в Царскую Славянку. Вот тут- то и пошел ряд чудачеств, рисующих быт моего отца. Тут уж мы с вами будем шагать без всяких точных дат — сразу рассказывать, что сохранилось в памяти. Возьмите вот этот карандаш, а я вам пока очиню новый. Запись не короткая.
И, взявши ножик, продолжал:
— В Павловске жизнь текла просто и весело, и немало произошло здесь инцидентов, рисующих своеобразный нрав отца. Накануне его именин, перед Петровым днем, что бывает двадцать девятого июня, с вечера съезжалось к нам много гостей. Мужчины располагались на ночлег вповалку на сене в башне над мастерской, около конюшни, и проводили ночь в шутках и разговорах. Дам устраивали в самой даче. На другой день был большой парадный обед, и к этому дню отец любил готовить разные сюрпризы. У него была страсть ко всякого рода изобретениям, но больше всего он возился над изобретением особенной конструкции экипажей. Почти все его изобретения, такие прекрасные в теории, оказывались никуда не годными на практике. Помню один экипаж, вызвавший среди жителей Павловска большой переполох. Он был сооружен отцом к торжественному Петрову дню.
Клодт покачал головой и засмеялся:
— После утреннего кофе из сарая выкатили огромный ящик весьма странного вида, на двух колесах, в который кучер впряг пару лошадей. В ящик поставили стулья, и вся мужская компания уселась на них, собираясь ехать закупать вина и закуски. Те, кому не досталось места на стульях, садились прямо на дно ящика. И вот оригинальная двуколка двинулась в путь. Она так гремела, что встречные лошади пугались, собаки с неистовым лаем выскакивали из-под ворот, люди выглядывали в окна и испуганно спрашивали: «Что случилось? Горит, что ли? Где пожар?» Но подобные эффекты нисколько не останавливали отца, и он после одной неудачной попытки делал другую, думая, что, наконец, изобретет необыкновенный по красоте, легкости и удобству экипаж.
— У вас было много лошадей? —спросила я.
— В Павловске отец завел лошадь Серко. Серко, старый ветеран придворной конюшни, совершенно белый, служил отцу моделью, когда он лепил аничковских лошадей. В Павловске Серко сделался «членом» нашей семьи. Отец часто возил на нем нас, детей, по дорожкам сада; мы лазили у смирной лошади под брюхом... Другая лошадь— Амалатбек, которую уже позднее отец получил от императора для натуры, также модель для аничковских лошадей, была белая арабская, послушная и прекрасно, безукоризненно сложенная. Отец дрессировал ее: она, по его приказу, становилась на дыбы и принимала всевозможные позы. Моя сестра, двенадцатилетняя девочка, ездила на Амалатбеке в амазонке, и, по воле отца, лошадь с всадницей лихо взвивалась на дыбы. Кроме этих двух лошадей, у нас был осел, очень хитрый, надувавший брюхо, когда его седлали, и лукаво посматривавший на сбившееся на сторону седло. Осел был упрям, как и все ослы, и часто ничто не могло заставить его сдвинуться с места. Порой он придумывал хитрость, чтобы сбросить седока: разбежавшись, сразу останавливался,— седок, конечно, по инерции летел вперед. Этот осел служил забавой для всей семьи: он не мог видеть ни одной процессии, чтобы к ней не пристать, и, случалось, сопровождал вместе с седоком погребальное шествие до самого кладбища, и никакая сила уже не могла заставить его свернуть с намеченного пути.
Я засмеялась:
— Вот как! Оказывается, даже животные заразились от хозяина чудачеством.
Клодт серьезно подтвердил:
— Животные всегда перенимают от своих хозяев их навыки, их доброту. Это хорошо знают те, кто имеет с ними дело и любит их. Я продолжаю. Наша дача служила притчей во языцех. Частенько около калитки ее собиралась густая толпа; люди заглядывали во двор или в сад, где был устроен матерью импровизированный маскарад, цирк или иллюминация. Случалось, размалеванные, разодетые в фантастические костюмы всадники катались по дорожкам сада на осле или в колеснице, напоминающей колесницу древнеримскую... В тысяча восемьсот пятидесятом году отец продал дачу в Павловске и купил имение «Халола» в Финляндии, около Новой Кирки, в восьмидесяти семи верстах от Петербурга.
Художник порылся в бумагах, выложенных на стол из ящиков бюро.
— Давайте-ка пока проверим записанные вами скучные даты. Верно. Память мне не изменила. Пишите еще: седьмого марта тысяча восемьсот пятьдесят первого года назначен профессором первой степени. За это время отец успел окончить все группы аничковских лошадей и работы в московском Кремлевском дворце. За них он получил,— пишите,— пятого мая тысяча восемьсот сорок девятого года золотую медаль, а на год раньше был зачислен в члены Королевского общества северных антиквариев. Группа аничковских лошадей была послана в Неаполь, в подарок неаполитанскому королю. Отец в это время был уже европейской знаменитостью. Его знали и в Италии, в этой колыбели искусств, куда отправляли на казенный счет наиболее даровитых питомцев академии. Но и на вершине славы он оставался таким же простым и доступным каждому, как и во время первых лет своей художественной деятельности. В Финляндии местные крестьяне скоро оценили своего нового соседа, заменившего прежних прижимистых и часто даже жестоких владельцев. Все, кто обращался к нему за помощью и советом, всегда находили самое сердечное отношение. Но отец был непрактичен и плохо понимал сельское хозяйство; управляющие постоянно его обкрадывали. «Халола» давно уже не принадлежала никому из Клодтов, но память о скульпторе Клодте много лет спустя все еще жила в сердцах местного населения, переходя от дедов к внукам, и «Халола» через много лет продолжала именоваться «Барона мыза», как называли ее финны.
— Но все-таки доход с нее был, с этой «Барона мызы»?
Художник усмехнулся.
— Вы бы лучше спросили, как велик был с нее убыток. Хозяйственных дел я не знаю, но помню, что кругом толковали: «Халола — это утроба ненасытная». Отец сам увеличивал расходы по имению: он любил строиться, и на постройки у него выходила масса денег; кроме того, его обворовывал всякий, кому не лень. Добряк, простодушнонаивный, как ребенок, он всем верил и никому не мог отказать в просьбе, как не мог себе представить, что его станут обманывать. Он не знал счета деньгам, не имел даже портмоне. Обкрадывал скульптора, в числе других, и лакей, таская из комода и кармана деньги. Иногда он приходил по утрам, с самым чистосердечным видом подавал отцу какую-нибудь незначительную мелочь и уверял, что она высыпалась из кармана, когда он чистил платье барона, а барон хвалил всем честность слуги, спрятавшего на самом деле большую половину в своем кошельке.
— Это мне знакомо,— сказала я, вспомнив, как обкрадывал когда-то и моего отца его лакей Павел Козырев.
Клодт продолжал:
— Моего отца эксплуатировали многие. Так, раз в городе к нему явилась просительница, дама под густой вуалью, громадного роста, вся в черном. Упав перед ним на колени, она умоляла о помощи и рассказывала, что она одинокая вдова, без всяких средств к существованию. Эта «вдова» говорила грубым голосом и имела очень резкие манеры, что сейчас же бросилось в глаза отцу, но тем не менее он дал ей денег. Потом горничная рассказывала: «Когда «вдова» уходила, на лестнице поднялся кран ее юбки, и под нею были видны брюки. Это мужчина, как есть мужчина!» А отец на это добродушно кивал головой: «Да, да, несомненно мужчина, я это тоже заметил. Но что же было делать? Раз он у меня просит,— значит ему нужно. Разве я могу не дать?» Он никогда никому не отказывал в посильной помощи. Еще в Павловске, в холерный тысяча восемьсот сорок восьмой год, сам мчался в аптеку на Амалатбеке, без седла и недоуздка, чтобы оказать скорее помощь заболевшей жене кучера.
— Он ненавидел безделье и отдых полагал лишь в перемене занятий,— продолжал Михаил Петрович: — Какой-то мудрец правильно сказал: «Скука — моль души>. Эта «моль» никогда не могла найти дорогу к моему отцу: он всегда изгонял ее, как только она собиралась к нему приблизиться, замахиваясь то детским башмачком, который шил, то седлом или сбруей, то долотом, которым орудовал рядом со столяром. Но надо отдать справедливость — поделки его не всегда были удачны, особенно огромная крытая фура, которую он изобрел после «римской колесницы».
Художник снисходительно-ласково засмеялся:
— Финляндской железной дороги в то время не было, и из «Халолы» приходилось ездить в Петербург на лошадях. Отец часто совершал в своей невообразимой фуре со всей семьей поездки в Сестрорецк. Обыкновенно кортеж состоял из множества разнокалиберных экипажей. Помимо знаменитой фуры, тут были и кибитки, и крытые тарантасы, и простые телеги. Когда этот странный поезд отправлялся в путь, мальчишки бежали сзади с криками: «У! У! Цыгане! Цыгане!» Все окрестные жители, впрочем, знали безобразную карету, крытую только для грунта первым слоем ярко-красной краски, вторым, черным, ее еще не успели покрыть, когда она пошла в дело. Люди издали замечали этот знакомый рыдван и улыбались: «А вот и барон катит». Отец был большой непоседа. Ему до всего была забота, и он много ездил и по своим и по чужим делам. Часть недели он жил в Петербурге, а другую — в деревне. Когда же начинал высчитывать, то оказывалось, что вследствие дальности расстояния между городом и деревней ему приходилось большую часть времени проводить в дороге.
Михаил Петрович положил руку на мои записки.
— На сегодня, пожалуй, довольно; я устал, да и вы что-то побледнели.
