Памятные встречи — Ал. Алтаев
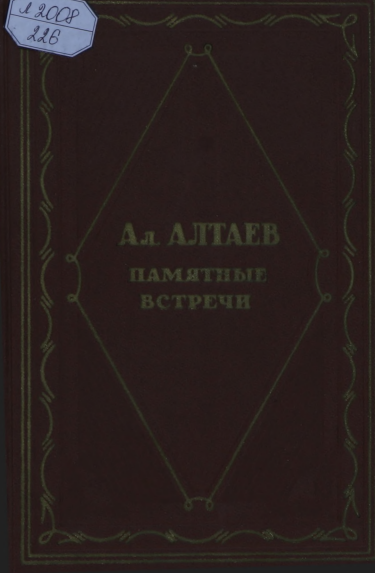
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 47
ДЕЛО ИДЕТ К КОНЦУ
— Мы подходим к концу воспоминаний о жизни моего отца,— сказал Михаил Петрович в один из вечеров.— Я хочу перенестись в «Халолу», на милую «Барона мызу», в ноябрьский день тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года. Отец был уже на высоте мировой славы, избран членом Академии святого Луки в Риме, членом Прусской академии, а в памятный тысяча восемьсот шестьдесят седьмой год получил почетный орден «Pour le merite», орден, который давался весьма редко и исключительно за выдающиеся заслуги. Отец был бодр, полон планов для будущих работ, окружен большой любимой семьей, многочисленными внуками. Он даже не придавал никакого значения жестокому ревматизму, начавшему его терзать еще года за три. У отца свело ногу, и он должен был вести сидячий образ жизни, что вредно отразилось на общем состоянии организма, особенно при его полнокровии. Нетрудно было предвидеть, что он кончит апоплексическим ударом. Но отец не хотел капитулировать перед физическим недугом и упрямо твердил, сдерживая гримасы боли: «Сегодня мне лучше... вот только немного с ногой неладно... но это пройдет...» И мозг и руки продолжали неустанно работать. В «Халоле» у него оставалась мастерская, вся заставленная верстаками, тисками, столами, все возможными инструментами. Особенно много времени он уделял внучатам, придумывая им тысячи самых разнообразных удовольствий. Между отцом и юной компанией внучат прочно установились самые дружеские, полные доверия отношения: он им шил обувь, вырезывал из картона силуэты родных, знакомых, силуэты животных, а по вечерам показывал китайские тени. Кое-что из силуэтов сохранилось у моей племянницы, а его внучки — Любочки... Любови Александровны Редькиной... Вот постойте...— Он стал рыться в бюро.— Такая досада, сразу не найти,— память не всегда слушается. На днях Любочка мне принесла, засунула, а теперь не найду.
И, нетерпеливо, с сердцем задвинув яшик, продолжал: — Отец не терпел белоручек и, как прежде своих детей, так теперь внуков хотел видеть всегда за делом. В одну из поездок в Петербург он даже привез им в «Ха- лолу» принадлежности для стирки, и детвора ретиво, добросовестно постирывала разные мелкие вещицы из носильного белья, и от них у нас в доме требовалось, чтобы они для этой стирки сами носили воду.
Последней большой скульптурной работой отца, выполненной им за четыре-пять лет до кончины, была бронзовая фигура Лютера в одну из остзейских провинций; повторение ее из бронзированного гипса было сделано для церкви в Новой Кирке...
Художник прислушался к голосам, доносившимся из столовой.
— То, что я хочу сейчас рассказать, неприятно будет прервать, а нас сейчас позовут к чаю,— сказал он.— Отложим до конца вечера. Лучше вы расскажите, над чем вы сейчас работаете.
— Ну вот, покончили и с чаем, все тихо. Жанна Петровна моя теперь ведет важное совещание с Дульцинеей о своей особой «кухонной лаборатории», как экономнее, разнообразнее и вкуснее сделать завтра обед, и никто нс будет нарушать нашу беседу,— даже сверчок куда-то переселился или умер...
Тон у художника был грустно-задушевный...
— В «Халоле» у нас в памятный тысяча восемьсот шестьдесят седьмой год гостила моя сестра Мария Петровна Станюкович с детьми, в том числе и с Любочкой. Был ненастный вечер восьмого ноября. Ветер выл за окнами, но в столовой «Халолы» было тепло и уютно. Отец попросил домашних угостить его любимым лакомством — клюквой с патокой.— ведь он был прост во вкусах, так же как прост в привычках. Покончив с этим блюдом, он уселся за большой обеденный стол в ожидании чая, а вокруг сейчас же разместился рой внучат. Детские голоса внучат звучали наперебой, давая дедушке заказы: «Мне лошадку!», «Мне корову!», «Мне овечку!», «И еще собачку!», «Кошечку! Кошечку!», «Петушка!», «И индюка, чтобы шипел и тряс бородой!», «Нет, уж лучше гуся, и чтобы тащил Любочку за платье, а она бы кричала!» Заказов на силуэты для детворы могло хватить на неделю. Отец добросовестно и неутомимо работал ножницами.
Послышались знакомые шаги слуги Афанасия, вносившего кипящий самовар. Отец обернулся к Любочке, держа в руках вырезанную корову и делая неимоверно страшные гримасы. Любочка думала, что он шутит, и закричала: «Не надо, дедушка, так гримасничать... я боюсь» Но отец вдруг покачнулся и упал со стула. К нему бросились все бывшие в комнате: моя сестра Мария Петровна, дремавшая в ожидании чая на кушетке, ее муж и Афанасий. Меня и братьев в это время в «Ха- лоле» не было. Отца подняли, положили на кушетку, давали нюхать спирт, старались всеми силами привести в чувство, послали за доктором. Но он не приходил в себя, и, когда приехал живший в десяти верстах от «Халолы» врач, он констатировал смерть. Никто не хотел верить, что жизнь этого сильного, бодрого и такого всем нужного человека кончена. Доктор должен был пустить кровь» и кровь не показалась. Очевидно, смерть наступила мгновенно, как раз в тот момент, когда отец сделал гримасу—
Михаил Петрович замолчал, погружаясь в воспоминания, и растроганным голосом продолжал:
— Как сейчас вижу эту большую комнату. Мы входим вдвоем с двоюродным братом А. А. Ященко... За нами в Петербург приехал Афанасий, который остался в городе, чтобы привезти гроб и все. что нужно для погребения. Отец — еще на кушетке; на длинном столе разбросаны только что вырезанные им силуэты животных;

Скульптор П. К. Клодт.
в мастерской на верстаке — столярные инструменты, а рядом. на столе, одинокий, только что сшитый детский башмачск.
Художник сделал паузу, потом продолжал:
— Остается сказать немногое. Вспоминается один день. Незадолго до этого рокового восьмого ноября в Петербурге я зашел в мастерскую к отцу и застал его за работой. Он формовал маленькую лошадку. Я внимательно следил за его работой. Отец мне сказал: «Ну вот, Миша, ты мне помоги и учись формовать,— быть может, тебе и пригодится». Она мне пригодилась, эта наука формовки, теперь: я применил ее в первый раз для снятия маски с отца...
Голос его прервался. Он продолжал тихо и печально:
— Тяжелая это была работа: казалось просто ужасным натирать помадой мертвое лицо, как у живого натирают для смягчения кожи... А потом пришлось накладывать густое тесто из алебастра, прорезывая его суровыми нитями до самого тела, чтобы, при наложении второго слоя алебастра, легко было, приподнимая нити с обоих концов кверху, разрезать и вторую накладку и тем облегчить разнятие формы. Невыносимо тяжело делать эту манипуляцию над близким человеком. Невозможно сразу отрешиться от сознания, что он — не живой, а обращаться с ним, как с вещью. Я испытывал невыразимые мучения: все казалось, что отцу нечем дышать, что в ноздри надо было бы вставить кусочки гусиных перьев или соломинки, через которые он мог бы дышать, как делали это часто при снятии маски с живых, и ему невыносимо мучительно выдерживать на лице это белое месиво... Ведь алебастр, твердея, разгорячается и производит удушливую теплоту. Руки меня не слушались и дрожали, по щекам текли слезы, но я продолжал работать под заглушенные рыдания семьи, в зловещей тишине, какая бывает, когда в доме покойник.
Помнится, как во сне, что маску потом хвалили; кто- то советовал полировать ее посредством мыла и натирания байкой; кто-то спорил, что слепок надо нагреть в печке и пропитать растопленным стеарином, как любил это делать скульптор Рамазанов, а то бронзировать, покрыв предварительно лаком из анимы и льняного масла, и предлагали разные рецепты для правильной пропорции, предлагали и свои услуги...
Странно, как часто люди не понимают момента величия смерти и предлагают от души то, что в эту минуту скорби вас ранит... Я знаю, как память об отце, этом большом человеке и замечательном скульпторе, моя маска нужна, и хорошо ее дать более совершенной, более прочной, но все же об этом надо было говорить не в первые часы его кончины, даже не в первые дни... Вот он передо мной — такой знакомый, близкий, дорогой, но неподвижный, с сомкнутыми веками, в гробу, и его скоро от нас навсегда унесут, а голос товарища по искусству нудно-надоедливо диктует рецепт бронзировки: «Надо дать лаку высохнуть настолько, чтобы оставалось несколько клейкости; тогда на сухую мягкую кисть надо взять бронзовый порошок и припорашивать им не сплошь, а местами». И другой голос, не менее неуместный и нудный: «Нет, стеарин эффектнее... Помнишь, какая была история с Рамазановым! У него имелся слепок из лучшего казанского алебастра, хорошо пропитанного стеарином, и одна дама, знакомая с образцами скульптуры за границей, увидев этот алебастровый слепок, поздравила Рамазанова с новым произведением из мрамора». Они даже могли довольно громко смеяться, и опять посыпались воспоминания и имена скульпторов: Гальберг, Орловский, Пименов, Мартос, мастерская Торвальдсена в Риме и примеры: «А помнишь барельефы «Четыре времени года» для «Отрады», подмосковного имения графа Орлова-Давыдова? Они были сделаны таким же способом, из лучшего алебастра, пропитанного стеарином, и все их принимали за мраморные...» — «Да, да, полная иллюзия...» И опять имена и примеры разных скульптурных работ. Вспомнили даже, как хранитель Эрмитажа скульптор Беляев, работавший «скрупулезно», ввел способ формирования чучела птицы: для вящего эффекта снятие отдельных перьев...
Он умолк, погрузившись в воспоминания; я не прерывала и ждала. Потом художник точно проснулся, тряхнул серебряной головой и сказал с улыбкой:
— А знаете, несмотря на славу, отец умер бедняком. Он не умел копить. Два выигрышных билета и шестьдесят рублей — вот все, что осталось после его смерти, и из этих денег почти все пришлось отдать, чтобы расплавиться с его мелкими долгами. Его похоронили на Смоленском кладбище. Было много соседних крестьян, которые искренне любили отца. В Петербурге на похоронах было много художников...
Мы закончили воспоминания о скульпторе П. К. Клодте, и я стала редко бывать у Михаила Петровича.
У меня были свои переживания; я много работала, и в редкие дни досуга многих надо было навестить, о многих позаботиться... А они уходили, старые ветераны искусства. В 1914 году умер и Михаил Петрович Клодт. В последнее время его крепкий, выносливый, как у отца, организм пошатнулся: он стал часто простужаться, н, помнится, кончил жизнь, как большинство стариков, сраженный гриппом и пневмонией.
Осталось двое детей: подросток Жанна, красивая, похожая на мать и, как мать, здоровая девочка, и младшая Петруша, большие глаза которого и весь облик так напоминали отца.
