Памятные встречи — Ал. Алтаев
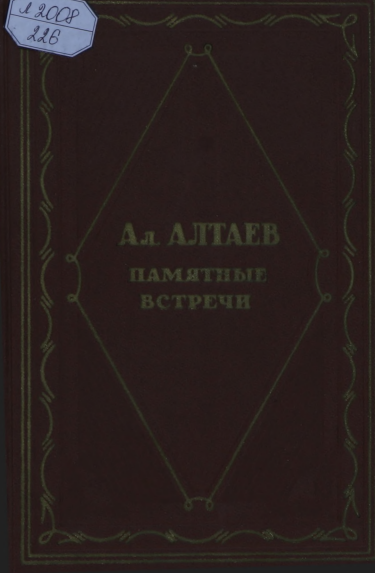
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 48
«ВСЮДУ жизнь»
НА ВЫСТАВКЕ
— «Всюду жизнь» — ведь в этом символ...
— Заметьте: женщина в своей скорби находит утешение в любви к божьей пташке... Где любовь, там и бог...
— Ну, запахло толстовщиной!
— Глубже надо подойти, здесь выражение социальной психологии...
— Да, женщина... у нее лицо изумительное... И где только Ярошенко разыскал такую модель? Что должна была пережить эта женщина?
Я слушала разговоры публики у картины Ярошенко на выставке передвижников в Обществе поощрения художеств на Большой Морской.
Картина врезалась в память, и более всего — женщина со своим особенным, простым, некрасивым, вдумчивым лицом, одухотворенным страданием...
Прошло более двадцати лет, и я познакомилась с моделью Ярошенко; мне было суждено близко узнать ее и подружиться с ней.
Когда я видела ее на картине, мне было шестнадцать лет; при встрече с нею в жизни моей дочери было столько же.
Я познакомилась с нею на вечере у издателя детского журнала «Родник» А. Н. Альмедингена. Я редко бывала на таких вечерах, но как-то зимой, кажется на святках, решила посмотреть на моих товарищей вне работы. И, как всегда, почувствовала непроглядную скуку и желание поскорее незаметно улизнуть. Собравшиеся, как это можно часто наблюдать, не были объединены общими интересами; здесь были люди, что называется, «с бору да с сосенки», журнал являлся для одних источником дохода, для других — щекотанием самолюбия; никто не принимал участия в обсуждении его программы. Собравшиеся большей частью почти не знали друг друга.
Сижу и скучаю. Вдруг слышу — женский голос называет мою фамилию.
— Мне давно хочется с вами познакомиться. Ведь мы товарищи по перу. Кроме того, мои дети выросли на ваших книжках.
Какое странно знакомое лицо, уже немолодое, некрасивое, простое, но значительное. Одета в черный скромный костюм; волосы гладкие, негустые, причесаны на прямой пробор.
Она называет себя:
— Стефания Степановна Караскевич-Ющенко.
Я знала это имя. Оно попадалось мне на страницах «Русского богатства». Тематика Караскевич была мне интересна, она захватывала крестьянскую жизнь Украины; Караскевич писала скупым языком, хорошо знала деревню и давала четкие, выпуклые образы. Кроме того, я знала, что «Просвещение» готовит два томика ее рассказов и повестей, среди которых была и историческая повесть о Богдане Хмельницком. В «Русском богатстве» особенно мне понравилась ее маленькая вещь «Хозяйственный Зоть» — трагедия крестьянки. Верная оценка жизни, без ложного пафоса, без сентиментальности, яркое воспроизведение природы, быта, глубокое раскрытие психологии, краткость — все это делало маленький рассказ примечательной вещью.
Поэтому я от души протянула руку новой знакомой. И как-то сразу разговорились. Она меня пригласила бывать у нее по субботам.
— У меня дома молодежь — вашей дочке будет не скучно... У меня дочь и два сына. Приходят подруги, товарищи. Бывают и постарше — к нам.
Я обещала приехать и все продолжала вглядываться в ее лицо.
— Отчего вы на меня так смотрите?
— Оттого, что мне хочется припомнить, где я вас видела. Почему мне так удивительно знакомо ваше лицо?
— Мое? — засмеялась она.— Вероятно, в этом виноват Ярошенко.
Я сразу не поняла.
— Думаю, что вы видели меня на его картине «Всюду жизнь». Я служила моделью для той женщины,— помните? — что кормит голубей.
ПО СУББОТАМ
Большая, странно не подходящая к простой внешности хозяйки квартира, что-то комнат восемь,— все громадные и неуютно-холодные.
Стефания Степановна сходится со мной во многом, но в одном мы различны: я бываю бестолкова, разбрасываю вещи, не умею обставить свою жизнь, но у меня есть слабость — люблю уют, может быть своеобразный, тесный уют, но люблю теплые уголки. Стефания Степановна их не понимает.
У нее все фундаментально: фундаментальна мебель, правда старинная, красного дерева, но крытая современным, несколько кричащим шелком, расставленная в виде оазисов в огромных пустынных и холодных комнатах; фундаментальны буфеты с серебром и сервизами; фундаментален солидный обеденный стол, уставленный фундаментальными кушаньями, причем на вечерах торжественно объявляется, какое нынче «дежурное блюдо» — телятина или ростбиф.
Я знала, что главной пружиной этого быта является хозяин дома, небольшого роста, быстрый в движениях и в разговоре ученый, выбившийся на дорогу из нужды, но не без согласного участия жены.
Все было, «как в добропорядочном доме». И гости, которые здесь собирались, были все очень добропорядочные, но, странно, они совершенно не запоминались: они были все точно на одно лицо.
Случалось, встретишься с кем-нибудь из посетителей этого дома где-нибудь на улице или в общественном месте,— здороваются. Отвечаешь поклоном и не знаешь, кому кланялась...
Но почему это происходит? Почему так однотонны и бесцветны все разговоры в этом доме, где есть молодежь, где хозяйка дома — простая, хорошая женщина и в то же время талантливая писательница, а хозяин — выдающийся доктор, впоследствии профессор, директор психиатрической клиники в одном из наших крупных городов?
Когда случалось разговаривать с Александром Ивановичем Ющенко отдельно, было интересно. Был даже юмор.
На мои сетования, что на Украине мало воды, что, например, в Подольской губернии крестьяне не ходят даже в баню, он, смеясь, кстати вспоминал о своем отце, черниговском крестьянине, который говорил, когда его спрашивали в больнице, часто ли он купается:
— Оце не важно! У нас у Черниговщине чоловик ку- пався три раза: перше — як родився, второй раз — як крестився, третий — як у домовину кладуть...
Он интересно рассказывал о своих научных работах, об исканиях в области психиатрии.
Не знаю, отказался ли он впоследствии от своей теории, но тогда о ней говорили немало, хотя многие в научном мире ее оспаривали: Ющенко обращал внимание на состав крови психически здорового человека и психически больного и находил, что между ними имеется большое различие.
Рассказывал он и о том, как попал в эту пышную квартиру.
Граф Орлов-Давыдов принадлежал к вырождающемуся роду. Он был ненормален. За границей, во Франции, его лечил какой-то известный психиатр, в сущности шарлатан, беря с родных за это лечение колоссальные деньги. Потом, когда врач решил, что он получил довольно денег с богатого пациента, он послал письмо какому-то своему приятелю-коллеге, рекомендуя с наивным Цинизмом:
«Обери, как тебе нужно, этого жирного русского гуся».
Письмо случайно было прочитано родными, и «гусь» в руки новой французской знаменитости нс попал,— его сосватали молодому и добросовестному русскому ученому и отдали тому в полное распоряжение.
Ющенко знал, что граф неизлечим, и честно сообщил об этом родным. Он взялся только сделать из этого дикого зверя, не моющегося и ходящего голым, приличного с внешней стороны человека, взялся дать ему возможный для него смысл жизни.
И вот, по предписанию Ющенко, на Каменноостровском проспекте был построен поместительный особняк, нижний этаж которого занимал он сам, пополам с управляющим Аккерманом; в верхнем же были апартаменты больного: целая анфилада комнат, богато обставленных стильной мебелью, украшенных редкой коллекцией драгоценного фарфора.
И в этом дворце, среди множества слуг, под присмотром сестры милосердия, двигался одинокий граф, молодой и красивый, но неизлечимо больной, лишенный воли... Ющенко достиг одного — больной из полуживотного состояния стал настолько с внешней стороны походить на человека, что его можно было даже водить в театр, смотреть легкую комедию, оперетту, водить на выставки; он даже мог заниматься слегка химией...
Ющенко держал своего пациента под угрозой отнять сравнительную свободу в пределах особняка и отправить его в психиатрическую больницу на станцию Удельная. Когда же граф «вел себя хорошо», ему предлагалось даже совершить приятное путешествие в Ментону, где у него была собственная вилла и куда отправлялась часть его штата, с доктором во главе.
Для Ющенко этот пациент был выходом. Получая большое жалованье, прекрасную квартиру и частые поездки за границу, он мог свободно заниматься наукой, не гоняясь за грошовым заработком подобно многим своим товарищам.
Он без конца рассказывал о методах лечения графа и тут же о разных случаях своей интересной практики, о клинической работе, о достижениях психиатрии — вот это и было интересно.
Но беседы на подобные темы велись не на журфиксах. На журфиксах по субботам тянулись без конца скучные разговоры людей, случайно встретившихся...
— Это было в дни моей юности... Меня звали тогда большей частью забавно и грубовато среди студентов — «Стехой»,— рассказывала мне Стефания Степановна.
Мы сидим с нею в ее кабинете вдвоем, и я чувствую, что сейчас мне с нею хорошо, гораздо лучше, чем было несколько дней назад, когда она пригласила меня к себе на рождественский сочельник, праздновавшийся у Ющенко согласно старинным украинским обычаям, с кутьей, взваром и девятью традиционными блюдами.
Она вспоминает о своей молодости, о том, как вышла замуж за бедного студента-медика, как пришлось сразу начать тяжелую, трудовую жизнь.
И вспоминает еще другое: историю, в которой сказывается ее хорошая душа, словно пропадавшая по субботам, когда она хотела, чтобы у нее все было хорошего тона: сервировка стола, обстановка, белые передники и наколки у выдрессированной прислуги.
— Я знала Синани,— рассказывала в одной из бесед Стефания Степановна.— Недаром Борис Наумович Синани в бытность свою директором новгородской Колмов- ской психиатрической больницы был любимым врачом и другом Глеба Ивановича Успенского. Не думайте, что врач не способен любить своего больного, если он даже доходит до такого безнадежно тяжелого состояния, в каком находился Успенский. Истинный врач, любящий свое дело, не может не заметить красоты души, сделавшейся больной. Так было и с Глебом Ивановичем.
Я в свою очередь рассказывала Стефании Степановне о странностях характера этого врача, которого хорошо знала и который дарил меня своим доверием и дружбой в то тяжелое время, когда он потерял единственного сына и мне пришлось сделаться его утешительницей.
По лицу Стефании Степановны промелькнула тень грусти, и она вдруг мне ярко напомнила модель Ярошенко для картины «Всюду жизнь». Она положила мне руку на плечо.
— Представьте, и мне когда-то пришлось утешать и смягчать этого колючего человека... Нужно вспомнить его прошлое. Знаете ли вы, что в пору турецкой войны, когда он был полковым врачом и жил в палатке на балканских высотах, в полку его называли «общественная совесть»? Не было ни одного дела, ни одного спора, ни одного недо разумения, чтобы не обращались к суду Синани, и суду этому безусловно подчинялись все врачи на фронте. Он был резок, некоторым казался грубым, но всегда был искренен.
Я вспомнила лицо старика Синани, его серые глаза, пронизывающие острым взглядом из-под очков, его резкость и почти женскую мягкость в обращении с детьми и бескорыстность, диктовавшую ему такую простоту жизни, несмотря на громкую известность...
Я тихо сказала:
— Он очень несчастен. У него ведь умер от туберкулеза сын. И вот, знаете, этот сильный человек, преподающий мне правила жизни, однажды заплакал, припав к моим рукам, больной и слабый, и я гладила его седую голову и говорила слова утешения...
— Как удивительно! — воскликнула Стефания Степановна.— Ведь первую брешь в замкнутом сердце этого человека удалось пробить мне, много лет тому назад, когда у него умерла его старшая дочка, такая красивая, такая способная, хотя еще ребенок...
