Памятные встречи — Ал. Алтаев
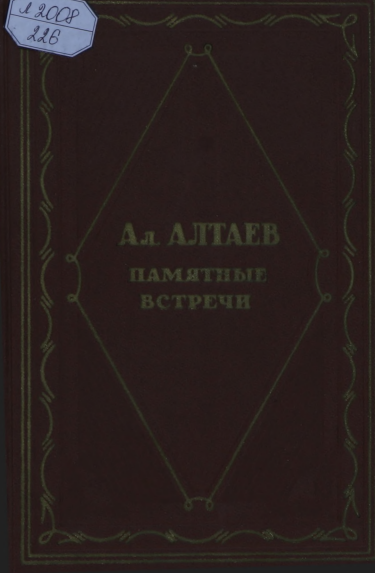
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 49
ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ
Стефания Степановна с этого дня воспоминаний о Синани все ближе и ближе сходилась со мной. В ее привязанности ко мне было что-то простодушно-детское.
Раз она надела мне на палец колечко с маленьким брильянтиком, точь-в-точь такое, какое было у нее, и сказала, обнимая:
— Я хотела, чтобы у нас были одинаковые, и заказала другое вам.
Началась революция. Раз или два я зашла к Ющенко и нашла и мужа и жену растерянными. Они не понимали ничего, что творилось кругом.
Я зашла к Ющенко как-то после митинга в Морском корпусе, в котором слушала выступление Ленина. Мне хотелось рассказать о нем Стефании Степановне.
Она смотрела на меня несколько смущенным взглядом.
— И вы слышали самого... самого Ленина?
Я догадалась: сумасшедший.
Квартира директора. Открывает он сам, Александр Иванович. Жмет руку, крепко жмет. Вводит в кабинет.
— Сейчас придет жена. Вы озябли? Погрейтесь у отопления. Я так рад.
«Жена... какая жена? Кто жена?» Чижов забыл сказать, кто заменил Стефанию Степановну.
Л между тем здесь все почти так, как было у Ющенко когда-то на Каменноостровском... Он рассказывает, рассказывает так, как будто речь идет не о нем, не о ней, новой жене, и не о той, которая была когда-то на ее месте хозяйкой. а как будто это история, прочитанная им в книгах.
— Да, вот и нет нашей Стефании Степановны...— говорил Александр Иванович.— Дело короткое, и рассказывать его недолго. Миша был убит на фронте. Она очень о нем тосковала. Задумывалась. Ничто не утешало — ни писание, ни книги, ни остальные дети, ни я. Поехала в любимую Подолию. Помните, вы все смеялись над нею и над Мишей, что они влюблены в Подолию и тын с цыпленком считают самым красивым пейзажем? Ну, так вот, и эта благословенная Подолия не утешила ее. Кончилось трагически: пошла к поезду... и бросилась.
Он говорил спокойно, очевидно пережил... Жена протянула ему чашку дымящегося черного кофе. Отпивая его маленькими глотками, профессор продолжал:
— Она оставила письмо. Просила меня жениться. И выбрала мне сама жену — вот ее.— кивнул он головой на спокойно убиравшую посуду вторую жену.— Стефания Степановна находила, что она составит мое счастье.
Я молчала. На меня со стены, из-за решетки арестантского вагона, смотрела молодая Стефания Степановна. «Стеха», как грубо-добродушно звала ее студенческая молодежь. как звали, вероятно, и у Ярошенко.
Как странно: вот она здесь, предо мной, на картине, в пору счастливой юности, полная надежд... Наверное, ома испытывала восторг творчества, когда на выставке слышала одобрения художнику, создавшему эту картину, потому что модель всегда бессознательно участвует в творчестве мастера.
— Ну да. Ленина!
У меня в груди росло и ширилось чувство восторга, и я начала ей передавать впечатления митинга.
Я рассказала, как просто, логично и правдиво говорил Ленин о необходимости кончить войну.
— Кончить войну?
В голосе и взгляде, в нетерпеливом движении рук Стефании Степановны, во всем было недоумение и вместе с тем радость: на фронте — Миша, любимый сын, славный юноша, которым она гордилась, о котором пролила много слез.
В марте 1918 года я переехала в Москву. Не успела зайти к Ющенко проститься и несколько лет ничего о них не знала.
В Москве года два спустя меня разыскали знакомые в рассказали питерские новости: кто из друзей переехал в другие города, кто умер, кто пропал без вести...
Синани давно, еще до революции, переселился на родину, в Симферополь, и там умер. Ющенко где-то на юге, а жена его умерла какой-то трагической смертью, после того как узнала, что сын погиб на фронте...
Прошло еще лет восемь. Мне случилось быть проездом в Ростове-на-Дону, и там я узнала от Чижова адрес и телефон профессора Ющенко, директора психиатрической клиники.
Я позвонила по данному мне номеру телефона.
— Александр Иванович?
— Маргарита Владимировна?—обрадовался он, сейчас же узнав мой голос.— Евгении Иванович Чижов мне сказал, что вы собираетесь быть в Ростове, и я очень вас прошу к нам обедать...
«К нам»? Я не стала расспрашивать, кто это «мы». Я обещала на другой день приехать.
Еду без конца через весь Ростов, по-моему, в сторону Нахичевани. Обычные белые корпуса. По снежному настилу движется странная фигура не то францисканца, нс то схимника, в мантии, украшенной нашитыми громадными крестами. Лицо смертельно бледное, застывшее, важное... Точно каменное раскрашенное изваяние... Такие продавали в монастыре на Селигере статуэтки св. Нила, основателя Ниловой пустыни...
В ГОСТЯХ У РЕПИНА
Переговоры да сборы шли долго, в назначенным для поездки день наступил только в марте.
Как сейчас помню этот славный морозным день. В письме к вдове Максимова. Лидия Александровне. Репин советовал от станции к нему не брать извозчика, а идти пешком, что мы и сделали.
Нас было трое: Лидия Александровна, пожилая, но крепкая женщина. сын ее Ювеналий, молодок ученый-химик и я.
Мы шагали по снежной, окаймленной густым хвойным лесом дороге, казавшейся аллеей парка. Громадные сосны строго в четко вырисовывались на белом фоне: отяжелевшие от снега ветви сверкали я переливались всеми цветами радуги. Ели стлали ветки на дорогу, почти у самых наших ног...
Чистота воздуха и птичий гомон, такой чуждый в го роде,— все это сразу дало радостное, приподнятое настроение. Незаметно подошли к «Пенатам».
Двухэтажный дом, небольшой, но достаточно поместительный, с окнами, выходящими на галерею. Звоним. Кто-то невидимый открывает, и это создает впечатление чего-то необычного, какого-то аппарата, машины. Входим. Дверь автоматически захлопывается.
Длинная передняя, похожая на застекленный коридор- веранду. Стена — окна; на окнах маленькие розочки в цвету. Вешалка, у вешалки — гонг и надпись: «Сообщай о своем приходе ударом в гонг. Раздевайся сам. Здесь никто никому не помогает». Что-то в этом роде,— точно не припомню. Мы проделали все, что от нас требовали первые правила «Пенатов».
На звук гонга так же таинственно перед нами открылась дверь, и мы вошли в небольшую длинную и темноватую комнату, одну из столовых, где Репин обыкновенно пил с гостями чай.
Там было два стола: один — посреди комнаты, другой — у стены. На последнем виднелся самовар, стаканы и чашки; средний, большой стол был покрыт красивой скатертью и осыпан искусственными фиалками, среди которых виднелись стопки тарелочек, вазочки, тарелки и блюда, наполненные всякими сладостями: засахаренными орехами, миндалем, финиками, глазированными каштанами, всевозможным вареньем и сухариками... из «крапивы». По стенам висели плакаты: «Раскрепощение прислуги»; «Все делай сам»; «Кто прибегает к чужой помощи, с того штраф — интересный рассказ, спич или речь». Я, конечно, припоминаю только приблизительный текст этих объявлений.
Была среда'—приемный день художника. Прием начинался с трех часов, а мы приехали немного раньше, и эти несколько минут нам пришлось провести в одиночестве. Но вот послышались шаги, дверь открылась, и в столовую вошла стройная пожилая женщина с седыми, красиво причесанными волосами в черном шелковом платье. У нее была неторопливая походка и плавные движения.
Я знала, что это жена Репина, вегетарианка Норд- ман-Северова, автор всех изречений о распорядке жизни, о раскрепощении прислуги и о самодеятельности. Она подала нам руку и сказала:
— Илья Ефимович выйдет ровно в три. Осталось несколько минут. Прошу садиться. Он у себя в мастерской. Он очень аккуратен.
Не успела она кончить, как мы услышали быстрые, мелкие и очень легкие шаги, и художник с приветливом улыбкой почти вбежал в столовую.
— О Максимове поговорим? Очень рад. Поговорим, напишем предисловие, а пока надо подкрепиться. Наливайте себе чай, с мороза это хорошо; рассаживайтесь,— только помните наши правила: каждый помогает себе сам.
Пока мы толклись у самовара, пока ставили чашки с чаем на большой стол, в передней послышались голоса, и в столовую вошли новые гости: Корней Чуковский с женой и сынишкой Колей, а за ними — поэт Льдов.
Чуковский вошел, как всегда, шумный, звонкоголосый, за ним поспевала его жена и большеглазый черномазенький мальчик лет шести. Очевидно, Чуковский был здесь своим человеком: он знал все правила «Пенатов» и двигался свободно в этой атмосфере самодеятельности. Льдов держался бесцветно и говорил немного; он как-то совсем испарился у меня из памяти.
Репин был в ударе. Разговор сейчас же коснулся смерти В. М. Максимова. Вдова рассказывала о последних днях его жизни, о задуманной и неоконченной картине. Репин вставлял реплики о «негибкости» покойного художника, который, не желая применяться к злобе дня и гнуть спину перед власть имущими, жил как спартанец, и работал над тем, к чему тянуло.
Рукопись Максимова (автобиографические записки) ему была известна, и он сейчас же заговорил о предисловии:
— Мне уже сообщал Дубовский, я знаю. Конечно, напишу. И знаю, что кончать записки будете вы,— обратился он ко мне.— Заканчивайте также правдиво, как написана автобиография. Будете печатать в Москве, в «Голосе минувшего»? Ну что же, поближе к нашей колыбели— Третьяковской галерее.
Он говорил горячо, быстро.
— В Академии художеств Максимов шел одним из первых. Профессора считали его кандидатом на все высшие отличия академического курса, и, наконец, его ждала самая высшая награда — поездка в Европу на шесть лет для окончательного усовершенствования в «искусстве», чтобы возвратиться достойным звания и деятельности профессора.
Он улыбнулся, и лицо его, все в мелких морщинках, стало вдруг молодо.
— Как, имея в виду такую блестящую художественную карьеру, Максимов отрекся от нее и остался в России для своих бедных мужичков? Вот прямота!
Он ласково смотрел на вдову, одетую очень просто, если не сказать — убого. Она была взволнована, и в ее больших — всегда точно испуганных — глазах стояли слезы.
— Мы жили действительно не очень богато... Нам шла ведь только часть пенсии имени Григоровича.
— А что же я говорю: прямота,— повторил Репин,— и искренность, убежденность...
И приподнялся, пододвигая к себе одну из тарелок.
В это время среди остальных гостей шла беседа о вегетарианстве. Нордман-Северова уверяла, что ее «крапивные» сухарики вкусны и полезны. Мы последовали примеру Чуковского и стали пробовать знаменитые сухарики. Они были с прозеленью, но из муки, очень вкусны и изящны, хотя мы должны были сознаться, что главное достоинство их составляла далеко не крапива, вкуса которой мы даже не заметили, а ореховое масло, мед, изюм, цукаты и миндаль.
Хозяйка дома продолжала свою проповедь благостным голосом:
— Каждый последователь вегетарианства может вместе со мной воскликнуть: «Я никого не ем!»
— А главное — это здорово,— подхватил Репин.
— Здорово, дешево и ничто не пропадает. Я написала целую поваренную книгу. Она не допускает ни яиц, ни молока, ни коровьего масла, ни жира. Только растительное масло. Какое хотите,— ведь есть же и совсем дешевое. Идет в ход разная трава. Подорожник, например, для супа найдется у каждого забора, у каждой канавы. Или васильки — из них можно сделать кисель. Гораздо дешевле, чем кровожадная пища, к которой привык развращенный человек. Вот моя книга. Посмотрите. Потом я дам каждому на память о сегодняшнем посещении «Пенатов». Здесь преследуется и польза и дешевизна.
Мы посмотрели на стол, ломившийся от изысканных сладостей из самых лучших, дорогих кондитерских магазинов, и переглянулись. Ювеналий Максимов шепнул мне на ухо:
— Мог бы мой отец на пенсию сорок девять рублей пятьдесят копеек устроить .себе такую вкусную «дешевизну»?
После чая Н. Б. Нордман-Северова пригласила нас побывать у нее в кабинете и в мастерской Ильи Ефимовича.
У нее была большая, несколько мрачная комната с высоким потолком и громадной гипсовой статуей не то Свободы, не то Искусства — не помню, какую сймволику изображала эта белая женская фигура.
Мы утонули в коврах, заметили много картин на стенах, кресло и письменный дамский столик, где, очевидно, писались бесконечные трактаты против мясной пищи.
— Пойдем наверх, к Илье Ефимовичу,— предложила хозяйка,— там я вам прочту свою пьесу. Тема — раскрепощение прислуги.
Мы последовали за нею. Деревянная довольно широкая лестница вела в мастерскую. Репин бежал впереди необыкновенно легкой, юношеской походкой. Мы едва поспевали.
Мастерская громадная, кажущаяся низкой из-за величины. Везде — стекла. Пол из корабельного стекла служит потолком для кабинета Нордман-Северовой; по бокам— широкие окна; наверху — стекло потолка, как в оранжерее. Вся эта масса света регулируется занавесками, отдергивающимися по мере надобности.
Тахта у стены кажется совсем маленькой среди этих просторов. Топится громадный камин, и в отблеске огня картины на стенах и этюды точно оживают. Их много, но мне они не кажутся особенно интересными. Ничего, что напоминает прежнего Репина; мелькают перед глазами полотна, с которых смотрит новый, усталый Репин, уста лый, несмотря на видимое физическое здоровье. Виднеются этюды к Гоголю, сжигающему «Мертвые души», этюды к картине «Какой простор», виднеются начатые женские портреты, в которых нет силы прежнего Репина,— «кисть уже не та».
Кисть не та! От этого было очень больно...
Когда все осмотрели, началось чтение пьесы. Читал сам автор, четко, вразумительно, плавно, как и говорил.
Пьеса была скучная, длинная, резонерская. Из всех строк сквозило нравоучение.
Я старалась не смотреть на Ювеналия Максимова. В его выпуклых голубых глазах, похожих на глаза матери, прыгали насмешливые огоньки, на губах блуждала ироническая улыбка.
Он мне опять шепнул:
— Хороша проповедь для настоятеля собора, чтобы богатые не грешили.
— Тише! — остановила его мать.
Я отвернулась, чтобы не видели моей улыбки.
А Нордман-Северова предлагала высказаться всем, даже маленькому Коле Чуковскому.
Не помню, какими общими фразами, правда весьма глупыми, мы отделывались, но Колю вопрос автора привел в невыразимое смущение. Он уткнулся личиком в колени матери и готов был заплакать.
Обмен мнений прервали удары гонга. Кто-то невидимый призывал к обеду. Хозяйка спустилась с лестницы и принесла подносик с билетами, свернутыми, как в лотерее. На них были номера приборов за обедом. По положению, здесь выбирали председателя трапезы.
Вытащил и развернул билетик и Коля. Кругом закричали:
— Коля — председатель!
Со всех сторон на мальчика смотрели с улыбками взрослые. Илья Ефимович, обняв его, сказал:
— Ты будешь хозяин стола, самый главный из нас.
Знаешь, что должен делать председатель?
Коля замотал отрицательно головой.
— У председателя имеются свои обязанности. Запоминай хорошенько: первому поднимать крышки блюд, рекомендовать гостям пользоваться солнечной энергией, а солнечная энергия — это вино, которое согревает, как солнце; наконец, сказать перед обедом маленькую вступительную веселую речь.
По мере перечисления обязанностей председателя личико Коли все вытягивалось, глаза все шире раскрывались от испуга, а когда Репин упомянул о «маленькой вступительной веселой речи», он вдруг горько разрыдался.
Тут его принялись утешать, а Илья Ефимович сказал:
— Совсем не о чем плакать. Я помогу тебе во всем. Я сяду около тебя, если мне даже достанется другое место, и буду твоим заместителем. Ты не бойся. Мы вместе станем председательствовать.
Эти слова были встречены смехом и аплодисментами. Все двинулись вниз в столовую.
Главная столовая в «Пенатах» была очень большая, не слишком заставленная мебелью. Где-то в углу звучал тоненьким голоском заведенный органчик, и под его звон мы все по очереди подходили к небольшому столу, на котором помещался серый душистый хлеб и гильотинка. Здесь каждый должен был отрезать себе кусок хлеба.
— Хлеб мне пекут финны отличный,— говорил Репин.— Отрезали? Ну, а теперь милости просим, занимайте места. Коля со мной.
Каждый по номеру искал свое место за большим круглым столом. Мне достался прибор рядом с Ювеналием Максимовым, и я, по правде, была недовольна — боялась его колкого язычка.
Стол походил на огромный волчок. Кленовый, чисто отполированный, он был без всякой скатерти, с очень толстой верхней . доской, под которой помещался ряд ящиков,— у каждого обедающего свой. Сверху, на винте, в центре, вращалась доска другого стола, значительно меньших размеров, на которой были расставлены всевозможные блюда, вазы, тарелки, салатницы и баррикады бутылок солидных марок.
На приборах лежали картонные билетики с отпечатанным меню; текст был шуточный, и наверху значилось: «Меню голодного и холодного обеда такого-то числа и года». На другой стороне — напоминание о правилах в «Пенатах» за обедом, разъяснение обязанностей председателя, вплоть до пользования «солнечной энергией», и напоминание о штрафе — речи. Каждый, протянув руку, мог повернуть к себе вращающийся кружок той стороной, на которой стояло привлекавшее его блюдо.
А чего-чего только не было нагромождено на кружке! В окне видна была пелена снега с печальным силуэтом вороны, особенно подчеркивавшим зимний пейзаж; с верхушки же стола на нас глядели нежные лепестки бледно- зеленого салата, алели свежие томаты, мелькала приправленная соусом провансаль свежая капуста, лежали головки цветной, сковородки с разнообразными паштетами; среди этих тонких блюд красовалась сочная клубника и гордо поднимал голову золотистый ананас,
Ювеналий громко сказал:
— Действительно, «голодный обед»!
И прибавил тихо мне на ухо:
— Только сомневаюсь, чтобы он был дешевле нашей вареной трески, которую большей частью нам подает мамаша. А ну-ка, приналяжем на этот «голодный-холод- ный».
В это время Репин объяснял Коле Чуковскому его обязанности председателя:
— Открывать первому крышки — это значит первому кушать все, что тебе понравится. Ну, начинаем. Тяни рукой, что хочется. Только не сладости, их успеешь потом.
Пока он уговаривался с Колей, все ели эти редкие по зимнему времени деликатесы и запивали прекрасным вином. Потом наливали черный кофе.
Репин был очень гостеприимен и радушен. Он живо поладил с Колей, и мальчик уже смеялся.
Илья Ефимович сдержал обещание и говорил речь сам. Речь эта касалась бывшей в то время в Обществе поощрения художеств на Морской выставки передвижников.
Не берусь пересказать ее. Говорилось и о «гвоздях» прежних выставок; попутно хозяин вспомнил самую популярную картину Максимова «Все в прошлом» и спросил, сколько было написано с нее повторений.
— Сорок два,— ответила Лидия Александровна гордо.
— Удивительно! — отозвался живо Репин.— Ни одна из работ покойного Василия Максимовича не имела так ого успеха, даже его «Колдун». У нас повторения играют роль ваших повторных изданий.— обратился художник к молчаливому Льдову.— А вы много пишете?
Льдов поморщился.
— Н-нет... не много...
Чуковский засмеялся.
— Ага, понимаю, в чем дело! Значит, написал уже больше сорока листов, и можно на них жить...
— Повторениями,— подсказал Репин.
Разговор вертелся главным образом на воспоминаниях о покойном Максимове, на воспоминаниях о прежних выставках, на обсуждении здоровой, спокойной жизни в «Пенатах», на вегетарианстве.
Репин верил в пользу растительной пиши и говорил шутливо о жене:
— Наталья Борисовна мне продлит несколько лет плодотворной жизни своим режимом. Я стал другим человеком, когда «никого не ем».
В это время Нордман-Северова горячо агитировала за свою идею раскрепощения прислуги.
— Вы видите, у нас никого как будто нет, но все сделано. Наша прислуга работает в течение известных, строго установленных часов, тогда как всюду она — белый раб, везущий на себе домашний воз с раннего утра до поздней ночи.
Репин засмеялся.
— Наши гости не знают, что делать с грязными тарелками. А вы откройте ящики — у каждого прибора в столе имеется свой ящик — и поставьте туда грязные тарелки. В свое время «невидимые» руки все это вынесут и уберут.
За разговорами и оригинальным обедом незаметно прошло время. Надо было торопиться к поезду. Перспектива идти пешком четыре версты в темноте не очень увлекательна: можно было опоздать на станцию, а лошадей мы не заказали.
Репин с улыбкой нас успокоил:
— И ничего нет страшного. Моя Любовь Павловна вас всех свезет.
Мы не понимали: какая Любовь Павловна может свезти семь человек?
Художник пояснил:
— Так мы называем нашу лошадь. Я получил ее в подарок от Паоло Трубецкого. Она служила ему моделью для памятника Александру Третьему. Мы ее иначе еще называем «Любочка», но для такой солидной особы скорее подходит называться «Любовью Павловной». Она — член нашего семейства. Летом, когда открыты окна, она приходит на веранду и просовывает голову в окно, ожидая подачки — хлеба или сахара.
— Я сейчас все устрою,— сказала Нордман-Северова и, вручая поэту Льдову экземпляр кулинарной книжки, закончила агитацию вегетарианства: — Вот вы. дорогой брат, убедились, что растительные обеды могут быть и здоровы, и вкусны, и дешевы.
— Сомневаюсь в последнем,— буркнул мне на ухо Ювеналий Максимов.— Доказательством от противного служат зимою помидоры, клубника и ананасы.
— А «солнечная энергия»? — засмеялась я, косясь на этикетки дорогих французских вин.
Но хозяйка была довольна, даже горда. Был ли всегда доволен хозяин? Не замечал ли он в этой проповеди «я никого не ем» и «я сам себя обслуживаю» ханжества, как заметила я хотя бы в обращении к Льдову — «дорогой брат»? Были братья «во Христе», а этот «брат в вегетарианстве». И разве не скучно так много говорить и так много думать о внешнем образе жизни, придавая исключительное значение тому, ешь ли ты масло сливочное или ореховое? Играть в съедобную крапиву, васильки и подорожник, настолько сдобренные драгоценными приправами, что от крапивы в сущности не осталось и следа? Не напоминает ли это старую сказку о солдате, варившем щи из топора?
Мне стало почему-то грустно. Я вспомнила полотна Репина на прежних выставках, привлекавшие большие толпы, бесконечные с них репродукции, блестящие отзывы в печати, горячие обсуждения всюду, где интересовались искусством, и то, что мы видели в великолепной мастерской, где было скучно, пустынно...
И вдруг в этой фигуре с длинными, по-артистически зачесанными назад волосами, в этих мелких чертах подвижного лица я увидела что-то новое: тонкие паутинки морщинок, как на растрескавшемся фарфоре, и старость... И мне показалось, что Нордман-Северова, играющая в свою особую игру, баюкает сознание усталого мастера...
— Любовь Павловна готова.— прервал мои размышления Репин,— она вас ждет. Спасибо, что навестили; надеюсь видеть вас здесь в скором времени. Теперь дорога в «Пенаты» всем вам известна.
Мы оделись собственноручно, не помогая друг другу, чтобы избегнуть штрафа, а то как раз со штрафной речью опоздаешь к поезду. Репин нам крепко жал руки. Нордман-Северова называла всех «дорогой брат», «дорогая сестра» и женщин целовала. Я вспомнила обращение между сектантами.
На белом фоне снега у подъезда четко вырисовывался силуэт какой-то громадины. Это был, по-моему, першерон — ломовая лошадь, но экземпляр исключительный, колоссальный. Невольно вспомнилась лошадь-великан, на которую Трубецкой взгромоздил своего бронзового Александра III, грузного жандарма России. Ну и выбрал же художник коняку!
Молчаливая фигура кучера в полушубке, из тех таинственных «раскрепощенных» слуг, которых мы не видели в «Пенатах», сидела на облучке широких розвальней. Мы уселись, вернее — улеглись в эти розвальни.
Светили ярко звезды; снег скрипел под полозьями. Деревья стояли по краям дороги, и строгие зубцы елей подпирали чистое, безоблачное небо. В лунном свете снег искрился и казался голубым.
«Пенаты» оставались далеко позади и казались уже маленькой точкой. Потом совсем исчезли. От мороза борода кучера стала белой. Розвальни раскатывались. У молчаливого кучера оказался голос: он начал покрикивать на «Любочку», сдерживая ее размашистый бег. Она везла восемь человек с такой легкостью, как будто розвальни были пустые.
Мы подъезжали к станции. Коля Чуковский, председатель «голодного-холодного» обеда в «Пенатах», крепко спал. Где-то далеко лаяли собаки и звал свисток паровоза.
