Памятные встречи — Ал. Алтаев
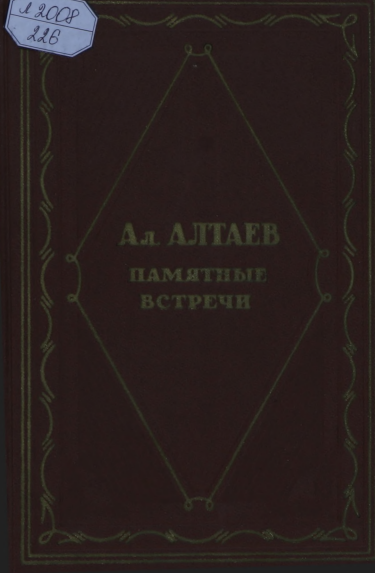
| Название: | Памятные встречи |
| Автор: | Ал. Алтаев |
| Жанр: | Литература |
| ISBN: | |
| Издательство: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |
| Год: | 1957 |
| Язык книги: |
Страница - 56
В ГОСТЯХ «ЗАПРОСТО»
В февральской книжке «Игрушечки» появилась моя сказка «Бабочка и солнце», и к этому времени в журнале и в квартире Александры Николаевны Толиверовой я сделалась своим человеком.
Я ходила на Сергиевскую каждое воскресенье на весь день с утра помогать ей присматривать за ее девочками Верой и Надей. Вере было одиннадцать лет, Наде — восемь.
По правде сказать, мне самой доставляло удовольствие играть с этими красивыми девочками, читать им и рассказывать сказки. Иногда к нам присоединялся Толя, и тогда начиналась такая возня, что из своей комнатки приходил Ефим и пробовал нас унять.
Кроткая, тихая Верочка предлагала сидячие игры, но своенравная Надя топала ногой и спорила с Ефимом, пока не являлась на сцену Александра Николаевна. Начинались уговоры, часто кончавшиеся слезами упрямой Нади, убегавшей с упреками из комнаты. Толя был бесцветный юноша и никакого влияния на сестру не имел.
Были еще тихие, чудесные вечера, которые я проводила вдвоем с Александрой Николаевной в ее маленькой спальне, разукрашенной бесконечными безделушками-сувенирами.
Среди них, наряду со старинным ценным фарфором, встречались нежно хранимые простые игрушки, подаренные кем-нибудь из ее детей или маленьких читателей.
Я до сих пор не могу смотреть без умиления на деревянный кружок, к которому прикреплены простым грубым, но остроумным механизмом клюющие куры. Они занимают место на этажерке Александры Николаевны наряду с фарфором Гарднера или Попова. Наши кустари выделывают такие и теперь.
Сидим около теплой кафельной печки; почему-то помнится, будто где-то близко-близко стрекочет сверчок, что придает особенный уют. Старое мягкое кресло; кругом изящные вышивки, чистота безукоризненная.
Перед нами — альбомы, в которых в разных видах изображен маленький, серенький и некрасивый человек в форме уральского казака на низкорослой сибирской лошадке.
Александра Николаевна с гордостью говорит:
— Дмитрий Николаевич Пешков совершил путешествие на этой невзрачной лошадке из Благовещенска в Петербург. Это необычайно и важно в военном отношении, чтобы показать, до какой выносливости можно довести лошадь воспитанием.
Я молчу. Мне кажется, что эту задачу скорее должны оценить специалисты военного дела, чем редактор детского журнала. И мне неловко за мое молчание. 1 ак далека от меня была военная среда, так неинтересен казался этот уралец с его пробегом. Но она им увлекалась, как увлекалась всем из ряда вон выходящим. Уралец был тогда популярен, о нем говорил весь Петербург, в газетах и журналах были помещены его портреты, ему устраивались пышные встречи... Увидев красивую даму, занимавшую особо видное положение среди интеллигенции, уральский офицер, в свою очередь, увлекся ею и сделался ее мужем.
— Он чудесный человек,— говорила Александра Николаевна,— правда, несколько другого общества, но все же удивительно прекрасный человек... Когда правительство наградило его за пробег деньгами, он отказался от награды. Сегодня он дежурный, и я одинока. Дети рано ложатся спать. Я рада, что вы посидите со мной.
И говорит, говорит о нем, о его честности, прямоте характера, любви к труду, преданности...
Мало-помалу настоящее переходит в воспоминания о встречах с известными писателями и художниками и о самом интересном в то время для меня — о ее путешествии за границу и работе среди волонтеров Джузеппе Гарибальди.
Впрочем, Александра Николаевна говорила очень кратко, сдержанно, стараясь сама стушевываться. И, погрузившись в славные дела прошлого, она забывала настоящее. Тогда герой новой формации казак Пешков, ставший в ряды временных знаменитостей, отступал на задний план, мало того, переставал на этот миг существовать. А голос ее звучал тихо, иногда понижаясь до шепота:
— Сколько их было, раненых! Все римские госпитали переполнились пленными, израненными повстанцами. Не хватало рук для перевязок, не хватало рук, чтобы щипать корпию...
Под низко спущенным абажуром ее лицо казалось особенно мягким и сосредоточенным.
— Вот я, как сейчас, вижу койку одного из раненых. Около нее, в страхе и недоумении, столпились мы, сестры милосердия. Никто из нас не понимал того, что творилось с этим юношей. Еще вчера ему сделали операцию, и, казалось, все шло прекрасно: и температура и самочувствие. Он так радостно улыбался, так благодарил нас за уход. Ему, бедняге, так хотелось жить. У него был сильный организм. А сегодня... сегодня у него лицо уходящего из жизни, иссиня-прозрачное, с обострившимися чертами, лицо смертника. Особенно ясно было, что он умирает, по его ввалившимся строгим глазам. Температура резко поднялась; горячечное дыхание сотрясало грудь; он никого не узнавал, бредил и метался.
Страдальческое выражение изменило лицо рассказчицы, взгляд стал глубже; она помолчала с минуту — ей тяжёлы были воспоминания,— и вдруг горячий огонь негодования вспыхнул в этих синих, таких мягких п ласковых глазах и голос стал другим — твердым, гневным:
— И я поняла, что означала торжествующая улыбка оператора и значительный взгляд, брошенный на стоявшего тут же, в палате, монаха-капуцина. Мне все стало ясно.
— Что ясно? — спросила я, когда она замолчала.
— Сейчас объясню. Каждый день мы выводили раненых во двор подышать чистым воздухом. Этот двор госпиталя отделялся стеной от иезуитской коллегии, и мальчики — будущие отцы иезуиты — появлялись над стеной. Болтая ногами, мальчишки высовывали языки, выкрикивали непристойности, делали гримасы, смеялись над больными и кричали проклятия революционерам. И плевали в лица тем, кто имел неосторожность лежать близко к стене. Мы спрашивали: «Маленькие негодяи, кто научил вас этому?» Они хохотали: «Фра Бартоломео, и фра Антонио, и фра Себастьяно — все говорят, что каждый плевок в лицо бунтовщику зачтется на том свете сторицей».
ВЕЧЕР С ИЗВЕСТНЫМ ПИСАТЕЛЕМ
Вспоминается один вечер, когда Александра Николаевна пригласила меня послушать чтение Лескова.
Небольшое общество собралось в тесной столовой.
Прозвенел звонок; в передней поднялась суета. «Литературные дамы» — особая порода женщин, находившаяся в каждой редакции, при каждом известном писателе,— уже за несколько часов начали хлопотать, чтобы «все было хорошо, по вкусу Николаю Семеновичу».
Забавная это порода «литературные дамы». Кто-то сказал, что это смесь собачки-пустолаечки и крысы. Как комнатные собачонки, они ластятся к тем, за кем бегают, и звенят тоненьким захлебывающимся лаем об их славе; как крысы, они питаются тем, что перепадает от властителей их душ.
Помню одну переводчицу, пожилую девицу, маленькую, всегда исключительно молодо, смешно-кокетливо одетую; она была «литературной дамой» при художнике-писателе Н. Н. Каразине, и, когда приходилось приглашать Каразина для иллюстраций, рекомендовали обратиться сначала к ней.
— Без нее ничего не выйдет,— говорили знатоки.
Вот шум, лепет, сдержанный смех, выспренние восторги, ахи, охи, и рой дам вводит под руки пожилого плотного человека с обстриженными ежом седыми волосами и некрасивым лицом, на котором поблескивают маленькие умные и зоркие глаза. На губах слегка презрительная улыбка.
Его ведут или как расслабленного, или как архиерея, хотя он, видимо, еще очень крепок и может вполне обходиться без посторонней помощи.
Жены-мироносицы щебечут вокруг без умолку, ласкают писателя глазами, улыбками, подобострастными словами:
— Ах, боже мой, здесь тесно... вас толкнули...
— Сюда, сюда, Николай Семенович... Здесь вам приготовлено удобное кресло...
— Александра Николаевна, позаботились ли вы, чтобы Николаю Семеновичу был готов крепкий чай?
Жены-мироносицы, конечно, знают все привычки и вкусы своих знаменитостей: и сколько стаканов пьет он и сколько глотков делает в один присест, какие перья употреблял, когда писал такую-то статью, и даже сколько их переменил за время ее написания, и даже какой толщины сыр режет на тартинку,— чего-чего только они не знают!
Такие жены-мироносицы имелись почти у всех знаменитостей: ученых, докторов, адвокатов, общественных деятелей.
У профессора Лесгафта была собачка-мопсик Татарка, и его ученицы стали охотиться за щепками-мопсиками, чтобы завести их наперекор всем неудобствам: тесноте квартиры, неудовольствию квартирных хозяек и т. п. Лесгафт имел привычку опускать характерным движением голову и, глядя немного исподлобья, приправлять свою образную речь часто повторяющимися словами: «следовательно-с, здесь» и «прибавочный раздражитель», и ученицы старались насытить свою речь этими «прибавочными раздражителями».
Жены-мироносицы в своем усердии поминутно что- то спрашивали у Александры Николаевны из сервировки чая, а у нее в ту пору дела были очень неважны. Она жаловалась, что не свести концы с концами. Коммерческий расчет был ей чужд, а конторские книги она вела очень своеобразно.
Вагнер принес ей из конторы записи, в которых никак не мог разобраться. Он говорил:
— Тут рядом с типографией записаны ботинки Верочке и починка часов. А здесь вот — иллюстрации, клише и билеты в театр. И подведен общий баланс.
Она машет руками:
— Ах, я потом разберусь!
А потом выходила путаница, и владелица «предприятия» нуждалась в самом необходимом.
В этот день она собрала все, что могла, стараясь по- лучше принять гостя.
Одна из дам нашептывала:
— Вспомните, как принимают Вержбиловича. Когда он играет, возле него всегда стоит бутылка коньяку; он пьет и играет, и так выпьет всю бутылку. И чем больше пьет, тем лучше играет.
Александра Николаевна полувиноваго. полунасмешливо отвечала:
— Но ведь Николай Семенович — не Всржбилович?
Наконец. Лесков благополучно посажен дамами в удобное кресло. Кругом — неизменный штат. Александра Николаевна, которую Лесков знал в юности, хлопочет по хозяйству. Зажигают свечи под зелеными колпачками.
— Тсс! — шепчут благоговейно дамы.
Все притихают. Александра Николаевна скромно примащивается к уголку стола. Среди глубокой тишины слышно, как шуршат под пальцами Лескова страницы.
Он читает своего «Памфалона» — сказание о скоморохе. жизнь которого среди отбросов общества оказалась более ценной, чем жизнь «праведннка»-столпннка, простоявшего много лет под морозом, дождем и солнцепеком ради убиения плоти.
Сказание, написанное так, как только Лесков умел писать, произвело на меня сильное впечатление. Но все отравляли восклицания:
— Замечательно!
— Великий мастер!
— Вы чувствуете? Чувствуете? Главное, надо почувствовать.
— Ах, что и говорить: неподражаемо!
Эти пошлости как бы рикошетом отлетали к Лескову и ложились на него, без вины виноватого, неприятным налетом. Лесков, безуспешно пытавшийся охладить серьезными и короткими, даже несколько резкими замечаниями пыл своих поклонниц, начинал, помимо воли, казаться самовлюбленным. Было и досадно и как-то стыдно.
— Достаточно ли крепок чай?
— Николай Семенович, достаточно ли сладок чай? Какого вам положить варенья? Налить коньяку?
— Подвиньте Николаю Семеновичу красного вина...
От этой трескотни болели уши.
Я покинула милую квартиру на Сергиевской с досадой.
