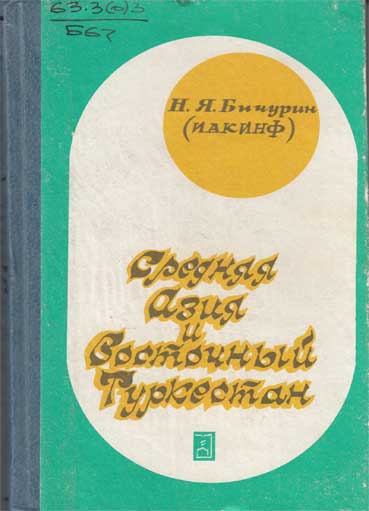Средняя Азия и Восточный Туркестан — Н. Я. Бичурин – Страница 2
| Название: | Средняя Азия и Восточный Туркестан |
| Автор: | Н. Я. Бичурин |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1997 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Его критический ум и научная требовательность ярко сказались еще в первые годы научной деятельности. Ответы Бичурина на критику его работ Клапротом, в газете Ausland (1828 г.), а также критика Бичуриным работ самого Клапрота сделаны подробно и основательно. Бичурин поставил перед собой задачу „пересмотреть прежние его (Ю* Клапрота. — А. Б.) упражнения, в которых вообще не достает ни точности в переводе, ни основательности в суждениях". Первое выступление Бичурина против Клапрота в журнале „Московский телеграф" имело место в 1829 г.; в том же году статья эта была издана на французском языке в Петербурге. Продолжил свою полемику с Клапротом Бичурин разбором критических статей последнего в Noeveau journal Asiatique за 1830 г„ перевод которых был опубликован в „Московском телеграфе" за 1831 г. (№ 7 и 8). Ответ Бичурина „Г-ну Клапроту" затронул не только упомянутые статьи, но и его знаменитые Tableaux hist orique de l'Asie (Paris, 1825).
Защищая свою точку зрения, Бичурин резко выступал против своих противников. Так, он высмеивал пангерманские теории в отношении племен Тянь-Шаня — усунь, в которых западноевропейские, главным образом немецкие, ученые того времени видели прагерманские племена и в которых, по выражению Бичурина, „...даже запаху гермайского не было". По этому поводу он писал: „Но ученые Западной Европы еще обоняют в Чжунгарской атмосфере запах германизма... До каких нелепых заключений не доводит нас тщеславное стремление к открытиям при руководстве мечтательных предположений".
Широко ратовал Бичурин за включение в научный обиход данных восточных источников, за использование текста источника, а не предвзятого мнения мнимых авторитетов.
В критике допущенных ошибок для Бичурина не имели значения приятельские отношения или личные соображения. Так, например, отвечая противнику Клапроту, который критиковал труды Бичурина даже до выхода их в свет, он принимал справедливые упреки; с другой стороны, он не посчитался с долголетними дружескими отношениями с Н. Полевым, в журнале которого „Московский телеграф" он долгое время сотрудничал, и резко критиковал его четвертый том „История Русского народа". Не менее острой критике Бичурин подверг работу и другого историка — Устрялова.
Эту требовательность и высокую принципиальность Бичурина неоднократно отмечали в „Примечаниях от редакции" к его статьям. Так, тот же Полевой, отмечая, как Бичурин старательно „выправляет ошибки" ученых, заключал: „после сего не должно ли сказать, что о. Иакинф должен быть поставлен в пример всем нашим литераторам и ученым людям".
Однако исторические взгляды Бичурина страдали рядом ошибок. Он идеализировал Китай и „азиатчину". Он не понимал, что Китай того времени был образцом стран векового застоя, что перед Китаем — грядущее пробуждение от „спячки", его неизбежное обновление. Он не мог видеть того грядущего, о котором писал В. И. Ленин: „Пробуждение Азии и начало борьбы за власть передовым пролетариатом Европы знаменуют открывшуюся, в начале XX века, новую полосу всемирной истории". Эту былую отсталость старого Китая и перспективы развития нового Китая отмечал недавно вождь китайского народа, глава коммунистической партии Китая, Мао Цзе-дун: „Мы должны также стремиться превратить Китай, который при господстве старой культуры был отсталым и невежественным, в просвещенную, передовую нацию при господстве новой культуры".
Современники часто подчеркивали увлечение Бичурина всем китайским. И. И. Панаев писал, что когда Бичурин приходил в гости, то „начинал ораторствовать о Китае, превознося до небес все китайское". Современники и друг Бичурина Е. Тимковский говорил, что „вообще он питал какую-то страсть к Китаю и ко всему китайскому".
В воспоминаниях Н. С. Моллер, далекой от научных интересов Бичурина, он также выступает как человек, фанатически влюбленный во все китайское и даже шире — азиатское. Н. С. Моллер приводит многочисленные факты из его личной жизни, начиная от излюбленных тем разговоров и занятий, вплоть до обстановки его кельи и личного одеяния, которые говорят об его увлечении Китаем. Современники шутили, что он не только думает, но „даже бредит во сне по-китайски".
Высоко ценил труды Бичурина В. Г. Белинский. В своих обзорах русской литературы он выделял его работы в качестве „примечательных" , которые „вероятно были особо замечены", как „самое утешительное и отрадное явление" и т. д. Кроме упоминаний о трудах Бичурина в обзорных критических статьях, Белинский написал в „Современнике" рецензию на книгу Бичурина „Китай в гражданском и нравственном отношении".
Однако В. Г. Белинский резко критиковал идеализацию Бичуриным исторического прошлого и общественного строя Китая. „Почтенный отец Иакинф показывает нам более Китай официальный, в мундире и с церемониями".
Белинский подчеркивал реакционную сущность феодального строя Китая, о чем умалчивал Бичурин, и одновременно высоко оценивал значение фактического материала о Китае, который Бичурин сделал доступным для русского читателя. Такая оценка в известной степени применима ко всем работам Бичурина, в том числе и к труду „Собрание сведений".
* * *
Советские ученые провели большую работу по изучению литературного наследства Н. Я. Бичурина, подготовляя тем самым материалы к его научной биографии, составление и издание которой весьма назрело. Таковы труды С. А. Козина и А. А. Петрова, связанные с выявлением его рукописного наследства. Первая попытка в советской литературе дать характеристику его как ученого синолога принадлежит Л. В. Симонивской.
Рукописи трудов Бичурина хранятся в основном в двух местах — в Казани и Ленинграде. В Казани они находятся в Центральном архиве АТССР и библиотеке Казанского университета. Значительное количество рукописей находится на хранении в Институте востоковедения АН СССР (фонд № 7). часть архива Бичурина только в феврале 1929 г. поступила в Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Библиографические материалы о Бичурине сосредоточены также в архиве б. синода, Архиве Академии Наук СССР и в отдельных ее Институтах, например, в Пушкинском доме.
Разработка наследства Бичурина продолжается почти 100 лет. И чем больше времени отдаляет нас от времени творчества Бичурина, тем более рельефно выступает значение его трудов для потомков, его вклад в науку. К числу таких трудов относится и переиздаваемый ныне том „Собрание сведений о народах о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена".
II. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ „СОБРАНИЯ СВЕДЕНИЙ" ДЛЯ КИТАЕВЕДЕНИЯ
Содержание переведенных Бичуриным текстов „Собрания сведений" исключительно разнообразно. В них нашла свое отражение история народов Азии, а именно: Маньчжурии и Кореи (ч. II — "О восточных иноземцах", разделы о племенах ухуань, кидань, кумохи, сяньби в ч. I), Монголии (в основном ч. I. разделы о гуннах, жужанах, тупо, хойху), Южной Сибири (главным образом глава о хакасах в ч. I), Восточного Туркестана (Повествование о Западном Крае, ч. III), Средней Азии (там же).
Опубликованные Бичуриным переводы охватывают период времени главным образом со II в. до н. э. вплоть до середины IX в. н. э., хотя в отдельных случаях приведены более ранние свидетельства, например о гуннах — большей частью легендарного характера — и более поздние — до X в., например, о киданях.
Как бы продолжением книги Бичурина явились переводы и изложение китайских источников X—XIII вв. академика Васильева, а также работавшего в Петербурге Бретшнейдера. Бретшнейдер расширил хронологические рамки, опубликовав сведения из китайских источников Юаньской и Минской эпох вплоть до XVII в .
Однако перевод Бичурина стоит на первом месте как по объему, так и по точности и полноте извлечений. Поэтому именно труды Бичурина явились опорой в исследованиях для позднейших русских ученых — напомню хотя бы имена В. Григорьева, В. Радлова, Н. Веселовского, В. Бартольда, К. Иностранцева, Г. Грумм-Гржимайло, не говоря уже о десятках других, менее крупных ученых.
Тема переиздаваемого ныне труда Бичурина, завершенного первым изданием в 1851 г., не была для него нова. Этой темой — историей Центральной и Средней Азии, по данным, заключенным в китайских летописях, Бичурин интересовался с первых дней своей научной деятельности. Его первыми крупными печатными работами были „Записки о Монголии" (1828). „Описание Джунгарии и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии" (1829), „Описание Тибета в нынешнем состоянии" (18 2 8) и „История Тибета и Хухэнора, с 2282 г. до P. X. до 1227 г. по P. X." (1833), „Исторический обзор ойратов или калмыков XV столетия до настоящего времени" (1834), „История первых четырех ханов из дома Чингисова" (1829).
Бичурин был в такой же степени и историком Центральной и Средней Азии, как и историком Китая, о чем говорят его труды: „Китай, его жители, нравы и обычаи, просвещение" (1840), „Статистическое описание Китайской империи" (1842), „Китай в гражданском и нравственном состоянии" (1848).
Тема „О народах, обитавших в Средней Азии", была темой начала и конца его научной деятельности.
В 1846 г. Бичурин получил задание от Академии Наук написать сочинение на тему „История древних среднеазиатских народов". Напомним, что в 1847 г. русские войска начали наступление на Среднюю Азию и для Академии Наук составление такого труда имело особо актуальное значение. Для составления этой работы Бичурин предпринял огромный труд по извлечению материалов из китайских источников. Даже скептически относившийся к нему биограф Н. Шукин писал: „Последним трудом о. Иакинфа была "История народов, обитавших в Средней Азии”. Он употребил на нее четыре года постоянного труда и расстроил здоровье”.
Непреходящая ценность этого труда Бичурина состоит в том, что он дал исследователю тексты во всей их полноте и многообразии, в достаточно точном переводе и со всеми разночтениями. Бичурин сделал впервые то, что в Западной Европе лучшие ученые начали делать в полном объеме намного позднее.
Получив в 1946 г. задание написать „Историю народов Средней Азии", Бичурин у же в 1848 г. представил свой труд в Академию Наук.
Материалы, извлеченные из Архива Академии Наук, свидетельствуют, что в значительной мере инициатива в создании названного труда принадлежит самому Бичури-ну.
В январе 1846 г. Бичурин обратился в непременному секретарю Академии Наук Фуссу со следующим письмом:
„Ваше превосходительство Милостливый Государь Павел Николаевич!
Китайская история содержит в себе сведения о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена; нередко касается южной Азии и южных пределов Европы, а чаще южных пределов Сибири от Бухтармы к востоку. Сии сведения при всей своей " краткости могут, по моему мнению, принести пользу истории, когда будут: 1) собраны в одно целое, 2) изложены в точном переводе текста и 3) пояснены историческими и географическими примечаниями, что для опыта сделано мною в приложенной у сего статьи о Коканде. Но подобный труд, по известным у нас причинам, не может быть предпринят без определенной цели: посему осмелюсь просить Ваше превосходительство представить статью о Коканде на рассмотрение Императорской Академии Наук; и если Академия, судя по сей статье, признает мое предложение полезным для науки, то я изъявлю готовность продолжать предложенный труд в пользу Академии, а в вознаграждение издержек желаю только получить с ее стороны уверение в награде, какую мера и польза моего уже оконченного труда заслуживать будет...
Ожидая Вашего, милостливый Государь, содействия в новом моем предположении имею честь быть с истинным почтением и совершенной преданностью Вашего Превосходительства покорнейший слуга м(онах) Иакинф.
Январь 21 1846 г.".
Уже 30 января 1846 г. Бичурин передал на рассмотрение Академии Наук в качестве образца будущего произведения пробный перевод китайского источника (Шицзи) о Коканде, т. е. „Повествование о Давани" Чжан Цяня, легшее в основу одной из глав работы китайского историка Сы-ма Цяня „Исторические записки".
Протокольная запись (на французском языке) заседания третьего отделения (историко-филологического) Академии Наук гласит, что Бичурин „полагал", что краткие заметки истории Китая о разных народах, населявших его, могли бы служить источником для исторических обследований, если б они были: „1) точно переведены, 2) соединены в одно целое, 3) снабжены и разъяснены историческими и географическими примечаниями". Отделение постановило передать представленный Бичуриным образец перевода на рассмотрение академику Броссе.
В июне 1846 г. Броссе дал блестящий отзыв об этом образце работы, которую, как следует из протокольной записи, Бичурин предполагал назвать „Исторические сведения о народах, населявших Среднюю Азию и южные пределы Сибири от древнейших времен до IX в. по P. X.". Броссе остановился в своем отзыве на некоторых весьма существенных деталях. Суть его замечаний сводилась к следующему.
Отметив характер намеченной Бичуриным работы о Джунгарии, Тибете, независимой Татарии и Китае, он указал, что текст, переведенный Бичуриным в качестве образца, уже был в 1826 г. переведен на французский язык Абелем-Ремюзе и опубликован в Nouveau journal Asiatique (т. II, стр. 498 и сл.). На основании опыта французского перевода Броссе считал необходимым:
1) Безукоризненное знание переводчиком китайского языка и снабжение перевода критическим комментарием путем дополнительной выборки из других китайских текстов;
2) Хороший литературный язык перевода, точный перевод всех титулов и терминов, точное указание тома и страницы источника, обозначение дат не только по годам христианской эры, но и по „няньхао", т. е. китайскому летоисчислению.
Броссе, учитывая прошлые труды Бичурина, выражал уверенность, что последний сможет все это сделать, в частности дать „Статистическое описание Китая". Далее Броссе высказал пожелание о снабжении работы картами с древними и современными названиями.
Отмечая 20-летнюю работу Бичурина над этой темой и подчеркивая его авторитет, Броссе, однако, предостерегал переводчика от вольного перевода и приводил отдельные примеры унификации Бичуриным терминов, не соглашаясь, например, с употреблением термина „воевода". Броссе считал также необходимым давать текст полностью и не опускать казавшиеся Бичурину не интересными детали. „В истории,— заключает Броссе,— нет ненужных указаний".
Наконец Броссе рекомендовал перевод делать не на русский язык, поскольку им не пользуются ученые, а, например, на латинский.
Эти замечания, за исключением совета переводить на латинский язык, были приняты Бичуриным и его благодарность за советы была отмечена в протоколе на французском языке как благодарность за instructions. Постепенно эти советы коллеги стали восприниматься как инструкция — программа. Тем самым как бы снижалась исследовательская роль самого Бичурина. Так, в ответе заместителя непременного секретаря ординарного академика Буняков-ского сообщалось:
„Г. члену-корреспонденту Академии Наук отцу Иакинфу
В январе месяце сего года Вы изволили препроводить к г. Непременному Секретарю Академии Наук, для представления на рассмотрение ее, статью о Коканде, с изъявлением готовности, если Академия, судя по этой статье, признает Ваше предложение на счет собрания сведений о Китайской империи полезным для науки, продолжать предположенный труд в пользу академии, причем в вознаграждение издержек Вы изъявили только желание получить со стороны Академии уверение в награде, какую мера и польза Вашего уже оконченного труда заслуживать будет.
Г. Броссе, коему историко-филологическим отделением Академии было поручено рассмотрение Вашей статьи, в донесении своем, представленном Отделению, вполне одобряет предложенную Вами себе задачу и находит только необходимым дать Вам некоторые указания и обратить Ваше внимание на некоторые меры, которые бы Вам надлежало принять для большего усовершенствования Вашего труда и в особенности для содержания его более полезным для ученых, более достойным одобрения Академии, которая, в таком случае, будет иметь возможность удостоить такой труд Ваш желаемым поощрением и необходимым для оного воспоможением, к чему установленные г. Демидовым награды представляют Академии столь большие средства. Историко-филологическое отделение Академии Наук, одобряя со своей стороны таковое представление, постановило препроводить к Вам оное в засвидетельствованной копии для будущих соображений. Статья Ваша при сем также возвращается.
За непр. Секр. Орд. акад. Буняковский."
Подчеркнутое мною слово Букяновского „указания" было в протоколе превращено в инструкцию, а биографами (Н. Щукиным, Н. Веселовским) — в программу. Правда, и сам Бичурин, не придавая особого значения этому термину, употребил его в своем предисловии.
Приступив к обработке своих материалов, собранных, очевидно, еще в Пекине, Бичурин уже в декабре 1847 г. докладывал Академии:
„В продолжении минувших двух лет собирание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, приведено к концу. Остается пояснить сии требует еще не менее двух лет. Но чтобы напрасно не терять время в сем остальном труде, нужным считаю покорнейше просить Вас, Милостливый Государь, представить Академии Наук предисловие, с изложением порядка, которого я держался при переводе текста, по возможности придерживаясь данной мне программы касательно строгой буквальности в изложении; и если Академия не найдет препятствия допустить сей порядок, то я решусь немедленно приступить к окончательной отделке истории древних народов в Средней Азии.
Честь имею быть с истинным к Вашей особе уважением и совершенною преданностью
Вашего Превосходительства Милостливый Государь, покорнейший слуга м(онах) Иакинф.”
Предисловие Бичурина было отослано в Казань на отзыв крупнейшему востоковеду того времени О. Ковалевскому.
26 мая 1848 г. Ковалевский представил в Академию „Записку о предисловии о. Иакинфа к новому его сочинению о среднеазиатских народах".
В этой записке Ковалевский высоко оценивал труд Бичурина, отмечал лишь отрицательное отношение Бичурина к античным авторам, в частности к Геродоту, и „его намерение китайцев пояснить китайцами". О. Ковалевский указал, что не всегда и китайцы были правы в своих исторических свидетельствах.
В заключение своего краткого отзыва Ковалевский писал, что сочинение Бичурина „историкам открывает новые богатые материалы для критической обработки, а нашему отечеству принесет честь первенства в поощрении столь полезного и колоссального труда".
Бичурин, не согласившись с замечаниями Ковалевского, сохранил в основном свой текст, и вскоре работа была представлена в Академию.
17 апреля 1849 г., когда обсуждалось присуждение демидовских премий, Ковалевский дал развернутый отзыв на эту работу Бичурина.
Отзыв Ковалевского, к которому присоединился востоковед И. Войцеховский, был весьма благожелательным для Бичурина. Ковалевский называл работы Бичурина „дорогими подарками". Он отмечал, что „Собрание сведений" — плод 20-летнего труда и является прежде всего источником, данном в прекрасном переводе. Ковалевский писал, что Иакинф „старался передавать их (сведения. —А Б.) буквально, и, может быть, слишком буквально. Намерение нашего синолога быть посредником между древней летописью Китая и нами исполнено добросовестно. И если бы, кажется, мы успели склонить переводчика к литературной отделке его книги, а именно к сглажению угловатостей выражений, в русском переводе верно исчез бы характер китайской летописи. Но как сборник, приготовленный к изданию, имеет в виду послужить только материалом для будущего историка Средней Азии и, следовательно, предназначается для ученых, то, по нашему мнению, он должен остаться в нынешнем виде, без значительного изменения".
Трудно возразить против этой оценки. Справедливы были и пожелания Ковалевского, в частности о необходимости развить указатель. Правильны замечания о недостатках книги — слабости критического аппарата.
Выход книги Бичурина в свет вызвал много рецензий и откликов. К печати Бичурин представил именно „Собрание сведений", а не „Историю", впоследствии часто упоминавшуюся биографами Бичурина. „Историю" он подготовлял, но текст ее, судя по розыскам С. А. Козина, остался не напечатанным. Однако возникает предположение, что „История" и „Собрание" —два варианта одного и того же сочинения. Не случайно некоторые экземпляры издания имеют на переплете в начале названия термин „История", а на титуле — "Собрание”.
Издание книги началось во второй половине 1849 г. В письме Бичурина от 27 июня 1849г. сообщалось, что „рукопись прошла цензурный комитет и что теперь ничто не препятствует приступить к печатанию, а литографирование карты надобно отложить до следующего марта."
По данным Центрального государственного исторического архива в Ленинграде, II и III части (о первой сведений нет) труда Бичурина поступили в цензуру 12 октября 1849 г. и были рассмотрены цензорами Алагиным и Срезневским 16 и 17 октября того же года.
В письме от 8 июня 1850 г. Бичурин хлопочет перед непременным секретарем Академии Наук академиком П. Н. Фуссом об отпуске средств для завершения издания III части и литографирования карты, причем из этого письма следует, что I и II части уже напечатаны. 1 марта 1851 г. Петербургский цензурный комитет выдал билет на выпуск их типографии отпечатанной книги Бичурина в трех частях.
* * *
Остановимся на суждениях современников о последней работе Бичурина. Наиболее крупные рецензии на труд „Собрание сведений" появилась в „Журнале Министерства народного просвещения" (Н. Щукина) и в „Отечественных записках" (Мирза А. Казембек).
Н. Щукин писал: „Наш знаменитый синолог о. Иакинф, несмотря на преклонные лет и слабость, не перестает дарить нас книгами о Китае. Желая сколь возможно объяснить историю народов, обитавших в Средней Азии, он выбрал из двух Китайских Историй все, что казалось ему заслуживающим внимания, и перевел на русский язык. Академия Наук снабдила его пособием из Демидовского капитала, при помощи которого вышла в свет и обогатила нашу историческую литературу.
Взыскательным читателям кажется упущением, что о. Иакинф ограничился только XI столетием по P. X.; другие скажут, почему он не написал Истории полной, а издал только отрывки в виде материалов. На это можно отвечать уже тем, что подобный труд не по силам человеку, перешагнувшему за 70 лет своей жизни. Довольно и того, что сделано. Осуждать берется каждый, но сделать могут не многие. Мы уверены, что каждый истинно ученый, жаждущий познаний исторических, найдет в сочинении о. Иакинфа неисчерпаемый родник".
„Современник" ограничился краткой аннотацией. Отметив, что книга является собранием переводов с китайского, рецензент писал: „ Светский человек не найдет в ней занимательности, о дамах мы и не говорим; но ученый, особенно посвятивший себя русской истории, переберет все ее листочки от доски до доски. К величайшему удивлению он узнает, что южная Сибирь имела обитателей еще до P. X., что по ту и по сю сторону Байкала обитал народ, который китайцы называли динлин, к западу от них в Енисейской губернии жили лагасы (хакасы. — А. Б.), что в нынешней пустынной Монголии задолго до P. X. образовалось ханство Сюн-ну, или, по южному китайскому произношению, Хун-ну, увлекшее отца Дегиня во мнение, что гунны, опустившие Римскую Империю, были монголы. Основатель государства сунну, Модо-хан, по западным азиатским писателям — Агусхан (Огуз-хан-АБ.), распространил свои завоевания далеко на Север в нашей Сибири".