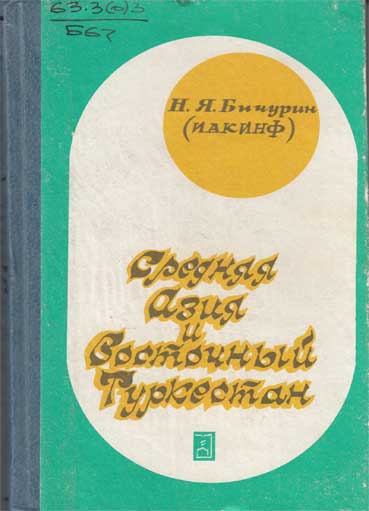Средняя Азия и Восточный Туркестан — Н. Я. Бичурин – Страница 3
| Название: | Средняя Азия и Восточный Туркестан |
| Автор: | Н. Я. Бичурин |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1997 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Судя по этой цитате, рецензент слабо разбирался в специальных вопросах, затронутых книгой, о чем говорят исковерканные, по сравнению с текстом Бичурина собственные имена.
Сам Бичурин написал нечто вроде автореферата, где он объясняет систему работы — перевод китайских подлинных сочинений, ибо, по его мнению, есть три пути исследования: прямой, косвенный и мечтательный (фантасмагорический). Бичурин ратовал за „прямой путь".
Бичурин резко критиковал расистскую теорию Ю. Клапрота, который указывал, что усуни — финского происхождения, на том основании, что они „имели русые волосы и голубые глаза".
Далее он защищает монгольскую теорию, в частности происхождение тюрков-тугю и уйгуров, и отмечает кратко историю создания своего труда и его структуры. Бичурин также сообщает, что он сам изъявил желание собранные им сведения издать в Академии Наук. Предложение (вероятно, имеется в виду Ковалевский) дополнить эти сведения данными греческих и западных (арабско-персидских) авторов Бичурин отвергал на том основании, что китайские сведения — это введения официальные, а греческие и „азиатские" еще сами требуют разъяснения.
В заключение Бичурин сожалеет, что не успел сделать на основе изданных им материалов три исследования:
1) о торговых отношениях „северо-каспийских татар" с Римом;
2) о пути гуннов из Монголии в Европу;
3) разъяснить древнее расселение тунгусских племен.
По поводу этих тем он писал: „желательно, чтобы со
временем наши ориенталисты обратили должное внимание и на сии предметы, не страшась труда, сколько бы ни был он велик и тягостен; а труд этот не мало времени требует для внимательного соображения". Отметим, что эти темы рассматривались востоковедами и в дальнейшем, как темы особо актуальные.
Остановившись на уйгурской проблеме, ставшей в те годы в русском востоковедении (в связи, в частности, с работой известного русского востоковеда Мирзы А. Казембека „К вопросу об уйгурах") одной из животрепещущих тем, Бичурин привлек, пожалуй, первый из синологов, тексты из истории династии Лян, только почти через пятьдесят лет упомянутых известным востоковедом
О. Франке.
Много внимания работе Бичурина посвятил Казембек, который вообще высоко ценил труды его, а „Записки о Монголии” называл „превосходным сочинением".
Казембек справедливо отмечал необходимость критически относится к китайским текстам и указал на недостаток работы — отсутствие комментария и сопоставления с другими источниками. Казембек подошел к труду Бичури-на как к „Истории о народах", а так как, по его мнению, в рецензируемой работе нет истории, то он предлагал для нее даже другое заглавие — "Исторические материалы для изучения народов Средней АзииПо поводу переводов Бичуриным китайских текстов Казембек писал: „Никак не могу вместе с о. Иакинфом слепо верить авторитету китайских летописей и историков, всякий рассказ их считать актом и фактом историческим, не допускать критической обработки этой истории" и т. д.
Далее, сопоставив данные Бичурина с известиями западных источников, рецензент справедливо упрекает его за отсутствие комментария: „Все это было бы полезно объяснить, и никто лучше о. Иакинфа не мог бы этого сделать; но о. Иакинф предоставил самую трудную и интересную часть другим”.
Сравнивая параллельно текст „Собрания сведений" с текстом „записок о Монголии", Казембек отмечает разночтения о переводах Бичурина, особенно в разделах о тюрках-тутю, кагане Далобяне и др.
Среди других замечаний Казембека отметим его критику карты и указателя Бичурина, по мнению Казембека, не облегчающих пользование трудом.
Выше мы касались других рецензий. Критика единодушно упрекала Бичурина в идеализации Китая и всего китайского, „монголизации" ряда древних народов, в слабости комментария и вспомогательного материала.
В целом мы и сейчас разделяем оценку, данную еще в 1851 г. „Собранию сведений”: это был „новый важный труд нашего знаменитого ученого и новое блистательное право на давно приобретенную им известность, как первого синолога в Европе”. Но такая оценка не снимает с нас обязанности отметить и недостатки труда и метода Бичурина.
Мы говорили выше о идеализации Китая автором. Здесь мы остановимся на конкретных научных ошибках Бичурина, связанных главным образом с трудом „Собрание сведений". Бичурин отождествлял этническую принадлежность древних народов с этнической принадлежностью современного населения тех же районов. Так как на территории расселения монгольских племен действовали до господства монголов различные племена — гунны, сяньби, жужане, тюрки-тугю, уйгуры и другие, то они, по Бичурину, являлись не чем иным, как монгольскими племенами. И Бичурин — страстный поклонник и защитник теории монгольского происхождения всех этих народов. Он монголизирует тюрок-тугю, называя их дулга и этимологизируя их имя из монгольского языка, и один из тюркских народов-уйгуров, выступающих в древне-китайских текстах под именем хойху, которых он отождествлял с племенем монгольского происхождения — ойхор. В данном вопросе Бичурин уступал в правильности суждений своим современникам — Клапроту и Казембеку,— установившим, в частности, тюркоязычный характер хойху-уйгуров.
Защите теории монгольского происхождения указанных народов Бичурин посвятил немало труда, и по существу нет такой работы, в которой он не возвращался бы к этому вопросу. Развернутую аргументацию он дал в одной из своих журнальных статей в 1850 г. Он писал: „Китайская статистика И-тхун-чжы показывает восемь единоплеменных владетельных домов, народные названия, последовательно одно за другим. Сии дома были: хунну, ухуань, сяньби, жужаны, дулга, ойхор, сйэяньто, кидань".
Далее он отмечал: „Итак, происхождение монгольского народа и дома монгол, от которого сей народ получил народное название, суть две вещи совершенно различные между собою. Начало монгольского народа восходит слишком за 25 столетий до P. X.; дом монгол, напротив, возник в начале IX, усилился в начале XII, основал Монгольскую империю в начале XIII столетия по Рождестве Христове".
Указание на различное происхождение имени народа и самого народа говорит о первом отдаленном приближении Бичурина к правильной постановке проблем этногенеза.
Бичурин был выдающимся этнографом своего времени, о чем говорят прежде всего его „Записки о Монголии", письма во время путешествий, его труды, посвященные земледелию в Китае и ряд других. Однако он выступает в них как исследователь, теряющий историческую перспективу, идею развития.
Быть может, в этом сильней сказались корни его образования, его среда, против богословского мировоззрения которой он сам выступал всю свою жизнь.
Ошибки Бичурина заключались в том, что он переносил этнографическую характеристику современных народов данной территории (Монголии) на глубокую древность. Здесь сказываются его антиисторические взгляды.
Та же причина привела Бичурина и к другой ошибке: в районах Восточного Туркестана и Средней Азии, где уже его время господствовали уйгуры, узбеки, казахи, китайский термин „ху"— варвары, т. е. „не китайцы", он отождествлял с именем тюрок. Однако китайцы, особенно в этих районах, как правило (за немногими исключениями), под этим термином понимали как раз не тюркские племена, а оседлое, не китайское, главным образом согдийское население, что со всей определенностью выявили труды последующих китаеведов.
Таковы эти наиболее главные ошибки Бичурина в его сочинении „Собрание сведений", возникшие в результате некритического восприятия китайских источников и вытекавшие из его общей исторической концепции.
Бичурин допускал и фактические неточности в комментариях, особенно в племенных и географических названиях. Отчасти это связано с приурочиванием большинства событий к территории Монголии. Он был увлечен монгольской этимологией имен. Ошибки его отчасти объясняются уровнем исторических знаний, данными исторической географии того времени. Эти неточности давно уже были подмечены прежде всего русскими учеными. Укажем, например, на указанное Васильевым и Позднеевым неверное толкование Бичуриным термина Хань хай, который он отождествлял с Байкалом, когда китайские анналы называли так пустыню Гоби (буквально „Песчаная пустыня"); укажем на безоговорочное отождествление древнеферганского города Эрши с Кокандом, современным Бичурину центром Ферганы, и т. п.
Подобного рода неточности не снижают значения переводов Бичурина, блестяще передающих смысл китайского подлинника и, как правило, без существенных и больших пропусков.
Следует оговорить, что Бичурин не ставил перед собой специальных задач узкого филолого-лингвистического плана. Он допускал в переводе унификацию ряда терминов и выражений. Так, например, он сплошь и рядом унифицировал понятия чжанн, дачэнь, гуйжэнь и другие, переводя их словом „старейшина", хотя в китайском подлиннике понятия эти не идентичны. Укажу, что Бичурин, как правило, переводит обозначение оседлых поселений терминов „город", хотя в китайском тексте часты существенные различия (чэн, чэнго, ванду, уши и т. п.), а термин, „чэн", чаще всего употребляемый источниками, имеет в разные эпохи разное содержание. Имеет место у Бичурина вместо точной китайской терминологии некоторая унификация, например, многочисленных названий лошадей (тяньма, шаньма, шэньма и т. п.) термином „аргамак", который китайцы начали употреблять с XV в. Аналогичные неточности встречаются в передаче титулов и терминов родства, изредка в транскрипции собственных имен ("Хынлос" вместо „Талас" и т. п.).
Таким образом, Бичурин, максимально точно придерживаясь смысла текста, не всегда был точен в передаче специальных терминов, обращая в то же время внимание на аутентичную передачу географических названий и собственных имен. Из этого следует необходимость осторожно пользоваться специальной терминологией его переводов, беря ее только в большом контексте. Мало в этом случае помогает сличение переводов авторов, хотя, несомненно, это путь к некоторому предупреждению ошибок. Больше пользы приносила комментаторская литература (основные названия которой приводятся в нашем предисловии, а основные выводы ее учтены в указаниях).
Сам Бичурин постоянно улучшал свои переводы. Он продолжал улучшать и свой последний труд. Н. С. Моллер писала: „В том же году (1851 —А Б.) вышло в свет его последнее сочинение: "О народах, обитавших в Средней Азии”, удостоенное Академией Наук Демидовской премии. Надо думать, что он еще успел просмотреть его до болезни, потому что на находящихся у меня печатных экземплярах этого издания сохранились маленькие поправки, сделанные карандашом и чернилами его рукой".
Однако болезнь, начавшаяся еще с зимы 1850 г., не позволила, видимо, довершить эту работу, а то, что было сделано, до нас не дошло.
Недостатки работы Бичурина, таким образом, очевидны.
Некоторые недочеты в части транскрипции имен, отдельных толкований их и т. д. устраняются в настоящем издании.
Для того, чтобы выявить значение переиздаваемого труда Бичурина, проследим основные этапы развития аналогичной литературы, переводной и реферативной, обобщающей и исследовательской, по темам, затронутым в „Собрании сведений". Литература эта огромна. Она может быть исчислена многими десятками имен и сотнями названий, не говоря уже о рецензиях, откликах, об использовании ее данных в смежных дисциплинах и родственных сюжетах исследования, например, в нумизматике, археологии, этнографии.
Большую известность, несмотря на их крупные недочеты, получили труды француза Дегиня, который в своей „Генеральной истории гуннов, тюрок и прочих татар", вышедшей в 1756 г., фактически дает только пересказ (а не переводы) китайских источников. От него мало чем отличаются Клавдий Висделу в своей „Истории Татарии" и Эрбело в „Восточной библиотеке" .
Если упомянуть еще Майя, который, собственно, сделал перевод маньчжурской версии (а не китайского текста) Тунцзяньганму погодной летописи, посвященной истории Китая (до XII в.), положенной в основу многих поздних историй страны, например, Кордье, то этим можно ограничить перечень названий для XVIII в.
Тогда еще оставались неизвестными современникам труды русских исследователей Китая XVII—XVIII вв. (Спафарий, Унковский и др.).
Первая половина XIX в. связана с именами Абеля-Ремюза и Юлиуса Клапрота. Труды первого были ближе к китайским подлинникам, чем второго. Абеля Ремюза больше интересовали проблемы Восточного Туркестана, а основу его трудов составляли главным образом китайские же сводки и энциклопедии типа Ма Дуань-линя. Политолог Ю. Клапрот опирался также на переводы и сводки, давая в своих трудах главным образом пересказы и рефераты или переводы трудов других ученых, например того же Бичурина.
Современники Бичурина — Шмидт и Шотт, позднее Габелентц и другие, хотя и опирались иногда на подлинный Китайский текст, предпочитая маньжчурские переводы, по существу пересказы, но ограничивали свои интересы в этой части, главным образом, исследованием одного из народов, например, монголоязычных киданей или тюркоязычных кыргызов-хакасов.
Бичурин был первым европейским ученым, вставшим последовательно на путь публикации переводов китайских подлинников. Уже в этом его огромная заслуга перед русской и мировой наукой.
Уже после Бичурина на путь исследования китайского подлинника стал Станислав Жюльен с серией своих переводов сочинений Сюана Цзана или об уйгурах, но и он опирался на китайские же сводки весьма позднего времени, вроде раздела об иноземцах ("бянь-и-дянь" и Тушуцзячэн XVII в.), извлечения из Ма Дуань-линя (XIV в.)10 или сочинения Сиюйвэнь-цзяньлу (XVIII в.).
Накопленные в первой половине XIX в. материалы давали возможность перейти к истолкованию текстов. Среди авторов XIX в. выступают многочисленные интерпретаторы, они же порой являлись и переводчиками текстов.
Так, например, Плат, Пфицмайер, Вайли продолжали переводить тексты о гуннах, Паркер о „скифо-тюрских племенах". Последний подвизался на поприще историка с весьма заумными и для того времени теориями.
Кингсмилл и Хирт вели длительный спор по интерпретации данных китайских источников. Хирту принадлежат крупные работы на темы, разработанные Бичуриным в „Собрании сведений".
Открытие русским ученым Ядринцевым в 1889 г. древнетюркских стел на Орхове и изучение их двумя экспедициями — финляндской (1890) и русской (1891) — снова оживили интерес к этим проблемам. Историографический обзор этих работ уже имел место в советской печати.
Частным проявлением интереса к этим проблемам было возобновление работы над переводами китайских текстов, и труд Бичурина оказывал помощь исследователям. Рефераты и отдельные извлечения о тюрках принадлежали Ф. Хирту, а основная сводка, напечатанная в трудах Российской Академии Наук — Э. Шаванну. Несмотря на существенные достоинства перевода и комментария, а также привлечение новых текстов, пороком труда Шаванна является замалчивание им русских исследований. Труд Бичурина к этому времени насчитывал почти 50-летнюю давность, что было уже отмечено В. В. Бартольдом.
„Несмотря на все преимущества»—писал он,—которые дают автору основательное изучение китайских источников и несомненный талант к историческим обобщениям, пассив его труда, как мы постараемся показать, значительно превышает актив: вопрос о том, заслуживает ли эта часть книги (Общий обзор истории западных тюрок,—А. Б.) чести быть напечатанной в изданиях Академии Наук, представляется нам по меньшей мере спорным, Каковы бы ни были недостатки русских работ, едва ли можно утверждать, что для изучения истории входящих в пределы России областей в России сделано так мало, а в Западной Европе так много, чтобы Академия Наук имела основание печатать в своих изданиях работу западноевропейского ученого, для которого все написанное на русский язык как бы не существует".
Открытие на Орохоне рунических стел вновь оживило интерес к предшественникам древних тюрок — гуннам и связанным с последними народам. В прямой связи с этим развертывается новый цикл работ по гуннской тематике того же Кингсмилла, Хирта, Шаванна, Ширатори, Галуна, Пелльо, из русских ученых — Иловайского, Погодина, Веселовского, Панова и многих других, в значительной степени нашедших свое библиографическое отражение в известной сводке К. Иностранцева.
Импульсом для оживления интереса к китайским источникам о народах и странах „большой" Средней Азии явился успех экспедиций в Синьцзян. Русские первооткрыватели древностей Синьцзяна — Чокан Валиханов (1856), Регель (1879), Петровский (1882), Клеменц (1898) возбудили интерес русской и западноевропейской науки. Многочисленные открытия заставили вновь обратиться к китайским текстам. Работы К. Юара об оазисах и народах Синьцзяна, О. Франке о сако-гуннских племенах и их миграциях, Херманна и торговых путях, переводы Э. Шаванна, С. Леви о паломниках типа Ицзин и Укун, переиздания трудов Билла и Бретшнейдера и т. д. охватывают большое количество проблем по истории народов этих стран.
Все сильнее и явственнее выступают в этих работах империалистические захватнические стремления, обоснование расистской, пангерманистской точки зрения, развиваемой особенно активно в связи с тохарским вопросом. Наиболее откровенные заявления по этому вопросу принадлежат немецким ученым — от Э. Мейера до А. Херманна.
Характерный чертой этих исследований являлось сопоставление данных китайских источников с данными западных авторов, античных, древнеперсидских и других. Этим, кроме указанных авторов, занимался раньше Мар-кварт, работы которого еще В. Тураев характеризовал как „соединение огромной эрудиции с запутанностью изложения и недостатком критики". В согласии с этой оценкой были замечания В. Розена и В. Бартольда .
В содружестве с Марквартом работал Де Гроот, выпустивший два тома переводов китайских текстов о гуннах до н. э., весьма скептически встреченных Цахом, заявившим, в частности, что „транскрипция Гроота не имеет значения, точнее, прямо фальшива".
В 1917 г. в американском востоковедном журнале появился новый перевод Ф. Хирта о путешествии в Фергану Чжан Цяня. В Америке же была напечатана монография М. Говерна, претендовавшая на общую историческую сводку китайских известий в объеме, равном труду Бичурина, но не учитывавшая его. Подобные же недостатки свойственны были и последней работе аналогичного плана, выпущенной Эберхардтом в Турции, что было нами отмечено в специальной рецензии.
Широкое использование китайских источников по переводам, стоявшим по уровню во всяком случае не выше, если не ниже бичуринских, отмечу, например, у Тарна, Ростовцева и у других, концепции которых были подвергнуты критике в советской печати.
Проблемы, затрагиваемые в переиздаваемом труде Бичурина, получили развитие в исследованиях советских ученых. Напомним, что достаточно много внимания было уделено его труду в связи с работой над историей народов СССР. Широко пользовались трудами Бичурина В. Бартольд и Н. Кюнер. История гуннов и тюрок Средней Азии, отчасти северных народов, на основе источников, привлеченных Бичуриным, и некоторых дополнений к ним, отражена в наших работах. Проблемы истории народов Средней и Центральной Азии неоднократно освещались в работах С. П. Толстова. В связи с историей Китая и Синьцзяна прежде всего следует отметить дополнения к переводам Бичурина в работах Л. Думана. По истории Сибири и Средней Азии к Переводам Бичурина обращались и обогащали их критическими сопоставлениями с археологическим материалом и другими источниками С. В. Киселев, А. П. Окладников, М. П. Грязное, Л. П. Потапов, Л. А. Мацулевич, К. В. Тревер, А. Ю. Якубовский, Н. В. Пигулевская и многие другие.
Мы пытались в этих предельно сжатых выборочных данных показать развитие тематики, поднятой работой Бичурина.
История науки показала непереходящее значение его труда. По настоящее время имеет силу слова Н. Веселовского, сказанные о трудах Бичурина: „Он в полном смысле слова положил у нас начало изучению китайской империи и ее вассальных земель, возбудив интерес в обществе к крайнему востоку, показал, какую возможность имеет для изучения Средней Азии богатейшая китайская литература, проложил путь для работ другим синологам. К этому надо прибавить, что труды Иакинфа доселе почти не устарели и ни один исследователь прошлого Средней и Северо-Восточной Азии не может обойтись без них. Масса новых сведений, внесенных в науку отцом Иакинфом и отличное знание многих вопросов вполне искупают те недостатки, от которых его труды не свободны, которые к тому же были до известной степени общими всем ученым работам того времени".
С высокой оценкой Бичурина выступал В. Бартольд, который в 1923 году писал, что благодаря трудам Бичурина „русская синология еще в 1851 и 1852 гг. опередила западноевропейскую. Этим переводом почти исключительно пользовались ученые, писавшие в России, хотя бы на иностранных языках".
Были, правда, русские ученые и при жизни Бичурина и после его смерти, которые не оценили в полной мере его трудов, предпочитая обращаться за помощью к „заморским" авторитетам. И среди некоторой части советских ученых мы наблюдаем недооценку трудов Бичурина. Редко, скупо, всего два раза, да и то по отдельным трудам, оценен Бичурин в сборнике „Китай". Как справедливы слова самого Бичурина, который с горечью писал: „Привычка руководствоваться чужими, готовыми мнениями, неумение смотреть, особенно изданными на отечественном языке; своему-то как-то не верится; то ли дело сослаться на какой-нибудь европейский авторитет, на какого-нибудь, иноземного писателя, хотя тот так же не имел понятия о деле".
Однако прогрессивные русские ученые, и тем более советские ученые, с уважением относились и относятся к Бичурину, беспрестанно обращаясь к его трудам, особенно к „Собранию сведений".
Так, С. П. Толстов в специальном экскурсе в своей книге „Древний Хорезм", сравнивая с китайским подлинником переводы Бичурина Жюльена и Шаванна, приходит к выводу о несомненном преимуществе переводов Бичурина.