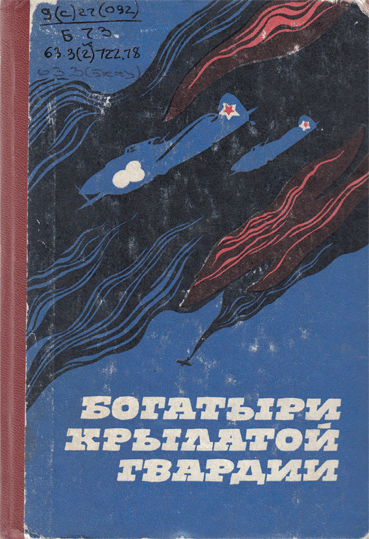Богатыри Крылатой Гвардии — П. С. Белан – Страница 16
| Название: | Богатыри Крылатой Гвардии |
| Автор: | П. С. Белан |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1984 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
В этот день три экипажа не вернулись на свою базу, а четыре других, оставив горящие самолеты, спаслись на парашютах и добрались в полк на попутных машинах. Из пятнадцати оставшихся в части экипажей шесть оказались «безлошадными». И принял командир решение «обезличить» самолеты. Теперь летали все экипажи, независимо от того, за кем из них закреплен самолет. Пока один экипаж находится в воздухе, другой, получив боевое задание, ждет его возвращения на земле. Только сели самолеты, заправились горючим, боеприпасами — и снова уходят на задание, но уже с другим экипажем на борту. Вот и получалось, что каждый самолет делал теперь до десяти боевых вылетов в день.
В начале сентября Брянский фронт, усиленный дивизиями из резерва Верховного Главнокомандования, перешел в контрнаступление и оттеснял противника на несколько километров. Прибавилось на фронте и авиации. Полк получил восемь новых- машин, и Байтурсун. снова стал единоличным хозяином своего самолета. Снова бомбили танки и аэродромы врага. Так было и 14 сентября. Первый вылет прошел благополучно. И во втором аккуратно обработали цель —стоянку «юнкерсов» на одном из заречных аэродромов. Но как только стали возвращаться на свою базу, налетели истребители противника. Отбивались всем экипажем, как могли, но «мессера» изрешетили своими снарядами плоскости и фюзеляж, а главное — вывели из строя гидросистему. Заклинило оба двигателя. Кое-как перетянув., линию фронта, Есеркепов посадил самолет на пашню, не выпуская шасси. В части их уже не ждали. Тем радостнее встретили однополчане явившийся под вечер экипаж. Летчик, штурман и стрелок пришли пешком. Каждый нес с собой парашют. А штурман не забыл снять с приборной доски часы — могут пригодиться.
Сколько было радости, когда пересели на новый великолепный фронтовой бомбардировщик Петлякова! Отличный это был самолет, Пе-2. И по скорости, и по маневренности мало чем уступал истребителям. Уверенно чувствовал: себя на нем экипаж. И навигационное оборудование великолепное. Бомбы, особенно сброшенные с пикирования, ложатся точно.
Но и летом сорок второго перебазирования с аэродрома, на аэродром производились в горьком направлении — на восток... До самого Дона. И разгорелась Сталинградская битва.
Лейтенант Есеркепов, опытный боевой летчик, становится командиром звена. По нескольку раз в день поднимал он четверку «петляковых» для бомбовых ударов по ближним тылам противника, его аэродромам, скоплениям рвавшихся к Волге танков. Потом — удары по вражеский войскам, пытавшимся прийти на помощь добиваемой окружении армии Паулюса... Здесь, под Сталинградом, пришла к летчику первая боевая награда — орден Красной Звезды.
Настала пора, когда соединение, ставшее 5-й гвардейской бомбардировочной авиадивизией, меняя аэродромы, производило перебазирования только в западном направлении. Западный фронт. Белорусский. 1-й и 2-й Прибалтийские, 3-й Белорусский... За мужество, проявленное ц дни Сталинградской битвы, лейтенант Есеркепов награжден орденом Отечественной войны I степени, на Западном фронте — орденом Красного Знамени, на Прибалтийском — орденами Отечественной войны обеих степей и вторым орденом Красного Знамени.
С августа 1942 года и депоследних дней войны экипаж, с которым летал Есеркепов, оставался неизменным. Это был дружный комсомольский экипаж. Сам командир под Сталинградом был принят в ряды партии. О нем не раз писали фронтовые газеты, а в «Красной звезде» статья сопровождалась фотографией: все трое у готового к боевому вылету самолета. Сохранилось в семейном альбоме Есеркеповых выцветшее фото: у развернутого знамени гвардейского полка стоят командир экипажа капитан Байтурсун Есеркепов, штурман Кадес Имашев, стрелок-раднст Тулебай Таджибаев.
Передо мной дорогая реликвия — сохранившийся номер газеты 1-го Прибалтийского фронта «Кызыласкер акыйкаты» («Красноармейская правда») 2-го Прибалтийского фронта от 1 ноября 1944 года. В ней помещены стихи Т. Муканова, посвященные экипажу Байтурсуна Есеркепова, которого поэт знал давно — по детскому дому, где вместе росли, по школе, в которой учились. Рядом — портрет Байтурсуна работы известного художника-графика О. Верейского.
О штурмане экипажа следует сказать особо. Это второе «я» командира. От него зависит точность курса, меткость бомбометания, успех боевого вылета в целом. А достался Байтурсуну Есеркепову отлично подготовленный и опытный штурман.
Кадес Имашев на два года моложе Есеркепова. В 1939-м, когда его будущий командир уже летал на Скоростном бомбардировщике, он только окончил техникум и поступил по комсомольской путевке в авиационное училище. В январе сорок первого стал штурманом (в ту пору эта профессия называлась так: летчик-наблюдатель). На фронт попал в начале июля сорок первого, воевал под Минском. Но использовался не по специальности — был пилотом самолета У-2 отдельной эскадрильи связи при штабе Западного фронта. Лишь в июне 1942-го прошел переподготовку на штурмана на Пе-2, а в августе, как и стрелок-радист Тулебай Таджибаев, оказался в экипаже Есеркепова, по просьбе которого был сформирован экипаж.
А было это так. Полк базировался тогда за Доном, на одном из аэродромов Сталинградского фронта. Под вечер пролетел фашистский самолет-разведчик, сбросил целее облачко листовок и скрылся. Часть листовок занесло на самолетную стоянку. Пошли они на раскур, читать их не стали: текст был не на русском языке. Летчики отдыхали, обменивались впечатлениями боевого дня, когда к Байтур суну подошел комиссар полка и протянул листовку:
— Не по-казахски ли написано?
Оказалось, что фашистская листовка действительно была на казахском языке и призывала воинов нерусской национальности перейти на сторону врага...
Дружно засмеялись летчики. А всегда спокойный, уравновешенный Байтурсун вспылил:
— Нашлись «освободители»! Фашистские хари! Меня русские люди от верной смерти спасли, образование дали, летчиком сделали... Кадес, пойдешь в мой экипаж?... Разрешите, товарищ комиссар, сформировать казахский комсомольский экипаж...
На следующий день на машине Есеркенова появилась надпись: .«За Советский Казахстан».
Воевал дружный экипаж напористо и умело, защищая Сталинград, а затем уничтожая живую силу и технику окруженной группировки врага. Здесь и летчик и штурман были награждены орденами. С той же отвагой сражались друзья и на Северо-Кавказском фронте. Их бомбовые удары были неизменно точны, от истребителей противника отбивались всегда удачно... Впрочем, случались и неудачи. Например, в памятный для экипажа день 15 мая 1943 года. Успешно сбросив бомбы на укрепления врага, Пе-2 возвращался на свой аэродром. Но в районе станции Киевской его атаковали «мессершмитты». Кажется, успешно отбивались все — летчик, штурман, стрелок-радист. Потом Байтурсун заставил машину нырнуть вниз, пикированием набрал скорость. Отстали преследователи.
— Все живы?— спросил Есеркепов.
Но как только вышли из пике, самолет запылал. Попал -таки один снаряд в бензобаки... Бросая машину с крыла на крыло, летчик кое-как утихомирил пламя; перетянули через передовую на свою территорию и плюхнулись, не выпуская шасси, на землю. Сбежались колхозники, помогли погасить горящую машину. На попутных машинах, а большей частью пешком, экипаж добрался до своего аэродрома.
Потом были бои за освобождение Советской Прибалтики. И здесь экипаж Есеркепова—теперь уже заместителя командира эскадрильи — славился боевыми делами. Тогда-то и появились статьи о Байтурсуне Есеркепове, его штурмане и воздушном стрелке в газетах.
А в апреле сорок пятого произошел тот бой, когда не стало стрелка-радиста Тулебая Таджибаева,
Война давно уже бушевала в глубине фашистской Германии, но оставался еще кусок советской земли, занятый врагом,— часть Советской Латвии, где окопалась гитлеровская армия, группа «Курляндия». Уничтожением этой группы и были заняты войска 2-го Прибалтийского фронта. Большая роль в решении этой задачи отводилась бомбардировочной авиации, методично уничтожавшей опорные пункты гитлеровцев.
В тот апрельский день эскадрилья «петляковых» встретилась с большой группой вражеских истребителей. Четверкой навалились они на самолет Байтурсуна. Но меткий огонь из пушек, который вел командир, удерживал их от лобовых атак. А атаки с задней полусферы успешно отражал стрелок-радист. Вырвались! Эскадрилья без потерь возвращалась на базу. Вдруг в самолетном переговорном устройстве прозвучал голос Тулебая: «Я, кажется, ранен. Наблюдение вести не могу»... Это были его последние слова.
В июне 1945-го капитан Есеркепов был направлен в дальнюю ответственную командировку, Кадес Имашев продолжал службу в Военно-Воздушных Силах более пятнадцати послевоенных лет. Ушел в запас в звании майора. Обрел новую профессию, поныне работает инженером одного из отделов Госснаба республики. К многочисленным боевым наградам прибавилась и награда за труд — Почетная грамота Верховного Совета Казахской ССР. Оказавшись в Алма-Ате, он вскоре встретился с майором Байтурсуном Есеркеповым, вышедшим в запас три года назад.
На 206-м боевом вылете закончилась для Байтурсуна Есеркепова война. А служба продолжалась еще двенадцать лет. Очередной осмотр на врачебно-летной комиссии обнаружил у летчика неполадки в «моторе», и командира эскадрильи отстранили от летной работы.
Приехал в Алма-Ату и стал инспектором отдела кадров строительного треста. Долго обижался на врачей, вынудивших его расстаться е авиацией. Но боли в сердце со временем становились все более явными. Пришлось и вовсе отказаться от постоянной работы. Домовничает Байтурсун, а на работу в университет каждый день отправляется жена — кандидат географических наук Татьяна Агеевна Есеркепова, однополчанка, друг фронтовых лет.
Дружба эта началась в сорок втором, под Сталинградом. Когда техник-лейтенант Таня Демидина служила той же 5-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии метеорологом...
Выросли у них дети: сын биолог, две дочери - метеоролог и музыкант. Растут внуки...
Приходит навестить Кадес, и вспоминают боевые друзья своих товарищей военных лет. Бывшего командира эскадрильи Анатолия Быкова, полковника в отставке Николая Брынзу — бывшего штурмана эскадрильи. Недавно умершего командира полка Александра Калачикова.
Навещаем его товарищи по Алма-Атинскому аэроклубу и Оренбургской авиашколе. И нам есть о чем вспомнить...
И вдруг — звонок:
— Таня говорит. Скончался Байтурсун...
Это было в начале марта 1982 года. Инфаркт миокарда. Как сказал бы сам Байтурсун: «Движок отказал окончательно»...
Василий Панкратьев
„ПОД НАМИ РЕЙХСТАГ!..."
Павел Федорович Блинов в гостях у школьников. Они не сводят горящих любопытных глаз с его золотой звездочки Героя. Разговор должен получиться. Но с чего он начнется? Поднялась чья-то несмелая рука в задних рядах. Завуч, молодая строгая женщина, что сидит в президиуме рядом с гостем, кивает головой, мол, говори. Мальчик спрашивает:
- Какой у вас самый-самый памятный день в жизни?
Павел Федорович задумался. Какой же? Вручение Золотой Звезды, конечно, событие памятное и волнующее. Но были и другие дни. Вот хотя бы этот...
Фашистская Германия доживала последние недели. Бои шли в самом Берлине, Город горел: над ним с рассвета дотемна летали наши бомбардировщики и штурмовики, уничтожая последние опорные пункты врага. Блинов, возглавлявший группу из двенадцати штурмовиков, не сразу нашел «окно» в стелящемся над Берлином дыму, через которое можно было сбросить бомбы на цель. Когда, наконец, удалось обнаружить просвет, он увидел под крылом куполообразную крышу хорошо знакомого по иллюстрациям здания. Тут же передал по радио:
— Под нами — рейхстаг!
— Видим,— ответили штурмовики.
- Приготовится к атаке!
Рейхстаг только ориентир. Его приказано не трогать, сохранить как архитектурный памятник для новой Германии. Цель находилась впереди, в полутора километрах севернее, где замечено большое скопление «королевских тигров» и пехотных подразделений. По этой цели и нужно нанести удар с воздуха, чтобы помочь наземным войскам в разгроме остатков берлинского гарнизона.
Блинов направил свой штурмовик на фашистские танки За ним последовала вся группа. Вниз полетели бомбы. Было видно, как от мощных взрывов медленно расходятся стены зданий и рушатся на землю, поднимая столбы пыли.
— В эти бомбовые удары,— вспоминает сейчас Павел Федорович,— мы вкладывали всю ненависть к врагу. На каждом «иле» - по две 200-килограммовых бомбочки.
Восемь вылетов сделала группа Блинова на Берлин в числе сотен других групп. Недолго продержались гитлеровцы. Не спасли их ни каменные стены, ни бронированные бункеры.
— Господство в воздухе было за нами,— продолжал Павел Федорович. — Не то, что в начале войны...
Блинов вспоминает 1942 год. Первое боевое крещение он принял на Калининском фронте. У гитлеровцев тогда было явное превосходство в технике. А что может быть обиднее, когда в небе на один-два советских «ястребка» десяток фашистских самолетов. Но и в таких случаях нашим летчикам не изменяла отвага. Павел Федорович прибыл на фронт хорошо подготовленным пилотом, быстро освоил ночные полеты. Работал в училище инструктором, давно рвался на фронт, наконец-то добился своего. Боевые вылеты, конечно, оказались намного сложнее учебных. В воздухе по тебе бьют вражеские зенитки, жалят истребители. Успевай только поворачиваться. Но без победы в часть не возвращались.
В одном из первых боевых вылетов звену Блинова была поставлена задача вывести из строя железную дорогу, которую гитлеровцы построили для вывоза своих войск из демянского мешка. При подходе к цели противник встретил штурмовиков сильным зенитным огнем. Однако «илы» прорвались через него и начали бомбить. Около полутора часов кружили они над целью, пока не подошла вторая группа штурмовиков. За это время был взорван паровоз, подожжено 16 автомашин, уничтожено огнем пулеметов большое количество живой силы врага. Блинов был отмечен тогда орденом Красного Знамении.
После Калининского фронта попал на Воронежский, затем на Степной, Особенно ожесточенные бои шли на Стенном фронте. Приходилось делать по 5-6 вылетов в день.
Блинов специализировался на «свободной охоте». Ему везло. Из полетов всегда возвращался цел и невредим. Только на крыльях и фюзеляже — пробоины. Через час-полтора их залатают на аэродроме, и летчик снова готов подняться в воздух. В это время как раз начались осенние дожди. Густые облака висели низко, над самой землей. Гитлеровская авиация притаилась на аэродромах: погода, мол, нелетная. А советские асы продолжали летать.
Под покровом облаков Блинов заходил глубоко в тыл противника, и там накрывал цели бомбами, «эрэсами», обстреливал из пулеметов и пушек. Однажды, когда уже отбомбился, на выходе из боя вражеский снаряд угодил в масляный радиатор его самолета. Мотор заклинило, дым в кабине. Медлить нельзя. Доберется пламя до баков с бензином— машина взорвется. Надо прыгать! Его обдало тугой, влажной струей воздуха. Не успел достигнуть земли, как самолет взорвался. Обломки его упали почти рядом, в болото.
Спрятав парашют, Блинов до вечера отсиживался в камышах, с наступлением сумерек, выбрался из болота, подошел к деревне. Она была вся в развалинах. На улице ни души. Но чутье подсказывало: кто-нибудь да остался. Стал искать людей. И нашел. В одном из погребов наткнулся на женщину с детьми. Перепутанные зверствами гитлеровцев, продрогшие, голодные, они вторые сутки скрывались в этом сыром убежище. Глядя на них, Павел вспомнил свою семью, оставшуюся далеко в тылу. Но и там жизнь сейчас нелегкая. Отец и старшие братья на фронте. Из мужчин один столетний дед остался. Он давно уже не мог трудиться, зато как гордился внуком, который стал летчиком.
В гражданскую войну, когда колчаковцы близко подходили к его родному городу, дед накатал на сковородках картечь положил в котомку буханку черного хлеба да пару запасных лаптей и отправился с берданкой за плечами защищать молодую Советскую власть. Вернулся домой через год израненный, но довольный: Красная Армия разгромила белогвардейцев и интервентов, и была в этой победе и его доля участия. Теперь вот его внуку Пашке приходится отстаивать Советскую власть... Горько на душе у Павла. Далеко зашел враг. Сколько на его пути осталось таких вот обездоленных, как это семья. Сколько советских людей погублено, угнано в неметчину.
Приютившая Блинова колхозница добыла для него кое-какую одежонку — жеваные, в заплатах брюки, такую же рубаху и пиджак. Благодарный летник оставил ей свое обмундирование, шлемофон, сапоги, портупею, взял с собой пистолет, компас и карту и направился к своим — на восток, через линию фронта.
А как ее пройдешь? Всюду гитлеровские войска. Идти можно только ночью, сторонясь дорог. Шесть ночей пробирался он. Без пиши. Когда миновал линию вражеских траншей, ему свои же пехотинцы намяли ребра, приняв за шпиона. Еле упросил, чтобы отвели ж командиру. Тот связался со своим начальством, и скоро Блинов стоял перед командиром авиационного корпуса В. Рязановым, рассказывал, как добирался через фронт, что видел на пути.
— Молодец!—похвалил Блинова генерал и отправил в полк, где его уже посчитали погибшим и послали «похоронку» родным. Для поправки здоровья командир дал ему отпуск на родину.
— Прибыл я домой ночью,— рассказывает Павел Федорович,— стучу в окно. Откликается мать: «Кто там?». Говорю: сын твой, Павел. Не верит. Наконец трясущимися руками открыла дверь, зажгла свет и — в слезы. Дед терпел-терпел, да прикрикнул на нее: что, мол, обливаешь парня слезами, собирай скорее на стол...
Быстро пролетели дни отпуска. Блинов снова в родном полку. Еще больше окрепла его ненависть к врагу. Она неудержимо звала в бой. Когда нельзя было идти группой; Павел Федорович летел один, на «свободную охоту».
В один из таких вылетов, идя низко над землей, Блинов обнаружил на станции Чернозем под Великими Луками 12 железнодорожных эшелонов противника. Как потом подтвердили партизаны, здесь скопилось более полутора тысяч вражеских солдат, около 150 автомашин, танки. Блинов сделал заход на цель. Бомбы попали в состав с горючим. Над железнодорожным полотном взметнулся столб дыма и огня. Горела вагоны, солдаты в панике разбегались.
Летчик решил еще раз пройтись над целью. Но слишком низко: взрывная волна повредила его же самолет... Он едва дотянул до своего аэродрома.
Хорошо запомнился Блинову и групповой вылет на Кировоградский аэродром, где базировались неприятельские самолеты. Вел группу командир полка майор Компаниец. Шли к цели бреющим полетом. Этим и была обеспечена внезапность удара. 58 фашистских самолетов были уничтожены огнем советских штурмовиков.
О дерзком налете на Гитлеровский аэродром в Хуши (Румыния) Блинову напоминают осколки, оставшиеся в теле с тех далеких времен. Он первым со своей шестеркой прибыл к цели, чтобы еще до подхода основных сил подавить зенитный огонь и разбомбить взлетную полосу. Задачу удалось выполнить успешно. Но при выходе из атаки вражеский снаряд угодил в фонарь кабины. Осколки стекла вонзились в грудь, лицо. Кровь заливала глаза. Обратно группу вел другой командир, Блинов же едва дотянул своего аэродрома в хвосте.
Когда на Сандомирском плацдарме, советские танкисты вырвались далеко вперед и оказались без поддержки пехоты, выручить их могла только авиация. Но на беду начались затяжные дожди. Густая облачность заволокла небо. Посланные на поиск танкового авангарда группы самолетов вернулись ни с чем. Шестерка лейтенанта Блинова была четвертой. Договорились еще на земле держаться друг друга крылом к крылу. Блинов, давно освоивший полеты вне видимости земли, свободно ориентировался в обстановке, хотя облачность оказалась чуть ли не сплошной. Только на подходе к цели небо прояснилось, и летчик сразу увидел: на опушке леса наши танки. А к ним приближаются восемь немецких «тигров» в сопровождении пехоты.
Шестерка Блинова стала в круг, и летчики по одному начали пикировать на цель. Пехоту расстреливали из пулеметов, танки —«эрэсами» и бомбами кумулятивного действия.
Группа уже заканчивала работу, когда на смену ей по указанным координатам пришла другая.
Во время возвращения шестерки домой ведущего вызвал по радио командир авиационного корпуса генерал В. Рязанов.
— Я—«Гроза-3», задание выполнил,— доложил Блинов. А о том, как сработала шестерка, генерал уже узнал от танкистов. Об этом сообщили в штаб фронта и там уже было принято решение. Генералу Рязанову оставалось только передать его:
— Поздравляю, Павел Федорович, со званием Героя Советского Союза.
А спустя недели полторы командующий фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев вручил Павлу Федоровичу Блинову орден Ленина, Золотую Звезду Героя и Грамоту Верховного Совета СССР.
В небе над Берлином и Прагой П. Ф. Блинов воевал уже Героем Советского Союза, штурманом авиационного полка. За годы Великой Отечественной войны им совершено более ста боевых вылетов. Он сбил в групповых и одиночных боях пять фашистских стервятников, сжег на земле десятки вражеских самолетов, четыре склада с боеприпасами, три склада и девять цистерн с горючим, уничтожил 24 танка, 198 автомашин с пехотой и грузами 30 повозок, 350 фашистских солдат и офицеров, разбомбил переправу через реку и пять дзотов. Таков боевой счет Героя. Его ратные подвиги отмечены орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени и Александра Невского, многими медалями.
После окончания войны Павел Федорович продолжал службу в рядах Советской Армии, затем перешел в органы Министерства внутренних дел Казахской ССР. К его боевым наградам прибавились награды и поощрения за безупречный мирный труд. Ныне офицер в отставке П. Ф. Блинов на заслуженном отдыхе. Он ведет большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, часто выступает в -школах, училищах с рассказами о боевых подвигах однополчан, о товарищах навсегда оставшихся на полях войны.
Андрей Изотов
ТРЕТИЙ ЧЛЕН ЭКИПАЖА
Когда отправляется в полет бомбардировщик Пе-2, на его борту неизменно находятся трое. Управляет машиной летчик, он же командир экипажа. Курс прокладывает штурман. А позади сидит стрелок-радист, поддерживающий связь с землей, с командным пунктом своего полка.
Если же вражеские истребители попытаются атаковать «петлякова», то и на этот случай обязанности членов экипажа заранее известны. Командир управляет огнем крыльевых пушек. Верхнюю полусферу защищает своими пулеметами штурман, задняя — на совести стрелка-радиста, третьего члена экипажа.
Именно о них, земляках и однополчанах моих, сражавшихся с врагом в роли стрелков-радистов, и пойдет речь.
...Не так давно коллектив Лениногорского полиметаллического комбината чествовал своего ветерана Ивана Кузьмича Ошкина, проработавшего здесь тридцать лег. Много добрых слов высказали в адрес почетного горняка парторг шахты имени 40-летия комсомола Дауля Ахметова, главный специалист обогатительной фабрики Матрена Ульянова, директор комбината Сергей Фабричное, другие товарищи по труду.
Потом выступил сам юбиляр:
— Я давно разменял седьмой десяток,— сказал он,— получил право на пенсию, на отдых, которого, сознаюсь, не хватало мне и в годы войны и в течение последующих десятилетий нелегкой горняцкой жизни. Но не могу позволить себе этого, ибо тружусь, не только выполняя свой личный гражданский долг, но и за товарищей моих, которых взяла война...