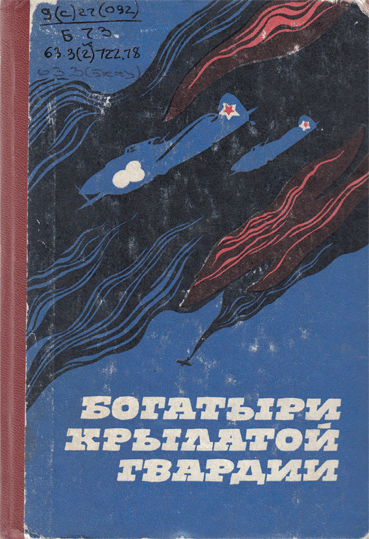Богатыри Крылатой Гвардии — П. С. Белан – Страница 22
| Название: | Богатыри Крылатой Гвардии |
| Автор: | П. С. Белан |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1984 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Когда мы взяли курс «домой», на заснеженном поле, чадя черным дымом, догорало полтора десятка танков.
Пришел с работы. Мне протягивают конверт. Вскрыл в нем фотография. Да это же Дука! Дука Баневич. Прочел письмо и как бы снова оказался в горах далекой Югославии, в военном сорок четвертом году...
«Лихой был летчик,— подумалось мне.—Стоп. Почему, собственно, был? Может, он и сейчас летает? Конечно же, нет. Дука старше меня лет на семь, а я-то уже в отставке...»
Живо представилась наша первая встреча с этим горячим, стремительным в движениях симпатичным парнем, который с первых же слов заявил, что зря назначили его в штурмовой авиаполк, не по характеру, мол, ему наши «илы».
— Я — ловац,— чуть не кричал он.— Понимаешь? Ловац я... Ну, как это по-русски?
— Летчик-истребитель,— подсказал я ему по догадке.
Пошумел Дука и успокоился. Приказ есть приказ. Стал летать на Ил-2, причем весьма успешно. Вспомнить хотя бы, как вместе ходили бомбить мост через Драву, Мы стояли тогда на аэродроме Господинцы, что неподалеку от города Нови-Сад. И дата запомнилась: 16 ноября сорок четверо того...
Все годы войны мы с горячим сочувствием следили за событиями в Югославии, за бескомпромиссной борьбой, которую вела партизанская армия Иосипа Броз Тито против гитлеровцев. Сражались в ней и стар и млад. Были здесь и авиаторы, но воевали они, так сказать, в пешем строю: своих военно-воздушных сил у народно-освободительной армии Югославии не было. И вот в октябре 1944 года была достигнута договоренность об оказании помощи братскому народу в создании собственной боевой авиации. Поначалу югославские летчики и техники были распределены по нашим полкам, бок о бок с советскими коллегами выполняли боевые задания. Запомнилось, что югославы полетными картами почти не пользовались. Район боевых действий они знали великолепно, ведь это были родные для них места.
Обстановка на фронте складывалась так, что гитлеровское командование убедилось: Балканы им не удержать Возвращаясь с разведзадания, экипажи докладывали: отходят фашистские колонны из Греции, Албании, Югославии по железным дорогам и автострадам. Надо было лишить их этой возможности, а для этого уничтожить мост через Драву у города Осчек.
Должен сказать, что в приказах командования не применялось выражение «бомбить», а предписывалось энергичное: «уничтожить». Мы то и дело бомбили мост, но уничтожить его долге не удавалось. С высоты полутора тысяч метров мост выглядит тоненькой ниточкой. Попробуй, попади в нее... С малой высоты сделать это легче, но мешают горы. Вот и ходили на высоте. А на подходе к цели встречал нас такой густой заградительный огонь зениток, что не подступиться. Возвращались на свой аэродром злые, угрюмые. Техники встречали нас молча, не спрашивали даже о том, как работала в воздухе материальная часть. Надо докладывать командованию о результатах полета. Но о чем Докладывать? Что и на этот раз задание не выполнено. Что экипаж лейтенанта Сидельникова не вернулся. Об этом? Стоял летчики и толковали о том, как быть дальше. Подошел к нам Александр Михайлович Мирошкин, замполит. Как всегда, мягко и ненавязчиво заговорил:
— А знаете, ребята, есть идея, давайте обсудим ее... Кажется, всем теперь ясно, что бомбить мост с высоты бесполезно. Цель узкая, а главное — зенитки не дают работать...
— Так горы же кругом,— перебил замполита лейтенант Филимонов.— Бреющим пойдешь — в горы врежешься.
— Вот-вот, так и гитлеровцы рассуждают, как ты, Славик. Поэтому уверены в своей неприступности. А это не так...
И замполит выложил суть своей идеи.
Автострада тянется по низине, а зенитки стоят на склонах гор. Бьют Они вверх Отлично, а вниз стволы отклоняются только в пределах пяти градусов. Вот и надо снарядить три пары лучших бомбардиров и пустить их на малой высоте. Отличный есть для них ориентир — купол старинной Церкви. Здесь они развернутся и вдоль автострады выйдут на мост. А для верности обычным маршрутом пойдет отвлекающая группа. Пока зенитчики будут на нее замахиваться, ударная труппа дело сделает. Только все должно быть рассчитано до секунды...
Идея всем понравилась. Одобрил ее и командир полка, внеся в план некоторые уточнения. В последнюю минуту в ударную группу включили и Дуку Баневича. Он сумел убедить командира полка майора Рассмотрова, что будет полезен, так как хорошо знает эти места.
Вылетели. Солнце медленно опускалось к горизонту, вот-вот вспыхнет под его лучами церковный купол — наш ориентир. Несколько впереди слева по курсу идет отвлекающая группа. Ей-то особенно трудно — их первыми засекут вражеские зенитчики... Вот и выскочили мы на автостраду. До цели не более трех километров — тридцать секунд полета.
Вижу - зенитки бьют по отвлекающей группе. Некоторое время она продолжает идти к цели, затем, как бы не выдержав огня, отворачивает и сбрасывает бомбы довольно небрежно. Пусть фашисты думают, что отпугнули штурмовиков.
Справа мне сигналит Дука, показывает рукой вниз. Дорога буквально забита войсками и техникой противника. Идем на такой малой высоте, что видны искаженные ужасом лица. Но нам не до них. Одна у нас цель — мост! Только он. И только сейчас. Другого вылета быть не должно.
Сброшены бомбы. Нет моста. Разворачиваюсь и прямо-таки прижимаю машину к ленте Дравы. Ясно вижу: фермы обрушены.
На аэродроме подошел, ко мне Дука. Усталый, вытирая пот с лица, сказал:
Ну, Николай, теперь нам жить лет до ста, не меньше...
Жив Дука. Письмо прислал!
ПОСЛЕДНИЙ „МЕССЕРШМИТТ"
Вот и встретился я со своим бывшим ведомым Константином Николаевичем Сидельниковым. Вспомнили на этот раз, как вместе летали на «охоту».
...Это было в марте сорок пятого в Югославии, у населенного пункта Доля-Михоляц. Мы видели, как фашистские зенитчики открыли огонь по американской «летающей крепости». А она, как на грех словно зависла в воздухе, давая возможность расстреливать себя безнаказанно. Помочь американским летчикам мы не успели: уже горел мотор на левой плоскости их машины, другой снаряд угодил в фюзеляж. Огромная махина стала беспорядочно падать. В темных пятнах разрывов появились девять парашютистов.
Нам хотелось как можно скорее наказать врага, и казалось, что наш самолет движется к цели ужасно медленнее
— Я вам не «крепость»,— мысленно твердил я.— Вы «ила», как черт ладана, боитесь. Сейчас забьетесь в свор щели!—Подаю команду Косте:— Приготовиться к атаке... Атака!
Ввожу; самолет в пикирование. Перекрестие прицела останавливаю на окопе зенитного орудия. Высота 800... 700... 600 метров. Короткая команда: «Бросай!». Успеваю заметить внизу у орудия суетящиеся серо-зеленые фигурки.
Первый заход оказался удачным: на месте орудия черной глазницей зияла воронка.
Во время второго воздушный стрелок Иван Подсветов доложил:
— Командир, справа выше вижу два «мессера». У них под крыльями большие бомбы.
Откуда здесь они? Мы ведь точно знали, что гитлеровское командование не располагает аэродромами в данном районе.
Хотя самолеты были еще далеко, наметанный глаз по характерным тонким длинным фюзеляжам определил надоевший всем за годы войны Мессершмитт-109. Непривычно было видеть под их крыльями большие веретенообразные предметы.
Самолеты противника, увидев нас, пошли на сближение. От их плоскостей отделились... не бомбы, как нам показалось вначале, а баки.
Оценив обстановку (рядом их истребители, значит вражеских зениток нечего бояться), я принял решение атаковать артпозиции и затем на бреющем полете принять бой с уходом на свою территорию.
Подаю ведомому команду атаковать и ввожу самолет в пикирование.
— Огонь! Выводи! «Ножницы»!
«Ножницы» мы с Костей натренировались делать хорошо, и при всяком удобном случае не упускали возможности воспользоваться этим маневром.
Произведя атаку и начав маневр на «ножницы», я посмотрел в маленькое зеркальце (моя личная рационализация): гитлеровские самолеты совсем близко — 400—500 метров — и вот-вот откроют огонь. Чуть-чуть «даю ногу» на скольжение. Этой маленькой хитрости противник обычно не замечает, и пулеметная или пушечная очередь попадает в край плоскости или же проходит мимо самолета. Вот и сейчас очередь фашиста прошла рядом.
— Командир!—слышу голос воздушного стрелка Под-светова. Это означает, что он будет вести прицельный огонь по самолету противника и я несколько секунд не должен производить маневра.
— Давай!—отвечаю ему, и мои руки и ноги замирают на рычагах управления. Одновременно слежу, как мой ведомый огромным усилием доворачивает свою машину на атакующего его «мессера». Еще мгновение — и от Костиного самолета потянулась огненная трасса. В то же время за моей бронеспинкой раздались три короткие очереди. Объятый пламенем и черным дымом «мессершмитт» упал на землю.
— Костя, как ты?
— Он промазал,— коротко доложил ведомый и через несколько секунд тревожно добавил:—Командир, температура воды растет...
Через полторы-две минуты мотор заклинило, и Сидельников пошел на вынужденную. Но это было уже в расположении войск наших союзников: на этом участке фронта стояли болгарские войска.
Я остался один на один с вражеским истребителем. Немец оказался осторожным и, судя по всему, опытным летчиком. Он упрямо не хотел меня отпускать и летел параллельным курсом. Я же держался у склона горы так, чтобы он не мог меня атаковать. Противник, очевидно, ждал, когда я выйду на равнину, и там он попытается меня «съесть». Я мучительно думал, как поступить. И вдруг меня осенило: навести этого нахала на аэродром наших истребителей! Сообщил на КП братского полка нашей дивизии (она была смешанной) о создавшейся обстановке.
— Веди, встретим!—ответили мне.
Там «моего» фашиста поджидала четверка «яков». Самолет был подожжен, а летчик приземлился на парашюте.
На второй день мы узнали, что мой «опытный» противник
оказался всего-навсего «желторотым цыпленком». Летную
школу окончил в феврале сорок пятого. Как только сбили
его ведущего, решил сдаться в плен. Потому и летел рядом
со мной. А мне-то показалось — тактик, хитрец...
Саид Джилкишев
ВСТРЕЧИ С БОЕВЫМИ ДРУЗЬЯМИ
Автор «Встреч» пришел в авиацию, окончив школу воздухоплавания Гражданского воздушного флота. Пройдя войну U отдав еще ряд лет службе в советских Вооруженных Силах, он вернулся в Казахстан и работал до преклонного возраста в системе Аэрофлота. История гражданской авиации нашей республики еще не написана, и Саид Демеубаевич неутомимо собирает материалы для нее. Рассказы о том, как сражались ветераны Аэрофлота республики на фронтах Великой Отечественной войны лишь малая доля того, что им собрано. Все мы, его товарищи, от души благодарим автора за этот большой и нужный труд.
Н А. Кузнецов,
дважды Герой Социалистического
Труда, заслуженный пилот СССР
Пошатнувшееся здоровье вынудило меня оставить службу в Вооруженных Силах и в звании подполковника выйти в отставку. Мне не пришлось долго думать над тем, чем теперь заниматься. Авиатор с солидным стажем, я направился в Казахское управление гражданской авиации, где получил должность начальника Алма-Атинского аэровокзала, а некоторое время спустя был назначен заместителем начальника аэропорта по координации служб движения, перевозок и авиационно-технической базы.
В системе Аэрофлота я встретился со многими друзьями. Одни были моими близкими товарищами с детских лет, с другими подружился в предвоенное время или на фронте, с третьими впервые повстречался только в послевоенные годы. Со всеми связывает меня крепкая дружба. Тем и отличается работа в авиации, что требует предельной сплоченности представителей всех служб, высокой дисциплины и организованности.
Стареют и уходят ветераны. И не оставляет меня сознание долга перед теми, кто более полувека назад проложил первые тропы в небе Казахстана, в годы Великой Отечественной войны пересел за штурвалы боевых машин и внес свой вклад в дело Победы. Вернувшись с фронта, они снова стали трудится на трассах мирного неба. Вот почему я посвятил много лет сбору материалов об истории гражданской авиации Казахстана, о ее замечательных людях. Несколько рассказов о них и предлагается вниманию читателей.
* * *
Прежде всего расскажу о давнем своем товарище Хасане Мингеевиче Ибатулине. Его путь в авиацию начинался не так, как у большинства работников Аэрофлота.
В первые годы Советской власти мало кто из моих ровесников видел настоящий самолет. Только понаслышке знали о «железной птице». Лишь коренным алмаатинцам (в том числе и мне) довелось увидеть в 1919 году «сопвич» красного военлета Александра Шаврова. А в последующие годы в казахстанском небе самолеты появлялись лишь изредка, рождая в потомственных чабанах и табунщиках мечту о полете.
Что же касается Хасана Ибатулина, то ему особенно повезло: родился в Оренбурге, где в середине двадцатых годов обосновалась известная на всю страну военно-авиационная школа. летчиков и летчиков-наблюдателей. Гул авиационных моторов был знаком ему с детских лет. Поэтому не было для него вопроса кем быть. Только летчиком! Едва минуло Хасану восемнадцать, как стал он обивать пороги военкомата, горкома комсомола и добился своего. Благополучно прошел строгие мандатную и медицинскую комиссии и стал учлетом. Здесь же, в Оренбурге.
В 1936 году сменил Хасан скромную гимнастерку курсанта на темно-синий френч лейтенанта-авиатора. Получил направление в Белорусский военный округ, в авиабригаду, дислоцировавшуюся в Гомеле. Успешно проходили годы службы и никогда не прекращающейся для летчика учебы. Вот он уже старший летчик, командир звена. А в знаменитом походе по освобождению западных областей Украины и Белоруссии в сентябре 1939 года участвовал будучи комиссаром эскадрильи.
160-й истребительный авиаполк 43-й авиадивизии, где служил заместителем командира эскадрильи старший лейтенант Хасан Ибатулин, весной сорок первого все чаще поднимали по тревоге. Это были учебные тревоги, за которыми следовал отбой. А на рассвете 22 июня тревога оказалась боевой. Без отбоя. Война!
Вероломно вторгшиеся и продвигавшиеся по дорогам Белоруссии вражеские полчища получали отпор. Уже на второй день войны, отражая налет вражеских бомбардировщиков в районе Гродно, Хасан одержал первую победу— уничтожил фашистский «юнкере». Открытие летчиком-истребителем его боевого счета было ознаменовано правительственной наградой. 25 июня 1941-го, когда, закончив очередной боевой вылет, Хасан Ибатулин вернулся на свой аэродром, однополчане бросились к нему с поздравлением: опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении его орденом Красной Звезды.
Горькое лето сорок первого! Храбро сражались защитники Страны Советов. Но враг был силен. И на земле и в воздухе превосходил он советские войска в живой силе и технике. Вот уже переправляется враг через Березину. Хасан и его однополчане то и дело вылетают на штурмовку его переправ. И новые перебазирования. В глубь страны.
К самой Москве приблизился фронт. Не хватает аэродромов, и оснащенный истребителями И-153 (их называли «чайками») полк использует для взлетов и посадок асфальт шоссейных дорог...
Нанося сокрушительные удары по врагу, полк нес серьезные потери. В районе Вязьмы получили пополнение и — снова на фронт, на прикрытие конных корпусов генералов П. А. Белова и И. А. Плиева, проводивших рейдовые операции во вражеских тылах. Отбросили фашистов от нашей столицы.
Осенью 1942 года капитан Ибатулин становится участником Сталинградской битвы. Дивизия вошла в состав 16-й воздушной армии генерала С. И. Руденко. С ней Хасан, командир эскадрильи истребителей, прошел все последующие сражения. Участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Варшавы. Командиром гвардейского истребительного авиаполка дошел до Берлина.
С большой любовью рассказывает Хасан Мингеевич о своих боевых товарищах. О себе говорит неохотно, больше о них. Например, об И. Д. Мамонове, который отличился в воздушных схватках при освобождении Варшавы.
Четверка истребителей во главе с гвардии старшим лейтенантом Мамоновым прикрывала переправу советских войск через Вислу у Мангушевского плацдарма. Вдруг показалась целая воздушная армада противника. Как выяснилось впоследствии, на наши войска собрались сбросить бомбовый груз 30 бомбардировщиков Ю-87 под прикрытием истребителей ФВ-190. Фашисты шли в четком боевом строю: чего им опасаться, располагая такой силищей! Ошиблись они. Четверка советских истребителей врезалась в строй противника и расколола его. «Юнкерсы», не дойдя до переправы, сбросили бомбы на позиции своих войск. Гвардейцы вернулись на аэродром без единой потери. Так воевали летчики Хасана Ибатулина.
С гордостью рассказывает Хасан о храбрости и мужестве, проявленных в воздушных схватках боевыми соратниками из 1-й авиадивизии Войска Польского. Хорошо воюется, когда рядом верные друзья. 18 апреля 1945 года в совместном с польскими летчиками воздушном бою Хасан Ибатулин сжег два фашистских самолета...
А всего за годы войны Хасан Мингеевич сбил 15 самолетов врага, совершив 456 боевых вылетов. Он награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды.
В 1960 году полковник Ибатулин вышел по состоянию здоровья в отставку. Но с авиацией расставаться не захотел, Стал начальником Алма-Атинского аэропорта. Мне довелось работать под его началом. И подружились мы с ним именно в ту пору. Потом он был директором завода. Только в пожилом возрасте опытный авиатору комсомолец С 1927 года и член КПСС с 1938-го, Хасан Мингеевич Ибатулин позволил себе уйти на заслуженный отдых.
* * *
С ветераном Аэрофлота Салихом Ахметовым меня связывает крепкая дружба уже более тридцати лет. Наслышан же был об этом замечательном летчике еще в довоенные годы.
Конечно, вспоминаются те, кто были первыми. Среди первых казахов-летчиков был комсомолец Салих Ахметов. Уроженец Баянаульского района Павлодарской области, он никогда не видел самолета, но авиацией «заболел» с детства и добился комсомольской путевки в Тамбовскую летную школу ГВФ.
В 1936 году Салих становится линейным пилотом Южно-Казахстанского управления Гражданского воздушного флота. Не так уж много их было тогда, линейных пилотов, и приходилось выполнять задания самого различного рода: перевозить пассажиров, почту, народнохозяйственные грузы, производить аэрофотосъемку, распылять ядохимикаты на полях. Со временем он садится за штурвал пассажирского самолета ПС-9 и летает по республиканским и союзным трассам.
Когда началась Великая Отечественная война, из лучших летчиков гражданской авиации были созданы авиагруппы ГВФ. В составе Московской авиагруппы была эскадрилья, которой командовал известный летчик С. Н. Шарыкин. В сентябре сорок первого она была развернута в особую авиагруппу, на которую возлагалось выполнение оперативных задач, а с осени 1942 года группа С. Н. Шарыкина была преобразована в 3-ю отдельную авиадивизию связи ГВФ. В этом соединении прошел Салих всю войну, которая закончилась для него после разгрома милитаристской Японии.
Не случайно были отобраны в это соединение наиболее подготовленные летчики. Ответственнейшие задания возлагались на них. Приходилось Ахметову перевозить на различные фронты офицеров и генералов Генерального штаба, доставлявших командующим фронтами оперативные документы. Не раз приземлял он свою машину в чистом поле, в расположении войск, сражавшихся во вражеском тылу.
Не вправе командир корабля, на борту которого находятся важные оперативные документы, попадать под огонь истребителей противника, быть сбитым зенитным огнем. Но как избежать нежелательных встреч! Хорошо, когда погода нелетная. Чем хуже метеоусловия, тем лучше. Это он усвоил с первых дней. Но авиасвязь — оперативная связь. Летать приходится не только ночью, в пургу и ливень, но и в ясные, солнечные дни. И всегда финал должен быть один: благополучное возвращение и доклад о том, что задание выполнено. И не было случая, чтобы полет окончился для Салиха иначе. Хотя доставались эти слова—«задание выполнено»— ой как нелегко.
Однажды Салих полетел в тыл врага с заданием отыскать сражавшееся в окружении соединение наших войск, с которым связь была прервана. Летчик сумел его обнаружить и разведать пути, по которым им можно было оказать необходимую помощь. Но, возвращаясь назад, самолет попал под массированный заградительный зенитный огонь. Выручили хладнокровие и мастерство. Четким маневром Ахметов ушел от огня. И, как всегда спокойный, Салих развернул перед пославшим его командиром полетную карту со своими пометками и доложил:
— Ваше задание выполнено!
Много ответственных полетов на связь совершил Салих Ахметов. Он сажал свою машину в осажденном Ленинградде, летал к защитникам Сталинграда и Кавказ, возил офицеров связи в войска, участвовавшие в Курской битве, летал и в хмурых небесах Дальнего Востока.
Пришел конец войне. Расформированы соединение ГВФ. Окончив курсы высшей летной подготовки, Салих Ахметов снова садится за штурвал мирного воздушного корабля. И возит пассажиров на самолетах различных марок, знаменующих собой развитие гражданской авиации нашей страны. После Ли-2 летает на Ил-12, на Ил-14, становится командиром авиаподразделения, летчики которого пересаживаются на современные, реактивные лайнеры. Более 25 тысяч часов провел Салих Ахметов в воздухе, налетал свыше семи миллионов километров. Сотни витков вокруг земного шара по космическому счету... К боевым наградам прибавились награды за труд: ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, Почетная грамота Верховного Совета Казахской ССР. И доверие земляков, избравших его в 1948 году депутатом Алма-Атинского городского Совета.
Коммунист с 1940 года, Салих Ахметов и после ухода на пенсию остается в строю, к его советам внимательно прислушиваются молодые авиаторы.
Шестерых детей воспитал Салих, все получили высшее образование, стали скромными и неутомимыми тружениками. А старший сын пошел по стопам отца: он авиационный инженер.