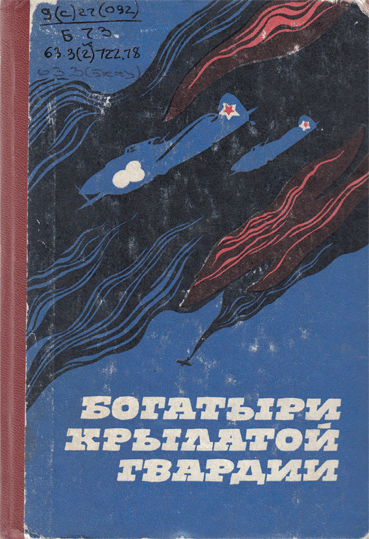Богатыри Крылатой Гвардии — П. С. Белан – Страница 7
| Название: | Богатыри Крылатой Гвардии |
| Автор: | П. С. Белан |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1984 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Во время очередного разворота ощетинились огнем зенитки.
— Береза-ноль два,— назвал командир эскадрильи позывной своего заместителя.— Атакуйте «эрликоны»!
Анатолий Брандыс словно ждал этой команды: отвернул в сторону и увел звено к позиции скорострельных пушек. А Беда с остальными экипажами нащупывал новые танки. Летчики стреляли по ним, по траншеям и ходам сообщения, пулеметным гнездам...
К исходу шестого дня Восточно-Прусской операции оборона врага была взломана на широком фронте, и наши войска, преодолевая рубеж за рубежом, продвигались вперед. А в небе гудели моторы. Штурмовики крушили огневые точки, что преграждали пехоте дорогу...
...Шли бои на подступах к Балтийскому морю. По нашим наземным частям била береговая артиллерия противника. Гвардии капитан Беда прибыл по вызову в штаб. Приказ командира полка был краток?
— Уничтожить!—На карте он указал координаты.-— Вероятно, здесь она, эта артиллерия. Надо уничтожить.
На доразведку вылетели Вадим Дойчев и Александр Васйльчук. Через пять минут в небо поднялась и ударная группa. Изредка Беда выходил на связь с Дойчевым. Неожиданно в разговор вмещалась земля:
- Ваша цель справа по курсу, в южной част лесного массива.
Леонид хотел было ответить: «Понял. Иду на цель!» Но сдержался. На карте он увидел, что в том место, кроме заболоченного леса, ничего не было. К тому же «земной» корреспондент не назвал пароль. Значит, это фашистский радист-провокатор пытается ввести его в заблуждение. Не выйдет!
Тем временем раздался голос Вадима Дойчева:
— Цель вижу! Квадрат сорок два!
Командир эскадрильи приказал разведчикам примкнуть к группе. «Ильюшины» зашли на цель. Оберегавшие батарею зенитчики открыли огонь. Небо усеялось лохматыми «шапками». Но каждый летчик уже нацелился на «свою» орудийную установку. На батарею врага посыпались бомбы.
Гвардии младший лейтенант Васильчук летел вслед за Дойчевым. Он видел, как от самолета командира звена отделились четыре «сотки», и сам сбросил бомбы на соседнее орудие, стал ждать, когда же ведущий начнет выводить машину из пикирования. И тут увидел: за самолетом тянется струйка дыма, из-под капота вырвалось пламя. Штурмовик упал в центре батарей и взорвался. Вадим Дойчев погиб вместе со стрелком на глазах у всей эскадрильи.
Собрав экипажи, Беда повел их на позицию зенитчиков. Четыре захода выполнили они. На позициях не осталось ни одного уцелевшего орудия.
Вскоре появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вадиму Пантелеймоновичу Дойчеву звания Героя Советского Союза посмертно. Тем же Указом— от 19 апреля 1945 года —звания Героя Советского Союза был удостоен и штурман полка Н. И. Семейко. А два дня спустя Николай Илларионович погиб. Гвардии капитану Семейко было всего двадцать два года.
29 июня 1945 года Л. И. Беда был отмечен второй медалью «Золотая Звезда». Дважды Героями Советского Союза стали и его однополчане А. Я. Брандыс и А. К. Недбайло. Гвардии капитан Н. И. Семейко был награжден второй медалью «Золотая Звезда» посмертно.
Многие однополчане Леонида Беды отдали жизнь за нашу Победу. И она пришла. Пришла вместе с теплыми майскими ветрами и щедрым солнцем, яркими тюльпанами и буйной светло-розовой кипенью цветущих садов. Она ворвалась в сердца человеческие волной невыразимой радости, ни с чем не сравнимого счастья. Нет, Победа не пришла сама по себе. Советские воины шли к ней сквозь пламя боев и сражений. Маршрутами отваги и подвигов летели к ней и гвардейцы 75-го штурмового авиационного полка.
Доблестно сражался за нашу Победу и Л. И. Беда. 213 раз поднимался он в суровое небо войны. 213 раз летал сквозь огонь с единой мыслью — победить! Летал рядом со смертью, но остался жив. Не удалось врагу отлить ту пулю, выточить тот снаряд, которые сразили бы отважного витязя неба.
В последние годы жизни, став командующим авиацией Краснознаменного Белорусского военного округа, генерал-лейтенант авиации Л. И. Беда щедро передавал фронтовой опыт новому поколению воздушных бойцов. Высокая боевая выучка летчиков и штурманов, всех воинов-авиаторов округа, их готовность к подвигу — все это было его главной заботой. Он не знал покоя, всегда был там, где труднее. В груди его билось орлиное сердце — сердце летчика-штурмовика, героя, коммуниста
Николай Колточник
ФОРМУЛА СЕРГЕЯ ЛУГАНСКОГО
Генерал-майор авиации Сергей Данилович Луганский родился 1 октября 1918 года в Алма-Ате. В 1938 году окончил Оренбургскую школу летчиков. Сражался в полках истребительной авиации против белофиннов зимой 1939/40 года, против немецко-фашистских захватчиков на Южном, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах в должности командира эскадрильи, с 1944 года командовал истребительным авиационным полком. Совершил 390 боевых вылетов, лично сбил 37 вражеских самолетов и еще семь — в групповых воздушных боях. Впервые удостоен звания Героя Советского Союза 2 сентября 1943 года, вторично— 1 июля 1944-го. В 1949 году окончил Военно-воздушную академию. Занимал в советских Военно-Воздушных Силах крупные командные посты, передавая авиаторам свой огромный опыт летника-истребителя. В 1964 году из-за плохого состояния здоровья вышел в отставку. Умер в Алма-Ате 16 января 1977 года. В столице Казахстана установлен бронзовый бюст дважды Героя.
Генерал проводил урок мужества. В той самой школе, в которой учился много лет назад. Той и й| той. И здание уже не то—новым учебным корпусом обзавелась школа,—и учителя другие, молодые. Даже старшие из них сели за школьную парту, когда будущий генерал уже покинул ее. Впрочем, с одной учительницей, давней знакомой, они только что горячо обнялись у школьных дверей. С учительницей географии Галиной. Леонидовной Бальхозиной, бывшей одноклассницей...
Встала строгая девушка с комсомольским значком на школьном фартуке, назвалась и сказала:
— Товарищ генерал, мы всем классом советовались перед вашим приходом и решили начать прямо с вопросов. Ваши книги мы читали, вот мы и решили... биографию знаем отлично, вот мы и решили...
Девушка запуталась вконец, несколько раз повторила свое «мы решили», но закончить фразу так и не сумела.
— Вас понял,— сказал генерал. - Вы решили что не стоит давать мне вступительного слова, а предлагаете сразу же отвечать на приготовленные вопросы. Согласен. Задавайте их. Мы действительно сэкономим на этом уйму времени, поскольку биографию мою и без того знаете.
Встал паренек и задал первый Boпpoc: что такое героизм?..
Много раз генерал встречался со школьниками, молодыми рабочими, учениками профтехучилищ, и всегда ему задавали этот вопрос одним из первых... Воображения у ребят маловато? Да нет же, им важно получить ответ из первых уст. Хотя заранее его знают. Из книг. Из поучений старших. Из кинофильмов. И он, понимая это, рассказывал о своих товарищах, их отваге, мужестве, в конечном счете — о героизме.
А теперь он вспоминал. Вспомнил Ивана Ивановича Попова, командира полка. Летал он, «как бог». И тактиком был превосходным. А нет его давно...
Это было в конце лета сорок первого, под Ростовом. Прикрывали наземные войска всем полком. Когда показались «мессершмитты», Попов повел летчиков в атаку. На ведущего «мессера» пошел в лоб, не сворачивая. Свернуть, спасаясь от прямого тарана, пришлось фашисту. Подставился под огонь ЛаГГа и был сбит первой же очередью. Командйр полка решил набрать высоту, чтобы изготовиться к новой атаке. Но тут другой «мессер» поджег его самолет... Горько было возвращаться из победного в целом боя: шесть самолетов сбили, в том числе два «мессершмитта» Луганский уничтожил, только один ЛаГГ потеряли. Но на нем-то и был Иван Попов! Тяжелый был урок, но — урок. Поняли все тогда, что тяжеловатый ЛаГГ уступает «мессершмитту» в вертикальном маневре. Против них только горизонтальный годится, только бой на глубоких виражах...
Тихо было в классе. Генерал молчал, опустив тяжелые веки. Ребята смотрели на него не без жалости: в этот момент он казался им совсем старым. А генералу не было еще и пятидесяти. Да болезнь, как известно, не красит...
— Вот я и говорю,— прервал Сергей Данилович томительную паузу.— Вот я и говорю, что одной смелости мало. Без умения нет героя. Я бы предложил такую формулу героизма: смелость плюс верность своей Родине, плюс товарищеская взаимовыручка, плюс мастерство. Не может стать героем трус, И храбрый незнайка. И самолюбец, не думающий о своих товарищах, о Родине своей. Только сплав всех этих качеств... —Он снова вспомнил гибель Ивана Попова и продолжил: — Конечно, и мастера погибают, на то и война. Да и пуля, как и в суворовские времена, Дура. От прицельного огня можно увернуться маневром, а от шального снаряда...
— Вы говорите, одной храбрости мало,— поднялся чернявый мальчик с ломким не то от волнения, не то от возраста голосом,— а Саша Матросов...
— Не так прост был Саша, как может показаться,— сказал генерал.— Александр Матросов знал, что делает, на что идет. Если бы пошел он на дот без ума, то и трех шагов не сделал бы. Видимо, хорошо владел мастерством солдата, если сумел невредимым добраться до самой амбразуры. Мастерство помогло. А подняли его на подвиг бессмертный все остальные качества война-комсомольца, храбрость, верность Родине, готовность жизнь отдать за товарищей своих. Так-то...
Теперь уже ребята надолго замолчали под взглядом помолодевшего на глазах генерала. И не сразу встал паренек с очередным вопросом. Тоже, впрочем, слышанным бессчетное количество раз:
— Какие качества нам, молодым, нужно воспитывать в себе в первую очередь?
— Я так понимаю. Вам хотелось бы знать, как найти свое место в жизни. Так я говорю?
— Так, пожалуй,— неуверенно подтвердил паренек.
— Конечно — так. И вы, конечно, знаете, что для этого нужно прилежно учиться, не чураться никакой работы, найти свое призвание. Все это я готов подтвердить хоть под присягой. Одного не могу: помочь каждому из вас найти свое призвание. Это так же трудно, как посоветовать, кого полюбить на всю жизнь... А это очень важно — найти подругу или друга — чтобы на всю жизнь. И профессию такую избрать, чтобы не жалеть потом. Многие из вас мечтают, наверное, стать космонавтами. Может, кто нибудь и станет. Но это не массовая профессия. Я уже не говорю о том, что космонавтами становятся летчики и инженеры, врачи и биологи. Космосу нужны специалисты самые разные. Кстати, кто из вас решил стать врачом?
Поднялись две руки.
— А педагогом?
Молчание. Ни одна рука не поднялась.
—А ветеринарным врачом?
Снова — молчание...
— А я,— продолжал генерал»—уверен, что будут из вас и инженеры, и врачи, и ветеринары, и токари, и сварщики. Кто-то сразу найдет свое призвание, кто-то — не вдруг. Во всем нашем классе одна Галочка — извините меня, Галина Леонидовна,— она одна не раз говорила, что станет учительницей, обязательно географичкой. И стала. И мне повезло: совпали мечта и реальные возможности, природные данные. А могли и не совпасть...
И рассказал Сергей Данилович о давнем разговоре, участником которого был много лет назад, когда заканчивал учебу в Оренбургском летном училище.
Командир учебной эскадрильи майор Петр Маслов давно приглядывался к курсанту Луганскому. Его и Мишу Дрызлова он хотел рекомендовать в летчики-инструкторы и часто беседовал с ними. Зашел разговор о курсанте, которого решено было отчислить из школы. Очень хотелось парню летать. Плакал даже по ночам. Но не шло у него дело дальше полетов на учебной машине. «Можно и его научить,— говорил старый летчик-педагог,— но не следует этого делать. Внимание у него рассеянное. Не сегодня, так через неделю или через год это скажется».
— Парня отчислили,— продолжал Сергей Данилович.— Погоревал он и пошел в строители. Потом много раз читал о нем. На строительстве Куйбышевской ГЭС отличился, на Бухтарминской, на Капчагайской. Стал Героем Социалистического Труда. Не знал он смолоду своего истинного призвания, но нашел его, как видите... Советую: пока учитесь, помните, что учеба — это труд, что работа в мастерских — это учеба. Что в семье, помогая родителям, вы учитесь жить. Если будете относиться ко всему этому серьезно, по-взрослому, вы с максимальной точностью выйдете на свое призвание... А мне, повторяю, повезло. Приехал в Оренбург, и с первых «шагов» в воздухе понял — вот она, вся моя будущая жизнь...
В начале шестидесятых годов окончилась военная служба для многих ровесников Сергея Луганского. Оказались в Алма-Ате и некоторые из его оренбургских однокашников. Четверть века не встречались мы, и вот такая возможность появилась. И, конечно, было о чем поговорить, что поведать друг другу. Вспоминали друзей, которых взяла война, инструкторов — аэроклубных и оренбургских, старшину Аристова, что учил нас мгновенно исполнять команды «подъем» и «отбой», походной песне учил. Каждая эскадрилья имела свою. А четвертая пела:
"3а вечный мир в последний бой
Лети, стальная эскадрилья...
И, конечно, о том, кто где воевал. После школы разбросало всех в разные места. Про Борю (так звали по школьной привычке Байтурсуна Есеркепова) все в сорок четвертом в «Красной звезде» читали. И о Сергее Луганском много раз.
— Ни разу не встречался с Серегой за всю войну и после нее тоже,—сказал один из участников беседы.
И все заулыбались, вспомнив его курсантскую кличку: «ШКАС». Так назывался сконструированный Шпитальным и Комарицким авиационный пулемет, считавшийся самым скорострельным в мире— 1800 выстрелов в минуту.
И тут впервые высказался Владимир Яковлевич Козлов, отличавшийся еще в годы учебы малословием и прозванный поэтому Молчуном. Заговорил ладным, давно знакомым баском:
— А я-то с Серегой встречался. В боях под Ростовом в сорок первом в одном полку оказались.
Случай этот был слишком известным, чтобы не знать р нем. В авиации слухи во все времена распространялись быстро. Теперь мы узнали подробности.
Шла эскадрилья на захваченный фашистами Ростов Удачно отштурмовались по фашистским колоннам, продвигавшимся к фронту, несколько заходов сделали. Боеприпасы и горючее на исходе, пора возвращаться. Но вновь короткая и жестокая стычка с «мессершмйттами». Подбит самолет Ивана Глухих. Он посадил машину, не выпуская шасси, на захваченной врагом земле. Уже бегут к нему гитлеровские автоматчики... Товарищ в большой беде. Надо помочь. Но как? Стали обстреливать бегущих фашистов, те залегли. Время выиграно. А дальше что?
Тут на выручку пошел Сергей Луганский. Приземлился рядом с машиной Ивана, тот забрался к нему в тесную кабину... А самолет Луганского не взлетает. Уже потом выяснилось, что Глухих, забираясь в кабину, нечаянно выключил зажигание. Теперь настала очередь Володи Козлова. Посадил свой самолет рядом, не выключая двигателя, показал обеими руками книзу: хватайтесь, мол, ребята, за «ноги» шасси...
— Двух вещей боялся я,—сказал Володя Козлов.— Привык сразу на взлете убирать шасси. До автоматизма Теперь убирать нельзя. И не убрал. Второе: хотя ребята пристегнулись поясными ремнями к стойкам, но каково им там под ураганным ветром! Как ни старайся лететь потише, а меньше двухсот в час невозможно. А это метров полсотни в секунду... Ничего, выдержали хлопцы. Когда прилетел, не могли они самостоятельно не только ремни расстегнуть, но даже разжать онемевшие пальцы... Вот такой был Серега. Товарищей в беде не бросал.
О том, что и сам их не бросил, Володя умолчал. И спросил, подумав:
— Вы-то, ребята, его лучше знаете. Еще с аэроклуба, Я ведь в Оренбург из Тулы приехал.
Стали вспоминать, каким был Луганский в Алма-Атинском аэроклубе.
Задумался Байтурсун Есеркепов, вспоминая давние времена:
— Знаете, ребята, не учился он с нами в аэроклубе, хотя встречались мы часто...
Действительно, когда аэроклубовские планеристы в тридцать шестом тренировались на склоне Кок-Тюбе, Сережа, чей дом был рядом, безотлучно находился при них целые дни. Полет на планере длится считанные минуты, потом всей группой поднимают его на плечи и снова тащат на гору, к месту старта. И всегда помогал им белобрысый Се-режа. Вот и стали считать его своим. А на будущий год, когда начались полеты на У-2, Луганский больше не появлялся. Встретились уже в Оренбурге, в четвертой учебной авиаэскадрилье. Проучился Сергей уже целый год, и алмаатинцы, которым зачли аэроклуб, оказались вместе с ним курсантами второго года обучения.
После училища направили лейтенанта Луганского в Ленинградский военный округ. Вместе с Николаем Муровым, сокурсником, оказался в 49-м истребительном авиаполку. Здесь все чаще повторялись слова о том, что приучаться надо к условиям, «максимально приближенным к боевым». Их не уставал повторять часто навещавший полк командующий ВВС округа комбриг И. И. Копец.
Осенью тридцать девятого прилетел вместе с ним Климент Ефремович Ворошилов. Нарком внимательно присматривался к жизни и учебе летчиков. А вечером приказал собрать личный состав. Сказал, что Гитлеру удалось разрязать мировую войну. Партия и правительство делают все для того, чтобы наша страна не была втянута в нее. Для этого и заключен договор с Германией о ненападении. Надо полагать, что это только передышка. Надолго ли — неизвестно. И о том, что ЛВО —пограничный округ, что в каких-то тридцати километрах от Ленинграда затеяли на границе подозрительную возню белофинны, вооружаемые как гитлеровской Германией, так и ее противниками, великими державами Западной Европы. На предложение передать нам карельский перешеек в обмен на территорию, превосходящую его в несколько раз, белофинны ответили всеобщей мобилизацией и рядом пограничных провокаций...
Будьте бдительны, товарищи!
Такими словами закончил свою речь народный комиссар.
Справедливость этих слов понимали все. Боевой учебе отдавались всей душой. А в военном городке мирная жизнь шла своим чередом. Справлялись свадьбы. Рождались дети. Обзавелся семьей и Сергей Луганский. Его женой стала красавица и великая труженица Маша — Мария Аркадьевна Кухаревская.
Финская кампания длилась недолго, но научила она многому.
Военная служба требует постоянной боеготовности. Это давно стало фактом сознания, а прочувствовано было 30 ноября 1939-го, когда сигнал тревоги созвал личный состав на аэродром.
Наземные войска остановились перед «линией Маннергейма»— сложной системой инженерных сооружений, дотов, перед которыми были бессильны пушки и гаубицы малых и средних калибров. Надо помочь пехоте, но сутками приходилось дожидаться летной погоды. И встречи с «фоккерами» оказались не таким уж простым делом (финские воздушные силы имели на вооружении истребители американской фирмы «фоккер», довольно известной в двадцатые и тридцатые годы; ничего общего у них не было с «фоккевульфами», появившимися у фашистской Германии во время второй мировой войны, которые для краткости тоже называли «фоккерами»). Не ахти какой аэроплан, а все же выяснилось, что пулемет, пусть и скорострельный, слабоват против «фоккера», нужны истребителям пушки. Да и сам И-16, кажется, начинает устаревать.
«Сюрпризов» война подбросила немало... В феврале 1940-го было дело. Повел комэск Иван Попов эскадрилью на прикрытие наземных войск. Был в этой группе и Сергей, Шли на малой высоте. Случайный артиллерийский снаряд опрокинул и сделал неуправляемым его самолет. Пришлосьпрыгать. Плохо закрепленные перед вылетом унты сорвало с ног. Приземлился на нейтральной полосе в одних носках при адском морозе. Вот тебе и «мелочь»! От «кукушек» удалось уйти. Но едва ли добрался бы на свой аэродром, если бы не. подоспел и пехотинцы, верные закону войскового товарищества... И обидно было узнать, что без него группа Ивана Попова сбила два самолета противника. «Успеешь навоеваться,— утешал Сергея комэск. И не ошибся. Появились и на счету Луганского сбитые вражеские самолеты.
Весна сорок первого застала полк, в котором служил лейтенант Луганский, заместитель командира эскадрильи, в авиагородке близ Ростова-на-Дону. Была у него своя квартира в ДК — доме комсостава. Воскресным утром вышел на балкон и удивился: что-то шумно на аэродроме, техники и механики расчехляют самолеты. С чего бы это? Прибежал посыльный: «Товарищ лейтенант, объявлена тревога». Быстро оделся, Маша подала всегда готовый «тревожный чемодан», только успела сказать:
— Сережа, мне кажется... это надолго...
Полк был вооружен самолетами ЛаГГ-3. Внешне эта машина выгодно отличалась от «и-шестнадцатого». Скорость больше, пушки вместо пулеметов, летчик защищен бронеспинкой. Но первые воздушные бои показали, что уступает ЛаГГ вражеским истребителям. Так и выложили летчики начистоту, когда приехал сотрудник конструкторского бюро С. А. Лавочкина, и выслушали заверение, что в последующей модификаций недостатки будут устранены. Так и оказалось. Самолеты Сергея Лавочкина получили широкую известность. На истребителях Ла-5 и Ла-7 сбил 62 самолета противника Иван Кожедуб, трижды удостоенный звания Героя Советского Союза. Но все это было потом.
А враг, используя преимущества в технике и вооружении, приближался к Ростову. Летали теперь из района Таганрога прикрывать от вражеских бомбардировщиков наземные войска, защищавшие Ростов из последних сил. И сбивали-таки хваленые «юнкерсы».
Довелось в те дни Сергею Луганскому выполнить горькое задание командования: помочь семьям офицеров, в том числе Маше и грудной Лариске, эвакуироваться за Дон... Когда еще удастся свидеться? И удастся ли?
А над вокзалом появился стервятник. Именно стервятник. Без кавычек. Убедившись, что объект зенитным огнем не прикрыт, гитлеровец снизился и стал методично обстреливать вокзал и запруженную людьми привокзальную площадь. Сбросил бомбы и ушел.
«Вот как они, оказывается, воюют, эти нелюди. Только фашисты поганые так поступают»,— подумал Сергей. Не мог он предвидеть, что этот же метод много лет спустя будет принят на вооружение палачами, истреблявшими вьетнамцев, ангольцев, палестинских арабов.
Бессильный на земле, летчик наливался ненавистью. «Ничего,— шептал он,— доберемся и до ваших городов...»
И подумал горестно: «Добраться-то мы доберемся, но убивать мирных жителей никогда не научимся». Так оно и было в сорок пятом. Видели наши солдаты толпы немецких беженцев, и картина эта вызывала у них только жалость.
И ненависть к гитлеровцам, обрекшим на муки собственный народ.
Прошло много лет, появились цифры о наших потерях в Великой Отечественной. Наивные люди удивлялись, узнав, что они вдвое больше, чем у поверженного врага. Сергей Данилович не удивлялся. Он помнил ростовский вокзал осени сорок первого. Помнил сотни Хатыней, уничтоженных гитлеровцами вместе со всеми населявшими их жителями — от стариков до грудных младенцев. А в открытом бою... «Били мы их в открытом бою. И в воздухе и на земле».
.После гибели Ивана Попова полк принял майор Федор Телегин. Он как-то сразу подружился с комиссаром полка, которого летчики уважали не только за бесстрашие и летное мастерство (Кузьмичев прежде работал инструктором в Качинской авиашколе), но за ясность мышления, принципиальность и доброту. Даже в самые тяжелые и горькие дни отступления он сохранял уверенность в нашей победе. И раз понравился новый командир комиссару, значит, человек он стоящий. Еще больше возрос авторитет Телегина, когда он развил перед летчиками свою идею.