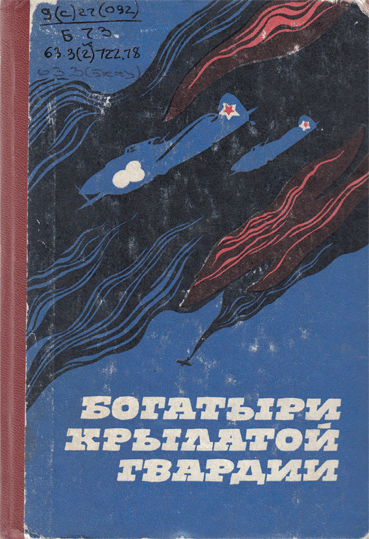Богатыри Крылатой Гвардии — П. С. Белан – Страница 9
| Название: | Богатыри Крылатой Гвардии |
| Автор: | П. С. Белан |
| Жанр: | История |
| Издательство: | |
| Год: | 1984 |
| ISBN: | |
| Язык книги: | Русский |
| Скачать: |
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
На мгновение опоздал немецкий ас, снаряды пронеслись чуть выше садящегося самолета... Если произвести посадку, Он едва ли промажет вторично. Луганский убирает шасси, самолет медленно набирает скорость... И теперь он ещё беспомощен перед врагом. Стреляет фашист. Конечно, во второй раз он не промазал. Разбит фонарь, приборная доска — вдребезги, Но жив летчик. И не потеряла способности к полету машина, украшенная многими звездочками— по количеству побед — и дарственной надписью алмаатинцев... Скорость уже набрана. Значит — можно воевать! И на вертикали, и на глубоких виражах, когда темнеет в глазах от многократных перегрузок. Спасибо конструктору: его машина легче «мессера», радиус виража меньше. Украшенный пиковым тузом «мессершмитт» оказался в прицеле. Только одна очередь — и загорелся фашистский самолет. Приземлился он в трех километрах от аэродрома, где дислоцировался полк Луганского. Конечно, нетрудно добить его, но пленный может пригодиться командованию. Надо посмотреть на его поведение... Оно оказалось благоразумным. Когда подъехали к нему летчики, он первым делом бросил на землю свой пистолет...
На другой день в полк прибыл командующий 2-м Украинским фронтом генерал армии (впоследствии Маршал Советского Союза) И. С. Конев. Его сопровождали командир корпуса и командир дивизии. Познакомился маршал с командиром полка, боевой счет которого перевалил за тридцать сбитых вражеских самолетов, с другими летчиками. И тут же распорядился представить капитана Луганского к награждению второй Золотой Звездой Героя Советского Союза.
В июле 1944 года Герой Советского Союза С. Д. Луганский Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден второй медалью «Золотая Звезда». Приходили многочисленные поздравления — от командующего фронтом, от командования воздушной армии, корпуса, дивизии, от полков штурмовой авиации, наземных войск, товарищей но оружию. Отпраздновать бы это событие. Но война есть война.
Шли ожесточенные наступательные бои. Теперь, когда наша авиация явно господствовала в воздухе, истребители все чаще могли себе позволить «свободную охоту». Поручалась она только самым опытным летчикам. Отправлялись в поиск парой. Задача — подстеречь воздушного противника, неожиданной атакой сжечь его и уйти. Очень продуктивна «охота». И мастерства—летного и тактического — требует самого высокого. И хотя замполит Иван Федорович Кузьмичев всегда возражал, командир полка то и дело отправлялся «поохотиться» со своим верным напарников Героем Советского Союза старшим лейтенантом Евгением Меншутиным-
Так было и на этот раз. На большой высоте пересекли линию фронта и направились к неприятельскому аэродрому подстерегать добычу. Неожиданно показалась пара «мессершмиттов». Они шли встречным курсом. Тоже, видимо, на «свободную охоту». Нет, не будет сегодня «легкой добычи». Неминуем бой. С серьезным противником. Вон как раскрашен ведущий «мессер», по всему видать — ас. Любят гитлеровцы украшать свои машины всякими эмблемами. «Яки» нырнули в облака, делая вид, что избегают боя. Расчет был прост: «мессершмитты» непременно станут подстерегать их под облачностью. Вот уже видно сквозь редеющую пелену: ждут... Высота—большое преимущество. Луганский пикирует на ведущего, Евгений Меншутин — на ведомого. Женя промахивается редко. Горит его «подопечный», А тот, по которому ударил Сергей, не загорелся. Без маневра он круто планирует к земле. Хитрит? Нет. Видимо, убит летчик. Или ранен. Раскрашенный, как новогодняя елка, «мессер» упал на нейтральной полосе.
А майор Луганский недоумевал: как же так, бил по бензобакам, а «мессер» не загорелся. Почему бы это? Обследовали сбитый самолет техники и доложили, что появилась у немцев новинка. Баки плотно обтянуты толстым слоем резины. Любое появившееся отверстие тут же затягивается, а без доступа воздуха бензин, как известно, не горит...
Настал час, когда наши войска вступили на землю братской Польши. Вместе с ними — полк Сергея Луганского. Теперь он именовался так: 152-й гвардейский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского истребительный авиационный полк. Не забыть, как тепло и радостно встречали освободителей простые люди этой многострадальной страны, народ которой испытал множество бед от оккупантов и от провокационных действий буржуазных националистов, подстрекаемых так называемым «польским правительством в эмиграции».
Весной 1944-го довелось Сергею Луганскому встретиться с американскими коллегами —делегацией, возглавляемой маршалом авиации США.
Мы ждали открытия второго фронта в сорок втором, в сорок третьем. Но союзники не торопились, Лишь летом сорок четвертого, когда убедились они, что вошли мы в силу настолько, что и без них управимся с фашистами, высадились наконец на французской земле.
Наступали союзники, не встречая серьезного сопротивления. Правда, зимой сорок пятого гитлеровцы решили напомнить англо-американским войскам, что с ними следует считаться, и ударили... Чтобы спасти союзников от полного разгрома, пришлось советским войскам начать наступление намного раньше, чем это планировалось. Отвлекли врага на себя, и бегство союзников приостановилось...
А эта встреча состоялась, когда второй фронт еще не был открыт. Правда, бомбардировщики Б-29 —«летающие Крепости»—воевали. Прямо скажем, хорошие были самолеты. По ленд-лизу они к нам не поступали... Проводились на этих машинах челночные операции. Американцы взлетали с аэродромов, расположенных в Италии, сбрасывали десятитонный бомбовый груз на вражеские узлы сопротивления и садились на предоставленном им советским командованием аэродроме в районе Полтавы. Здесь они отдыхали, заправлялись бомбами, горючим и — в обратный путь.
6 полку, конечно, были наслышаны о «челночниках» и относились к ним с уважением. Что ни говори, а летчики настоящие — умелые, смелые. Не так это просто: отправляться ночами в долгий путь — на полную дальность «летающей крепости», точно выйти на защищенную зенитками цель, успешно ее обработать и, отдохнув на аэродроме, отправиться в обратный путь с новым грузом бомб. Но в целом союзники в войну еще не включились. Выжидали.
Члены делегации, вкусив русского хлебосольства, въедливо ко всему присматривались, разговоров о втором фронте избегали, а сами задавали множество вопросов. Откровенно удивлялись они, увидев, как советские истребители и бомбардировщики целыми дивизиями вылетали для массированных ударов по вражеским войскам. В таких масштабах войну они не видели.
Попросили гости показать им воздушный бой. Полетели Иван Федорович Кузьмичев и Николай Шутт. Показали такую отчаянную «карусель», что американский маршал диву давался. А один из делегатов решил, видимо, отстоять честь американских ВВС и пригласил командира полка на показательный бой. Полетели. Луганский на «яке», гость — на «аэрокобре». Неплохая машина, комфортабельная, хорошо вооружена. Александр Покрышкин воевал на ней и лишь к концу войны пересел на отечественную. В общем, самолет как самолет. А вот в летном мастерстве американский летчик, хоть и полковник, заметно уступал своему партнеру. Как вцепился Луганский в хвост «кобре», так и не оторваться было от него американцу, как ни старался, какие эволюции не применял... На прощание обменялись с американским коллегой сувенирами.
Вскоре появилась в небе четверка фашистских охотников-асов. Об их высокой квалификации говорило то, что фюзеляжи у них были выкрашены в ярко-красный цвет. Эту вольность позволяли себе только именитые летчики люфт-ваффе.
Сергей Луганский выходил на свободную охоту по-прежнему — в паре.
— Смотри, не напорись на четверку «крашеных»,— говорили товарищи. А он отшучивался:
— Небо-то велико, пятый океан... Небось, разминемся.
Не разминулись. Вот они, идут на сближение. Все—-
с красными фюзеляжами, все — асы. Уйти? Едва ли станут они догонять, если попытаться уйти. Но не таков Луганский. Применили привычный маневр, ушли в облачность. Если удастся сразу же избавиться от двух «мессеров», станет легче: силы сравняются. Замполиту команду по радио отдавать не надо, опытный летчик, все понимает. Вынырнули из облачности на потерявших их из виду асов и сожгли двоих. Теперь силы равные. Но это равенство противника не устраивало. Набрав на крутом пикировании максимальную скорость, они поспешно ушли от греха...
Так повелось у летчиков, что всегда знают они все друг о друге. Перемещаются из части в часть — на новые должности, в связи с переучиванием на новый тип самолета, по другой ли причине — узнают новые сослуживцы, откуда новичок. И обязательно спросит его кто-нибудь о судьбе давнего знакомого. А уж если доведется встретиться, то встречаются как давние друзья. «Ты Иван Кожедуб? Здорово, Ваня, а я Митя Глинка». Так, или примерно так представлялись друг другу летчики, знакомые прежде только заочно — по фронтовой радиоразноголосице, рассказам товарищей, газетным сообщениям.
Вот так познакомился Сергей Луганский с Александром Покрышкиным. Встречались редко, а называли друг друга запросто по имени.
Повел майор Луганский свой полк на прикрытие штурмовиков. А тысячи на полторы метров выше увидел восьмерку истребителей. Наши, с красными звездами. Запросил по радио, кто это. Оказалось: Александр Покрышкин.
— Если будет трудно, помоги.
Не беспокойся, Серега. Надо будет, позови.
Только приступили штурмовики к работе, как появились истребители противника. Двумя группами: одна явно нацелилась на «ильюшиных», другая пытается связать боем истребителей Луганского. Бои с «мессершмиттами» - дело привычное. Но сейчас главное — не дать в обиду штурмовиков, таков закон взаимодействия в авиации. Бросился навстречу врагу. А «мессеров» все больше, еще одна четверка появилась, потом еще... Дело худо, прорвутся, чего доброго к штурмовикам... Где же Покрышкин? А он тут как тут. Нагрянула сверху восьмерка «аэрокобр»— и в одно мгновенье подожгла два вражеских истребителя. Еще двоих сбили «яки» Луганского.
Убрались на запад «мессершмитты». Ну, а как наши штурмовики? Работают себе спокойно, уверены в надежности прикрытия. Закончили, помахали крылышками: «Спасибо за „шапку”. Молодцы, истребители! Видели, как вы „худых“ поджарили. Домой придем — подтверждение напишем: пару ты с ребятами завалил, другую—покрышкинцы».
А у врага вскоре появилась новинка. За считанные недели до окончания войны.
Вернулся с задания один из летчиков и рассказал, что встретился ему странный самолет. Винта нет. В полете за ним огненный шлейф тянется. Скорость — невероятная... Почудилось парню, что ли? Нет, не почудилось. Спустя несколько дней встретился такой и другому летчику. Несся этот аппарат с фантастической скоростью. Наш летчик едва успел отвернуть в сторону и пустил чудищу вдогонку меткую очередь. Собрали потом его обломки — упал-то он на нашей территории — и рассмотрели поближе. Да, винта самолет не имеет, реактивный на нем двигатель.
Далек был этот самолет от совершенства. Запас горючего маловат, маневренности никакой. Одно достоинство— скорость. Отчаяние заставило фашистов бросить в бой эту недоработанную модель.
Уже позднее, в академии, Луганский узнал, что с конца сороковых годов идея реактивного двигателя разрабатывалась в ряде стран. Инженеры-конструкторы А. Я. Березняк и А. М. Исаев создали самолет БИ-1 с жидкостно-реактивным двигателем, а летчик-испытатель Григорий Бахчинваджи поднял его в воздух. Когда благополучно посадил машину, увидел транспарант: «Привет Грише Бахчинваджи, совершившему первый полет в будущее». Это будущее настало вскоре после окончания войны.
Бои шли уже на территории Германии, когда на командном пункте полка зазуммерил телефон: гвардии подполковника Луганского вызывает к себе командующий фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев. Беседа была недолгой. Маршал приказал сдать полк и немедленно отправиться в Москву, на учебу. Конечно, Луганский пытался отказаться, скоро, мол, война окончится, тогда —пожалуйста. И услышал в ответ: «Надо ехать».
Архивы сохранили боевую характеристику на командира 152-го гвардейского истребительного авиаполка, написанную командиром 10-й гвардейской авиадивизии генералом Баранчуком в начале 1945 года:
«Политически развит хорошо. Идеологически выдержан, морально устойчив. Военную тайну хранить умеет. В повседневной работе проявляет бдительность. Общее развитие хорошее. Много работает над повышением своих теоретических знаний. Опыт Отечественной войны изучает систематически и умело передает его своим подчиненным. Связь с массами и партийно-комсомольскими организациями хорошая, правильно нацеливает личный состав на выполнение стоящих боевых задач.
В работе аккуратен, инициативен, исполнителен. Личная требовательность к себе и подчиненным хорошая. Решительный, свои решения провести в жизнь может. Смелый и настойчивый офицер. Волевыми качествами и командными навыками обладает достаточно.
За время Отечественной войны приобрел богатый боевой опыт, который сейчас дополняет теоретическими знаниями в процессе личной и командирской учебы. Личная тактическая подготовка вполне удовлетворительная. Специальная подготовка хорошая. Самолетами Як-1, Як-7, Як-9 владеет отлично, летает на них смело и уверенно. Стрелковая и бомбардировочная подготовка — хорошая. Летных происшествий не имеет. В боевой работе служит примером для своих подчиненных. Заслуженно пользуется деловым и политическим авторитетом среди личного состава. О подчиненных проявляет заботу.
Физически развит хорошо, состояние здоровья хорошее. В работе вынослив и напорист.
За второе полугодие 1944 года полком произведено 1295 боевых вылетов на сопровождение и прикрытие штурмовиков над полем боя и 578 учебно-тренировочных полетов по вводу в строй молодого летного состава. Проведено 44 групповых воздушных боя, в ходе которых сбито 43 самолета противника...
За это время полк принимал участие в боевых операциях за освобождение Львова и завоевание Висленского и Сандомирского плацдармов, за что полку присвоено наименование Сандомирского. Полк сколочен, личный состав к выполнению боевой работы подготовлен, политиков моральное состояние хорошее...
Вывод: занимаемой должности командира истребительного авиаполка соответствует».
Это была последняя боевая характеристика.
Много лет спустя Сергей Данилович так описал прощание с боевыми товарищами своими: «Длинный строй полка. Знакомые, ставшие родными, лица товарищей. Мы обнимались, целовались и клялись найти друг друга после войны — не терять фронтового товарищества».
Верность этому товариществу Луганский сохранил на всю жизнь.
Он поехал в Москву на подаренном маршалом «мерседесе». Видел разрушенную Варшаву, руины Бреста, Минска, Смоленска... Ах, как хотелось вернуться в полк и дойти с ним до Берлина... Но приказ есть приказ.
Военно-воздушная академия, носящая ныне имя космонавта-1 Юрия Гагарина, была создана в 1940 году. И работала, как и все остальные военно-учебные заведения, все годы войны без перерыва. Не сразу это смог понять Сергей Данилович: такая идет война, а летчики, хорошо подготовленные летчики, за партами сидят. Не вдруг даже вспомнил, что в соседние полки уже приходили ее питомцы, прошедшие ускоренный курс военного времени и отлично себя зарекомендовавшие на командных постах. Видимо, большая мудрость в том, что в ходе войны, как тяжело ни приходилось порою на фронте, люди учились. Во имя завтрашнего дня наших Вооруженных Сил.
Со многими давно заочно знакомыми летчиками сошелся здесь Сергей Данилович. Не одного его засадили за учебу. Со временем рядом оказались трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, известные на всех фронтах авиаторы Дмитрий Глинка, Василий Ефремов, однополчанин Николай Гуляев, другие кавалеры Золотой Звезды, многих боевых орденов.
А учиться совсем не легко. Скорее — трудно, хотя первые месяцы и были посвящены общеобразовательным предметам. Лекции, семинарские занятия — согласно расписанию. И самоподготовка — по мере сил человеческих и свыше того. Включая выходные дни. Впрочем, были и праздники. Первомай. День Победы. А 24 июня — Парад Победы. Сводный полк, впереди которого шел командующий 1-м Украинским фронтом маршал И. С. Конев, четким строем прошел мимо мавзолея Ильича. Шел в этом строю и гвардии подполковник Луганский. А после Парада -прием его участников в Кремле.
И скова учеба. Продолжалась она до мая сорок девятого, когда Сергей Данилович, получив диплом об окончании командного факультета Военно-воздушной академии, отбыл к новому месту назначения.
Должность обязывала гвардии подполковника учить молодых летчиков, большинство которых не прошло строгой и беспощадной к «неуспевающим» школы войны. Учить воевать. На освоенном боевом опыте. И на совершенно новых — с реактивной тягой — самолетах, которые только начали появляться в войсках. Учить и учиться самому.
А чем, собственно, занимался он все годы после окончания училища? Учился и учил. Непрерывно. Скоротечна жизнь на войне, меняется и совершенствуется материальная часть — своя и противника. Совершенствуются приемы и способы ведения воздушного боя — свои и противника. И он летал. Летал. Летал. Сотни боевых вылетов. Сотни победных воздушных боев. Это ли не учеба!
Академия упорядочила знания, по-новому заставила взглянуть на собственный жизненный и боевой путь. Преподаватели научили оперативному мышлению, пониманию роли истребительной авиации в системе Военно-Воздушных Сил, их общего назначения в едином комплексе Вооруженных Сил страны.
Иные товарищи по выпуску были направлены на крупные штабные должности. Сергея Даниловича эта работа не прельщала. В одной из характеристик на слушателя Луганского отмечалось, что не проявляет он особого интереса к штабной работе. Его это не обидело: правильно подмечено. Его дело — учить летчиков — командиров полков, эскадрилий, звеньев — всему, что усвоил на войне, чему научился в академии, чему еще предстоит ему научиться в ходе дальнейшей службы. Ведь уровень развития военного дела в сущности оставался прежним. Даже возрос. Не успела закончиться вторая мировая война, как прозвучала поджигательская речь Черчилля в Фултоне, ц вчерашние союзники объявили нам «холодную войну». Вот уже и ядерным оружием размахивают. А чтобы «холодная» не переросла в горячую, подлинную, требуется от всех, кто посвятил свою жизнь военному делу, постоянная боеготовность. А этому учиться надо. И подчиненных учить тому же.
Летчики переучивались на новую материальную,часть— самолет-истребитель конструкции давнего конструкторскго содружества А. И. Микояна я М: И. Гуревича — МиГ-15—»так назывался их первенец, снабженный турбокомпрессорным реактивным двигателем. Машина оказалась не только скоростной, но и высокоманевренной, легкой в управлении. В руках мастера, разумеется. Вот и готовил теперь таких мастеров гвардии подполковник Луганский, Продолжалась эта работа два года. В звании гвардии полковника и Должности командира того же соединения, А затем — и другого, которое ему предложено было командованием «подтянуть».
Опыт войны, а главное — развитие новой боевой техники -привели к новой организации Вооруженных Сил страны. Одним из ее видов стали войска ПВО, получившие самостоятельное Главнокомандование. Гвардии полковник был назначен в истребительную авиацию противовоздушной обороны. На «мигах» последующих модификаций. Со сверхзвуковыми скоростями, с еще более мощным — не только пушечным, но и ракетным — вооружением.
Искусство перехвата и уничтожения вражеских самолетов. И на фронте осуществлялся перехват. Примитивные радиолокаторные станции того времени засекали идущий в разведывательный полет на большой высоте Ме-110. Срочно поднимались в воздух дежурные истребители, чтобы встретиться с ним в расчетном месте, на расчетной высоте и наказать. Теперь перехват стал иным. «По-зрячему» Летчик его не осуществит. Потребовались офицеры самой высокой квалификации для работы на командных пунктах, где по точным данным электронной техники осуществляется «проводка» каждого самолета, опознается его государственная принадлежность, принимается решение, как быть с «чужаком».
Так было и в начале мая шестидесятого, когда командные пункты ПВО засекли американский самолет-шпион Пауэрса, едва пересек он нашу границу на самом юге Страны. Каждое изменение в направлении и высоте полета тут же заносилось на карты-планшеты. Пауэрс все дальше углублялся в нашу территорию. Он и не подозревал, что зорко следят за ним операторы радиолокационных станций, навигаторы и планшетисты. Не знал, что ему просто разрешают продолжать полет. До поры до времени. Фотографирует важные объекты? Пусть. Все равно не вернуться ему с данными разведки на свою базу.
Тем и отличается служба в войсках ПВО, что она постоянна и непрерывна, как, скажем, в пограничных войсках. Нелегко исполнять здесь ответственные командные должности. И постоянно при этом летать и проверять летную выучку подчиненных.
Здоровье летчика должно быть идеальным. За этим неусыпно следят специалисты — авиационные врачи. И не считаются они с чинами и званиями. Однажды осмотр состояния здоровья генерал-майора авиации Луганского затянулся. Снова и снова ощупывали его врачи, направляли на повторные анализы. И 22 декабря 1964 года — эту дату генерал запомнил на всю оставшуюся жизнь — вынесли свой приговор: ограниченно годен к военной службе. Это означало, что генерал может продолжать службу в истребительной авиации ПВО только на такой должности, исполнитель которой не должен летать.
Служить в авиации и «ходить пешком»! Не мог он на это согласиться. И сорокасемилетний генерал решил уйти в запас.
Болезнь оказалась серьезнее, чем мог предположить Сергей Данилович, не очень-то веривший поначалу в справедливость решения врачебно-летной комиссии. Она прогрессировала исподволь, но неумолимо. И обернулась инсультом, надолго уложившим никогда прежде не болевшего летчика в госпиталь. Пошел проведать давнего друга Владимир Яковлевич Козлов, прекрасный летчик, уволенный из армии в запас по решению такой же BЛK. Вернулся и сказал бывшим сокурсникам: «Плохо с Серегой, ребята. Не узнал он меня. Страдает от болей...».
Подняли Сергея Даниловича врачи на ноги. Теперь он всех узнавал, но речь не восстановилась. Он скончался 16 января 1976 года в Алма-Ате, городе, где начал и где довелось завершить ему свой жизненный путь.
Иван Дьячков
ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ВЫЛЕТОВ ИВАНА ПАВЛОВА
ван Фомин Павлов родился 25 июня 1922 года в селе Борис-Романовка Боровского района Кустанайской области. Летному делу учился в Магнитогорском аэроклубе и военно-авиационной школе пилотов в Оренбурге. В 6-м гвардейском штурмовом авиаполку прошел путь от рядового пилота, сержанта до командира эскадрильи и штурмана полка, гвардии капитана. Совершил 250 боевых вылетов на штурмовку, лично сбил три самолета врага, Звание Героя Советского Союза присвоено ему 4 февраля 1944 года, второй Золотой Звездой награжден 23 февраля 1945-го. В 1949 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и был назначен командиром авиационного полка. 12 октября 1950 года майор Павлов погиб при исполнении служебных обязанностей. Его бюст установлен в городе Кустанае.
Город праздновал День Воздушного Флота. Множество людей собралось на аэродроме аэроклуба. После показательных полетов катали на самолетах ребятишек. Желающих было много. Среди них нетерпеливо ожидал своей очереди худенький русоволосый подросток Ваня Павлов.
Самолет побежал по травяному полю. Мальчик не заметил, когда машина оторвалась от земли, только почувствовал, как легкий приятный страх охватил его, и все вокруг стало быстро уходить куда-то вниз. Он не смотрел за борт, а неотступно следил за тем, как летчик управлял машиной. Это показалось до того простым, что хоть сейчас Взялся бы заменить пилота. «Так,— про себя рассуждал он,— нажал ногой на левую педаль — самолет повернет влево, на правую — самолет вправо...»
Вдруг в груди словно что-то оборвалось, руки невольно ухватились за сиденье. Самолет неожиданно слегка «клюнул носом», но ничего страшного не произошло: он пошел На посадку. Дома радость Вани не вызвала восторга.
— А если бы самолет упал?—всплеснула руками Саломея Ивановна.
— Что ты, мама,— удивился мальчик,— у него же крылья, он как ласточка, спланирует, если откажет мотор-
Инструктор объяснил.
— Спланирует,— сокрушенно кивнула мать.— Всюду лезешь, неугомонный...
Осенью 1936-го Павловы переехали в Магнитогорск. В те годы появилось у мальчика новое увлечение — техника. Как-то взялся починить остановившийся будильник. Бился долго. Но часы пошли. Еще больше маялся, приспосабливая электрический моторчик к бабушкиной прялке. И получилось в конце концов.
Старший сын Павловых Михаил учился теперь в военно-политическом училище. Писал часто. Младшему брату в особицу. Советовал, какие книги прочитать, сообщал о полетах Чкалова, Громова, Коккинаки. Ваня, конечно, знал о них и с восторгом отзывался в письмах к Михаилу.